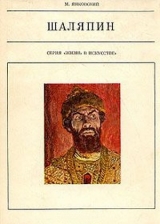
Текст книги "Шаляпин"
Автор книги: Моисей Янковский
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 30 страниц)
В этом соревновании, которое сделалось злобой дня в художественных кругах столицы, победителем вышел Мамонтовский театр, показавший произведения русских композиторов.
Характер соревнования определился уже на первом представлении московской оперной труппы, которая для открытия гастролей показала «Садко», так недавно отвергнутого царем. Деятель «Могучей кучки» Цезарь Кюи, поспешивший откликнуться на открытие спектаклей москвичей короткой предварительной заметкой, констатировал в ней:
«Зал был переполнен, но так называемый „Tout Peterbourg“ [5]5
Весь Петербург (франц).
[Закрыть]отсутствовал. Оно и понятно: нашему бомонду не важно что, но важно кто и где. Если бы представление „Садко“ состоялось на Мариинской сцене в русской опере, они были бы налицо, но на частной сцене – fi donc!.. [6]6
Фу! (франц.).
[Закрыть]„Tout Peterbourg“ счел своим долгом отвернуться от отечественного и преклонился перед иноземным, из опасения, как бы какой знатный иностранец не заподозрил его в недоразвитости. Трудно развиваться искусству при таком отношении к нему высшей интеллигенции (?). И, однако, наше музыкальное искусство продолжает блестяще развиваться, такова сила энергии и убеждения талантливой группы наших композиторов».
Реакционный музыкальный критик из газеты «Новое время» М. Иванов поспешил поднять перчатку, брошенную Цезарем Кюи, и выступил со статьей, в которой счел необходимым подчеркнуть, что и Вагнер в «Кольце Нибелунга» пользовался эпосом, но что, дескать, у Вагнера использование народного творчества представляет образец преодоления примитивного сырья, в то время как Римский-Корсаков, к сожалению, дал возможность в «Садко» предстать народному творчеству и былинам в их чистом, неискаженном виде.
Сразу стало очевидно, что гастроли Мамонтовского театра пройдут в атмосфере жаркой полемики. Так и случилось. Основным объектом для нападок стал Шаляпин, о котором с горячей симпатией высказался Стасов. Этого было достаточно нововременцам – они обрушились на молодого певца, утверждая, что успех его искусственно раздут, что Шаляпин не заслуживает той высокой оценки, которую с недавних пор стали давать ему.
То, что каждый спектакль с участием Шаляпина вызывает горячее одобрение петербургской публики, что молодой артист поддержан бывшими «кучкистами», поет произведения Мусоргского и Римского-Корсакова, вызывало ярость нововременского критика Иванова.
По поводу Шаляпина в роли Грозного Иванов, которого Стасов в заголовке одной из своих полемических статей назвал «уморительным критиканом», писал:
«Совершенно равнодушным оставил меня г. Шаляпин, о котором так закричал г. Стасов в „Новостях“. Я не хочу сказать, что доверяю суждениям г. Стасова, совсем напротив; но все-таки, когда вдруг слышишь большой шум даже на улице, невольно останавливаешься, невольно ожидаешь встретить что-нибудь необычайное; конечно, зачастую и разочаровываешься.
Разочароваться мне именно и пришлось в г. Шаляпине на представлении „Псковитянки“. Г. Шаляпина мы, петербуржцы, усердно посещавшие Мариинский театр, знали очень хорошо: хороший, мягкий голос и дарование, обещавшее развернуться в будущем. Некоторые роли он проводил удачно, другие – например Руслана – ему совершенно не удавались. Зависело это, вероятно, не только от недостатка у него сценической опытности, но и от недостаточного круга пройденных им вокальных занятий в момент поступления его на Мариинскую сцену.
Затем, в прошлом году г. Шаляпин, пробывши на нашей сцене приблизительно полтора сезона, перешел на московскую сцену к г-же Винтер. Тут с талантом его начинается неожиданная метаморфоза. Не прошло и месяца после его отъезда из Петербурга, как в Москве о нем стали говорить, как о выдающейся, исключительной сценической силе. Кажется странным, что простой переход из стен одного театра в стены другого мог влиять таким образом на расцвет дарования. Легче можно было бы объяснить такие похвалы обычным антагонизмом Москвы и Петербурга, только редко сходящихся в художественных приговорах. Не могли же петербургская критика или посетители театра проглядеть дарование артиста или не заметить голос певца; не такие это трудные вещи для понимания! Действительно, его достоинства и были своевременно отмечены всеми, да и не могли пройти незамеченными. Г. Шаляпину приходилось довольно часто выступать на Мариинской сцене в ролях его репертуара; его там не прятали. Но чем черт не шутит! Может быть, и в самом деле проглядели исключительное дарование г. Шаляпина!»
И дальше М. Иванов, разбирая партии Досифея, Вязьминского и, главным образом, Грозного, ведет читателя к убеждению, что слава Шаляпина раздута, что он по преимуществу обращает внимание на внешнюю сторону образа, в частности в «Псковитянке» повторяет мизансцену Грозного из известной картины Репина «Иван Грозный и сын его Иван». Что Грозный в его истолковании преждевременно одряхлей, а это исторически неверно и т. д. и т. п. Смысл статьи в одном – развенчать артиста, вызвавшего огромный интерес, и доказать, что дирекция императорских театров два года тому назад не проглядела его, что оценен он был по достоинству и большего не стоит…
Шаляпин очень болезненно воспринимал наскоки нововременского критика. Он почувствовал, что в столице по-прежнему к нему сохраняется отношение недоброжелательное, в сущности, враждебное. Ему было тяжело от сознания, насколько отличается воздух Москвы от воздуха Петербурга. И еще долгое время спустя он продолжал бояться «лютой столичной критики».
Одно скрашивало его пребывание в столице. Общение с теми людьми, которые недавно тепло пригрели его: с М. В. Дальским, Т. И. Филипповым, В. В. Андреевым. И главное, начало дружбы с Владимиром Васильевичем Стасовым.
Знаменитый русский критик, автор бесчисленного числа работ, посвященных изобразительному искусству и музыке, настойчивый борец за прогрессивное развитие отечественной художественной культуры, Стасов был к моменту знакомства с Шаляпиным человеком в преклонных летах. Казалось бы, разница в возрасте, когда один другому мог бы прийтись дедом, препятствует подлинно равноправной дружбе. Однако, как это ни странно, их отношения очень скоро стали дружбой равных друг другу людей, более того, Стасов, сразу уверившийся в гениальности певца, стал относиться к нему с восторженным поклонением.
Впервые Стасов увидел Шаляпина в Москве, когда приехал посмотреть «Садко». Именно в тот день Федор в первый раз выступил в партии Варяжского гостя, произведшей на петербургского критика сильнейшее впечатление. Он уехал из Москвы с мыслью о том, что был очевидцем рождения большого таланта.
Когда Мамонтовский театр появился на гастролях в столице, на первый же спектакль – «Псковитянка» Стасов пришел вместе со скульптором М. М. Антокольским.
Свидание это послужило началом теснейшей дружбы, прервавшейся только смертью Владимира Васильевича в 1906 году.
Через несколько дней Шаляпин пришел к Стасову в Публичную библиотеку, где тот в течение нескольких десятков лет работал главным библиотекарем. Здесь, за огромным письменным столом, заваленным редкими фолиантами, Стасов любил принимать избранных посетителей. В царстве книги, в храме высокой духовной культуры проводил он свою жизнь, и его энциклопедические знания были приобретены именно здесь.
Возле его стола стояло кресло, ручки которого были перевязаны шнуром, в знак того, что садиться в него нельзя. Стасов развязал шнур и со словами: «Здесь, знаете, сидели: Николай Васильевич Гоголь, Иван Сергеевич Тургенев, да-с!» – предложил Федору сесть в кресло. Это было показателем высшего расположения Стасова: немногие удостаивались подобной чести.
Началась беседа. Шаляпин рассказывал Стасову о своей жизни, о детстве, скитаниях, об Усатове, о том, как недавно служил в Петербурге. Они сидели рядом, увлеченные беседой, как два товарища. И оказалось, что во многом у них вкусы одинаковые, в частности в вопросах музыки, – что любимо, что нелюбимо. Стасов был поражен этим. Он попросил Федора прийти к нему в гости и спеть что-нибудь для небольшого круга ценителей.
1 апреля 1898 года дома у Стасова собралось избранное общество: композиторы Н. А. Римский-Корсаков, А. К. Лядов, А. К. Глазунов, музыканты Ф. М. и С. М. Блуменфельды. Весь вечер Шаляпин пел. Пел Мусоргского, Римского-Корсакова, Бородина…
В этот раз Федор приобрел еще одного друга – композитора Александра Константиновича Глазунова.
Такие встречи перекрывали по своему значению и духовному богатству тяжелое впечатление от безобразных нападок нововременца Иванова, которому Стасов не замедлил ответить статьей-памфлетом под заголовком «Куриная слепота»…
Гастроли в Петербурге прошли с большим художественным успехом, а для Федора, можно сказать, были триумфальными. Он был признан и в столице, которая еще совсем недавно не заметила его.
К тому времени, о котором сейчас идет речь, началась у Шаляпина еще одна дружба. С молодым дирижером театра, впоследствии знаменитым композитором и пианистом Сергеем Васильевичем Рахманиновым.
Это была дружба особенная. Они были однолетками. Оба совсем молоды и оба чрезвычайно талантливы. Но при этом совершенно непохожи друг на друга. Один был тонкий, высококультурный, даже, пожалуй, рафинированный интеллигент из старинной дворянской семьи, другой – простецкий парень из низов, с обаятельной улыбкой, немного грубоватый в обращении, смешной в своих повадках и мгновенно преображающийся на сценических подмостках.
Они сошлись сразу. И если подчас Рахманинову, зеленому еще оперному дирижеру, приходилось туговато в театре, где его не очень ласково и с явным недоверием принял главный дирижер Евгений Доминикович Эспозито, и он даже подумывал, что сделал ошибку, придя сюда на службу, то от ухода из театра его удерживала мысль о добром друге Федоре.
Да, Федору везло всю жизнь! К нему тянулись интересные люди, а он, со своей стороны, тянулся к ним, потому что всегда искал общения с теми, кто мог напоить жаждущую нового и яркого душу. Рахманинов, вдохновенный музыкант, бесконечно требовательный к себе и окружающим, разглядел в Федоре дарование особого склада: он увидел в нем не только превосходного певца с божественным голосом, но и человека высокоталантливого, в шутке ли, в дружеской ли беседе, в работе ли, когда молодой артист вдруг менялся, загоревшись нахлынувшим на него вдохновением, и, перестав слышать что-либо кроме музыки, видеть что-либо кроме создаваемого образа, становился одухотворенно сосредоточенным. В такие минуты он был особенно дорог суровому, даже аскетичному Рахманинову.
Если Усатов когда-то познакомил Федора с зачатками музыкальной грамоты и певческого искусства, то Рахманинов стал для Федора теперь тоже музыкальным воспитателем, потому что почти сразу им довелось встретиться у рояля, готовя новую партию. И какую!
Они стали разучивать партию Бориса Годунова из одноименной оперы Мусоргского.
Вопрос о постановке «Бориса Годунова» был решен перед завершением петербургских гастролей. Во время встреч со Стасовым Владимир Васильевич увлек Шаляпина мыслью о постановке оперы Мусоргского, что было сразу же поддержано в театре, и тут же решили, что дирижировать оперой станет Рахманинов, который к тому времени уже кое-чему подучился как оперный дирижер, разгадав секрет одновременного руководства и оркестром, сидящим в яме, и хором, находящимся на сцене.
Подошло лето 1898 года. Федор поселился во Владимирской губернии в имении Путятино артистки Мамонтовского театра Т. С. Любатович. Здесь, в егерском домике, он вместе с Рахманиновым готовил партию Годунова.
Но не только этому было посвящено запомнившееся ему навсегда лето.
В скромной деревенской церкви села Гагино Александровского уезда Владимирской губернии повенчались Федор и итальянская танцовщица Иола Торнаги, которую теперь, на русский лад, стали звать уже Иолой Игнатьевной. Свидетелями были братья С. И. и И. И. Мамонтовы, а шаферами – С. В. Рахманинов, К. А. Коровин и С. И. Кругликов.
Это был праздник не только для молодоженов. Праздновали свадьбу узким кругом товарищей по театру: очень просто, по-сельски, сидели и пиршествовали на полу, на коврах, среди цветов. Веселились по-юношески, хотя среди присутствующих находились люди, которым было уже за пятьдесят. Без роскошных яств и красивых речей.
А на рассвете, когда молодожены спали крепким сном, раздались звуки странного оркестра: концерт исполнялся на ведрах, железных заслонках, свистульках. Друзья во главе с С. И. Мамонтовым звали их встать и вместе идти в лес по грибы… Федор и Иола выглянули из окна. Импровизированным оркестром дирижировал Сергей Васильевич Рахманинов.
Глава IX
МОСКОВСКОЕ ЧУДО-ОЛОФЕРН. САЛЬЕРИ. ГОДУНОВ
Где аукается Мусоргский, там должен откликнуться Шаляпин.
А. Амфитеатров
Они поселились с Иолой в небольшой квартирке в Брюсовском переулке, что вблизи Тверской. Теперь у Федора была семья, своя крыша над головой.
Здесь царила атмосфера безоблачного счастья. В маленькой столовой в свободные вечера, а подчас и после спектаклей, собирались близкие друзья из театра. Федор, как известно, был неистощимым, искусным рассказчиком и затейником. Умел без устали рассказывать занятные истории, был наблюдательным сатириком-копировщиком. Вот, например, как сипловато басит на ходу Мамонтов. Как изъясняется Коровин. Как помалкивает, плутовато присматриваясь к окружающим, немногословный Серов.
Весело было за шаляпинским столом, где с доброй, приветливой улыбкой хлопотала маленькая итальяночка Иола, любящая гостей, а еще больше своего Федю. А тут еще Мамонтов подарил рояль. Значит, у Шаляпиных появился собственный инструмент. Значит, было и пение. Когда пелось – то до утра.
Как только Федор стал прилично зарабатывать, так начал посылать отцу ежемесячно деньги. Понемногу. Потому что отец совсем уж не умел сдерживать себя и крепко запивал. В тот год Федор пригласил в гости отца с братишкой Васей. Они приехали в Москву, и Федор был искренне рад им. Он приодел их, накупил им всякого добра. Показывал Первопрестольную. Но, как оказалось, жить в Москве отцу все же было противопоказано. Здесь его подстерегало слишком много соблазнов. Пьяный, он все порывался каждому встречному-поперечному разъяснить, что он – отец Шаляпина и что, собственно, он – главное лицо, а сын его – между прочим. Пытался доказывать это и публике на спектакле. В антрактах засиживался в буфете, а потом, в зрительном зале во время спектакля объяснял соседям, кто он такой. Пришлось отправить отца на родину. Федор часто посылал письма отцу, зная, что когда тот трезв, он умен и рассудителен. Васю оставил у себя, послал его учиться.
Однако и в деревне отец продолжал круто пить. Деньги, данные ему сыном на постройку дома, он пропил и жил в чужой избе. Как-то в 1901 году Шаляпин получил от отца письмо, что он плох и просит Федора приехать. Шаляпин поспешил на родину и застал отца умирающим.
Что касается Васи, то он стал фельдшером, у него был прекрасный голос (тенор), он очень славно пел, словом, и его не минула любовь к песне. Он погиб в 1915 году на войне.
Новый сезон 1898/99 года открылся поздно из-за задержавшегося ремонта театра. Занавес был поднят лишь 22 ноября. Для открытия давали «Садко». Но репетиции и музыкальные уроки начались задолго до этого. Федор был занят сразу в трех новых постановках: в «Юдифи» Серова, «Моцарте и Сальери» Римского-Корсакова и «Борисе Годунове» Мусоргского. А помимо этого, готовили и новую оперу Римского-Корсакова «Вера Шелога». Все четыре произведения разучивались одновременно, одновременно шли и репетиции. Занята была вся труппа. В каждом углу театра звучала музыка, слышалось пение. А артисты хора с великим напряжением учили сложные партии «Юдифи» и «Бориса Годунова».
Привыкшая к частому появлению на афишах театров того времени новых названий, московская публика все же поражалась тому, с какой быстротой возникают здесь премьеры: 23 ноября – «Юдифь», 25 ноября «Моцарт и Сальери», 7 декабря – «Борис Годунов», а вслед за этим, 15 декабря, «Вера Шелога», опера-пролог к «Псковитянке».
Действительно, Мамонтовский театр на деле становился театром русской оперы, в значительной мере – театром Мусоргского и Римского-Корсакова.
Одним из основных постановщиков «Юдифи» был художник Валентин Серов, сын автора оперы, композитора А. Н, Серова.
Он с увлечением работал над оформлением будущего спектакля, занимаясь при этом с солистами и хором. Для Шаляпина, который должен был еще в Мариинском театре исполнять партию Олоферна, в этой партии, да и во всем произведении, было много неясного, непонятного.
Когда он выступал в русских операх, национальная их природа помогала ему проникнуть в суть изображаемых образов. Когда он пел Мефистофеля, становилось уже сложнее. Но он мог увидеть множество разнообразных изображений Мефистофеля, погрузиться в чтение гетевского «Фауста», получить компетентные советы образованных людей.
С партией Олоферна все было неизмеримо сложнее. «Вообразить – это значит вдруг увидеть», – любил говорить Шаляпин. А вот увидеть Олоферна, понять, каким должен быть древнеассирийский военачальник, он не мог. И музыка не давала ему нужного ответа.
На помощь пришел В. А. Серов.
«…Однажды в студии Серова, рассматривая фотографии памятников старинного искусства Египта, Ассирии, Индии, я наткнулся на альбом, в котором я увидел снимки барельефов, каменные изображения царей и полководцев, то сидящих на троне, то скачущих на колесницах, в одиночку, вдвоем, втроем. Меня поразило у всех этих людей профильное движение рук и ног – всегда в одном и том же направлении. Ломаная линия рук с двумя углами в локтевом сгибе и у кисти наступательно заострена вперед. Ни одного в сторону раскинутого движения!
В этих каменных позах чувствовалось великое спокойствие, царственная медлительность и в то же время сильная динамичность. Не дурно было бы, – подумал я, – изобразить Олоферна вот таким, в этих типических движениях, каменным и страшным».
По воспоминаниям Шаляпина, барельефное решение мизансцен и всей выступки Олоферна придумано самим артистом. На деле это не совсем так.
Идея трактовки ассирийского военачальника в той стилевой манере, которая типична для ассирийских барельефов, пришла в голову художнику Серову. Но это был только толчок, один из тех толчков, о которых говорилось ранее. А затем уж талант и интуиция артиста помогли вполне органично оживить барельеф, придать ему объемно-пластическое выражение, заложив в него реальные черты человеческого характера, отталкиваясь от партии, сюжета.
Да, ассирийский барельеф ожил, родился шаляпинский Олоферн, какого до той поры не знала русская сцена. Его Олоферн не имел ничего общего по трактовке с первыми исполнителями этой трудной роли – певцами из Мариинского, театра Сариотти-Сироткиным, Стравинским, певцом Московского Большого театра Куровым и другими, исполнявшими эту партию, а также выступавшим одновременно с Шаляпиным в Большом театре Б. Б. Корсовым [7]7
В. А. Серов окрестил шаляпинского Олоферна «злой Олоферной пятнистою», а Олоферна в исполнении Б. Корсова – «душкой Олоферном».
[Закрыть].
Казалось бы, статичность и несомненная условность изображения человека на ассирийских барельефах должна была с неизбежностью привести к статичности и условности героя на сцене. Этого, однако, не произошло. Шаляпин наделил своего Олоферна поистине страстной динамичностью – во взоре, в интонациях голоса, в нетерпеливых и повелительных жестах, в неукротимости нрава, в чисто азиатской первобытности чувств.
Он даже злоупотреблял изображением страстности натуры своего героя, иногда, в частности в сцене орган, доводя трактовку образа до несомненной натуралистичности. Вообще в ту пору, о которой идет речь, ему еще не удавалось корректировать меру выявления характера некоторых своих героев. Поэтому известный крен в мелодраматичность в финале «Псковитянки» и натуралистическая «чрезмерность» в характеристике Олоферна были свойственны ему.
При этом перед нами редкая артистическая удача. Олоферн Шаляпина не имеет аналогов в предшествующей сценической истории оперы.
И можно с полным основанием присоединиться к оценке этой работы, данной Ю. Д. Энгелем:
«Центральной фигурой спектакля, как и можно было ожидать, оказался г. Шаляпин в роли Олоферна. Помимо других достоинств, артист этот обладает удивительным умением гримироваться, почти в каждой из сколько-нибудь значительных ролей, исполненных им, его лицо, а нередко и вся фигура, могли бы служить прекрасной моделью для художника, желающего изобразить этот или иной ответственный тип. Так было и на этот раз. Трудно было не поддаться обаянию этого мрачного, надменно-величавого и вместе с тем носящего на себе печать вырождающейся азиатской чувственности древнего Тамерлана. А какое богатство интонаций, какая выразительность в произношении талантливого артиста!
Даже такой несколько рискованный в руках малоопытного певца драматический эффект, как превращение музыкальной декламации почти в говор (например, в сцене опьянения и исступленного бреда во время оргии 4-го акта), производит у г. Шаляпина сильное и нисколько не ходульное впечатление. Впрочем, даже и г. Шаляпину трудно было справиться с этой отталкивающей и тяжелой сценой».
Интересно сопоставить с такой оценкой взгляд рецензента «Московских ведомостей». Подтверждая, что Шаляпин имел в «Юдифи» огромный успех, что пел он превосходно, автор статьи приходил к выводу, что в сценическом отношении исполнение роли Олоферна менее удовлетворяло. Причина заключается в том, что Олоферн Шаляпина в минуты гнева как бы перестает быть повелителем. Для того, чтобы повелевать другими, нужно научиться повелевать собою. Сдержанность людей Востока, столь характерная и общеизвестная, впитанная, так сказать, с молоком матери, здесь, в исполнении Шаляпина, отсутствует. Словом, хотя роль выполнена отлично, но самый замысел неудачен, так как чрезмерность в выявлении своей страстной натуры нарушает художественную правду.
А через два дня – новая премьера – «Моцарт и Сальери».
Эта маленькая опера была только что сочинена Римским-Корсаковым. Многознаменателен тот факт, что она посвящена памяти композитора А. С. Даргомыжского, создателя «Каменного гостя». Подобно «Каменному гостю», созданному тоже на основе одной из маленьких трагедий Пушкина, «Моцарт и Сальери» также написан в ариозно-декламационном стиле и продолжает то направление в оперном творчестве, которое отличает «Каменного гостя». Опера Римского-Корсакова требует чрезвычайно тонкого исполнения, демонстрации высокого мастерства в речитативе, подобного тому, которое Р. Вагнер называл «Sprechsingen».
Маленькая трагедия Пушкина, воскрешающая легенду о композиторе Антонио Сальери, якобы отравившем великого Моцарта, излагает не столько чисто сюжетную сторону легенды, сколько философски осмысляет трагедию посредственности, столкнувшейся с натурой гениальной. Трагедия Пушкина как бы создана для того, чтобы к ней прикоснулся большой композитор. И величие таланта Римского-Корсакова раскрывается в этом небольшом сочинении с подкупающей силой.
Римский-Корсаков познакомил руководителей и артистов Мамонтовского театра с только что законченным произведением во время гастролей театра в Петербурге постом 1898 года. Сразу же было решено, что опера принимается к постановке. Сразу же распределились и роли: Моцарт – В. П. Шкафер, Сальери – Шаляпин. Оперу ставил Мамонтов, но, можно сказать, что душой этой постановки был М. А. Врубель, писавший эскизы декораций и костюмов. Он ввел артистов в атмосферу Вены XVIII века, дал им ощутить стиль времени, раскрыл философскую и психологическую сторону коллизии. В этой работе он проявил себя настоящим режиссером, прекрасно слышащим музыку и постигающим ее движение. Подолгу сидел он на уроках, вслушиваясь в партии исполнителей, прежде чем садиться за эскизы. Его декорации и костюмы полностью соответствовали духу партитуры Римского-Корсакова, над которой с огромным увлечением работал С. В. Рахманинов.
Опера рассчитана на двух исполнителей. И естественно, что Шкафер и Шаляпин сами репетировали все сцены, ища точности в линии взаимодействия внешнего и внутреннего, постигая замысел Пушкина и его выражение средствами музыки.
По общему признанию, наиболее удалась роль Сальери. Впрочем, в самой трагедии Пушкина основное начало конфликта заключено в психологии Сальери, раскрываемой в борьбе с самим собой и смятениях. Поэтому на долю Сальери выпадает главное, ведущее начало в сложном дуэте. Шаляпин играл не просто зависть. Как справедливо в свое время отмечалось, применительно к «Моцарту и Сальери», есть ревность просто, есть ревность Отелло, есть зависть просто, есть зависть Сальери. Шаляпин и играл это сложное понятие, психологически обосновывая каждое душевное движение своего героя и постепенно приводя его к неотвратимому решению.
«Благодаря необыкновенному дару музыкальной декламации, достигающей последней степени совершенства, благодаря неслыханной гибкости шаляпинской вокализации, шаг за шагом развертывается перед зрителем в этой бесконечно льющейся мелодии картина душевного настроения Сальери, глубоко пораженного отравленною стрелою зависти, проходит вся гамма сложных, противоположных ощущений, вся тонкая углубленная психология человека, борющегося между противоположными чувствами: бесконечным преклонением перед гением Моцарта и стремлением устранить его с земной дороги, потому что он слишком ослепителен…»
– так характеризовал исполнение Сальери Э. А. Старк.
Дирижер Д. И. Похитонов вспоминал один эпизод из этого спектакля:
«С величайшим вниманием следил я за игрой Шаляпина во время фортепьянного соло. Пока звучало моцартовское „Аллегретто семпличе“, Шаляпин – Сальери, небрежно откинувшись на спинку стула, спокойно слушал игру Моцарта. Но с первыми мрачными аккордами „grave“ движение руки, помешивавшей чашку кофе, замедлилось и постепенно прекратилось. Шаляпин встал и медленно, обойдя стол, подошел к клавесину, за которым сидел Моцарт. Выражение его лица, темп перехода были замечательной прелюдией к фразам Сальери: „Ты с этим шел ко мне и мог остановиться у трактира…“ И далее: „Какая глубина! Какая смелость и какая стройность!“»
Можно было сыграть злодея, но Шаляпин этого не делает. Сальери в его исполнении не просто ремесленник от музыки, а глубоко несчастный человек, остро ощущающий свою посредственность и потрясенный встречей с гением. Сальери Шаляпина возвышен над общим уровнем завистников. Вот почему конфликт Моцарт – Сальери приобретает подлинно трагедийное звучание.
Скупость и лаконичность актерских приемов, доведенные до аскетизма, концентрация внимания зрительного зала на глубоком психологическом подтексте – вот те особенности, которые отличают Шаляпина в образе Сальери. В соответствии с общим камерным замыслом спектакля дирижировавший им Рахманинов довел численность оркестра до минимума, стремясь к тому, чтобы ни на одну минуту не была заглушена ведущая, певческая сторона произведения. Музыкальная декламация, насыщенная множеством тонких штрихов, речитатив, никогда не переходящий в говорок, выразительное интонирование – вот те элементы, из которых складываются особенности музыкальной трактовки образа Сальери.
Облагораживая своего героя, артист играет как главную тему трагедию непонимания, вырастающую на почве нежданной катастрофы, которая разразилась в душе Сальери, когда на жизненном пути своем он повстречался с гениальным Моцартом.
«Эту напыщенность маленького таланта, стремящегося стать на ступени величия, – говорил позже рецензент газеты „Россия“, – это слепое непонимание простодушия гениев, недоумение, как не дорожат они каждою искрою вдохновения и не творят себе кумиров из самих себя, – очень умно и тонко иллюстрирует Римский-Корсаков и его в данном случае alter-ego [8]8
Второе я (лат.).
[Закрыть]Шаляпин […]. В последний момент, когда Моцарт нечаянно раздавил Сальери знаменитым положением, что „гений и злодейство две вещи несовместные“, – Сальери хватается как за последнюю надежду самооправдания: а Бонаротти?.. Если несомненный гений Бонаротти злодействовал, – так ему, Сальери, и бог велел… И единственное сомнение, которое не дает этой спутанной в понятиях, отравленной и затравленной совести воскреснуть из-под гнета наивных моцартовских слов, – а ну как легенда-то и традиции налгали?.. Шаляпин здесь прямо грандиозен со своим истерическим ужасом перед этим новым сомнением, – слишком поздним сомнением, сомнением уже неисправимого, сомнением преступника. Он хочет презрительно засмеяться, а преступная совесть показывает ему изобличающую правду и душит слезами. И – под слезный смех этот, смех полубезумного человека – опускается занавес…»
Несмотря на удивительную тонкость и проникновенность трактовки маленькой оперы Римского-Корсакова, публика вначале принимала ее сдержанно. Шаляпину даже казалось, что виноват в этом он, что он не нашел правильного пути к образу и не сумел взволновать слушателей. Но дело было в ином. Речитативный строй оперы, лишенной закругленных форм, был непривычен для публики. Для артиста высшей похвалой прозвучали слова Врубеля, который, как полагается художнику, высказал впечатление от его пения и игры на своеобразном жаргоне:
– Черт знает, как хорошо! Слушаешь целое действие, звучат великолепные слова, и нет ни перьев, ни шляп, никаких ми бемолей!
Характерное замечание! «Никаких ми бемолей». То есть совсем не ощущаются выученность, сделанность, сработанность. Как будто все непосредственно выливается из сердца, из горла, как будто все это не потребовало огромного труда. А на самом деле…
Много лет спустя, на склоне лет, Шаляпин вернулся к проблеме Моцарта и Сальери. Он себя признал Моцартом, но не «гулякой праздным», а человеком, у которого большой талант сопряжен с большой работой.
«Я вообще не верю в одну спасительную силу таланта, без упорной работы. Выдохнется без нее самый большой талант, как заглохнет в пустыне родник, не пробивая себе дороги через пески. Не помню, кто сказал: „гений – это прилежание“. Явная гипербола, конечно. Куда как прилежен был Сальери, ведь вот даже музыку он разъял, как труп, а Реквием все-таки написал не он, а Моцарт. Но в этой гиперболе есть большая правда».
Подходило время премьеры «Бориса Годунова».
Летом 1898 года Шаляпин работал с Рахманиновым над разучиванием партии Годунова. Очень много часов провел он в обществе Мамонтова, который раскрывал ему особенности личности Годунова и указывал на те оттенки интонационного порядка, которые, как казалось Савве Ивановичу, следует вносить в отдельные куски партии. Федор с увлечением вчитывался в Пушкина, знакомился с трудами Карамзина. Но этого ему было мало. Ему хотелось до тонкостей разобраться в личности Годунова и его деятельности как правителя, в загадочной истории гибели царевича Дмитрия, в роли, которую играли Шуйские и прочие главные бояре.








