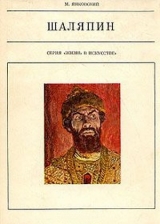
Текст книги "Шаляпин"
Автор книги: Моисей Янковский
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 30 страниц)
Глава VIII
МОСКОВСКОЕ ЧУДО
ДОСИФЕЙ. ВАРЯЖСКИЙ ГОСТЬ
До сих пор я с радостью вспоминаю этот чудесный московский период моей работы. В атмосфере доверия, признания и дружбы мои силы как бы удесятерились.
Ф. Шаляпин
От спектакля к спектаклю рос успех артиста. Он, кажется, уже стал первой знаменитостью в городе, его любимцем.
У Шаляпина словно вырастали крылья. Работалось радостно, а трудиться он был способен с утра до ночи и с ночи до утра.
Триумф в партии Ивана Грозного был всеобщим. Но это, скажем, может быть объяснено тем, что в «Псковитянке» его не с кем было сравнивать. Как когда-то в свое время исполнялся этот образ, никто из здравствующих толком не мог рассказать, да и самая роль Грозного в новой редакции оперы стала выглядеть по-иному.
Но Шаляпин поражал и в таких партиях, какие до него пелись множеством артистов, к тому же в те самые дни, когда выступал он, на сцене Московской казенной оперы можно было увидеть тот же репертуар с первоклассными певцами, а с императорскими театрами соперничать было трудно. И все же… Вот, например, партия Мефистофеля в «Фаусте». Неустанно работая над ней, усовершенствуя ее от раза к разу, Шаляпин все время искал в ней новых и новых граней, в то время как остальные партнеры играли и пели, считая, что все уже найдено, что все совершенно ясно. И заботиться о чем-либо новом не приходится.
Н. Д. Кашкин писал об одном из очередных представлений «Фауста», сам поражаясь тому, что увидел и услышал:
«Человек ко всему может привыкнуть, привыкли и мы по мере сил претерпевать теперешнюю обработку „Фауста“, но в спектакле 3 октября (1897 г. – М. Я.)оказалось у исполнителей разногласие или, лучше сказать, разночтение, обострившее в нас чувство недовольства исполнением. Виновником этого разногласия явился г. Шаляпин, который пел „Фауста“ Гуно, а остальные – позднейшую собирательно-исполнительскую редакцию, причем разница в стиле получилась такая, как будто г. Шаляпин пел музыку одного композитора, а все остальные другого. Можно не соглашаться с г. Шаляпиным в некоторых деталях его исполнения, но более законченного, более обдуманного оперного Мефистофеля мы не слышали ни в России, ни за границей. Сила молодого артиста заключается в том, что он не поддается желанию подражать каким-либо известным исполнителям роли; он предпочитает изучать ее под руководством композитора, т. е. по его печатным указаниям, и создавать себе этим путем ясно обдуманный образ в музыкальном и сценическом отношениях, тщательно избегая условных вокальных эффектов, для большинства составляющих единственный якорь спасения».
Можно ли артисту ожидать большей похвалы, да еще от столь взыскательного критика-музыканта, как Н. Д. Кашкин?!
Шаляпин продолжал выступать в своем, уже широком ныне репертуаре, причем те партии, в которых он в недавнее время вовсе не был замечен (Странник – «Рогнеда», Вязьминский – «Опричник»), тоже вызывали к себе восторженное отношение. Здесь играла роль не растущая популярность артиста, вызванная наиболее удачными его работами (Мельник, Мефистофель, Грозный), а то, что с каждым новым выступлением появлялись в образах новые черты, черты того самого усовершенствования.
Характерно, например, высказывание Ю. Д. Энгеля по поводу очередного выступления Шаляпина в «Русалке»:
«Не раз указывали мы на выдающийся талант этого артиста, в котором соединились могучий голос, редкая музыкальность и удивительная способность к драматической характеристике (последнее особенно важно для баса, так как именно ему поручается большинство характерных ролей в операх, тогда как на долю тенора остаются довольно однообразные любовные излияния). И грим, и костюмы, и манеры г. Шаляпина в 1-м акте – все это оригинально, характерно, превосходно. Мы так и видим пред собою один из старинных русских типов, в котором врожденное холопство не исключает желания поживиться на княжеский счет и отцовская любовь странным образом уживается рядом с торгом дочерью. Недостаток места не позволяет нам остановиться подробнее на потрясающей передаче встречи с князем. Здесь все было полно захватывающей силы и правды и в то же время художественно законченно…»
Это и не удивительно. Он продолжает учиться мастерству у драматических актеров.
Все свободное время он посвящал знакомству с московской драматической сценой. Его восхищали спектакли Малого театра и игра его корифеев Г. Н. Федотовой, А. П. Ленского, О. О. Садовской, Е. К. Лешковской. Искусство Садовской особенно поражало его.
«Надо было видеть, что это была за сваха, что это была за ключница, что это за офицерская была вдова.
– И как это вы, Ольга Осиповна, – робко спросил я ее раз, – можете так играть?
– А я не играю, милый мой Федор.
– Да как же не играете?
– Да так. Вот я выхожу, да и говорю. Так же я и дома разговариваю. Какая я там, батюшка, актриса! Я со всеми так разговариваю.
– Да, но ведь, Ольга Осиповна, все же это же сваха.
– Да, батюшка, сваха.
– Да теперь и свах-то таких нет. Вы играете старое время. Как это вы можете?
– Да ведь, батюшка мой, жизнь-то наша, она завсегда одинаковая. Ну, нет теперь таких свах, так другие есть. Так и другая будет разговаривать, как она должна разговаривать. Ведь язык-то наш русский – богатый. Ведь на нем всякая сваха хорошо умеет говорить. А какая сваха – это уж, батюшка, как хочет автор. Автора надо уважать и изображать того уж, кого он захочет».
Завершая свой рассказ о творчестве О. О. Садовской, Шаляпин ядовито добавляет:
«Садовская не держала голоса в маске, не опиралась на грудь, но каждое слово и каждую фразу окрашивала в такую краску, которая как раз именно была нужна…»
Сезон 1896/97 года пронесся как метеор. За несколько месяцев столько перемен произошло в жизни Федора, так перекроилась его судьба, что ему казалось, будто все это во сне, что так в жизни не случается. Подумать только, почти каждый спектакль заканчивается тем, что звучит приветственный туш оркестра, и ему, Федору, подносят корзины цветов, венки и подарки.
Кончился сезон. Шаляпин на лето уже имел для изучения новую трудную партию. Досифея в «Хованщине» Мусоргского. Ее следовало приготовить к будущему сезону. Вчера – Римский-Корсаков, завтра – Мусоргский. Как нежданно сбылось то, о чем он мечтал, слушая рассказы Д. А. Усатова, Т. И. Филиппова…
Наступило лето. По настоятельному совету Мамонтова Федор предпринял первое в своей жизни заграничное путешествие. Нет, этого не может быть! Федор! За границу! Во Францию! В Париж! Но это было так.
Его первые впечатления – восторженные. Париж покорил его. Он бродил по улицам удивительного, чарующего города. Поднимался на Эйфелеву башню. Сидел в маленьких тавернах. Знакомился с парижанами. Влюбился в какого-то обаятельного аббата. Но, пожалуй, наибольшее впечатление у него осталось от Лувра. Человек с душой художника, сам рисовальщик и скульптор, он как зачарованный ходил по залам Лувра. «Я кружился по этому музею, опьяненный его сокровищами, несколько часов кряду, и каждый раз, как только у меня было свободное время, снова возвращался туда. Очаровал меня Лувр, очаровал Париж, нравились парижане…»
Но не только ради впечатлений совершил Федор эту поездку. Насладившись Парижем, он переехал в маленький городок Дьепп, морской курорт на берегу Ламанша, чтобы взять несколько уроков у проживавшей там преподавательницы пения, о которой рассказывал ему режиссер Мамонтовского театра П. И. Мельников, тоже в ту пору оказавшийся во Франции. С этой учительницей пения Федор готовил партию Досифея.
Трудившийся над созданием «Хованщины» без малого десять лет, Мусоргский не успел завершить сочинение. В клавире оно было начерно почти закончено, оставались несочиненными лишь некоторые куски пятого действия. Оркестровки не было и в помине.
Да и весь клавир носил эскизный характер и имел хаотичный вид. Над ним еще предстояло работать и работать. Неизвестно, как бы на долгие годы сложилась судьба этого произведения, если бы не Римский-Корсаков. Он проделал поистине титаническую работу над черновыми подчас набросками оперы, закончил сочинение своего друга, существенно переработал его, инструментировал и тем самым дал «Хованщине» жизнь.
За вдохновенным трудом Мусоргского стояли годы пристальнейшего изучения во многом неясных страниц давней русской истории, знакомство с рядом научных трудов, с записками протопопа Аввакума, исследования старинной русской песенности, проникновение в поющую душу народа.
Опера на сюжет из далекого прошлого России (подсказанный композитору В. В. Стасовым) использует волнующий своей драматической напряженностью эпизод борьбы старого и нового начал в эпоху Петра I. Столкновение феодальной боярской знати с юным еще реформатором, молодым царем конкретизировано в сюжете, где действуют раскольники, стрельцы, верхушка боярства во главе с князем Хованским.
Песенная (по структуре) народная музыкальная драма, «Хованщина» опирается в своей мелодической основе на старинные попевки, на церковную музыку. Многообразные литературные и музыкальные источники, по-своему переосмысленные гениальным композитором, в сложном сплаве привели к созданию произведения необычайной силы и страстности, в центре которого девушка-раскольница Марфа и старец Досифей.
Досифей – фигура трагическая. В этом образе обобщены черты русских раскольников, с присущей им убежденностью в правильности и нерушимости исповедуемых ими догматов, с фанатичностью, как крайним проявлением неистовой религиозности и слепого отстаивания сложившихся устоев. Трагическая обреченность Досифея заключается в том, что постепенно он сам проникается пониманием, что правы те, против кого он ведет борьбу. Но отступать уже поздно и некуда. Вот почему он призывает своих последователей идти вместе с ним на самосожжение, чтобы погибнуть, но не сдаться.
Роль Досифея, собственно, заключена в трех его основных монологах (первое, четвертое и пятое действия), но сила этой личности такова, что его воздействие сказывается на всем течении оперы – Досифей одна из центральных фигур произведения.
Римский-Корсаков взялся за завершение и доработку «Хованщины» вскоре после смерти Мусоргского и создал свой вариант оперы в 1882 году. Здесь не место касаться вопроса о правомерности той переработки клавира Мусоргского, которую произвел Римский-Корсаков, нужно лишь подчеркнуть, что, если бы сочинение не было завершено кем-либо из друзей гениального композитора, трудно сказать, увидела ли бы когда-нибудь «Хованщина» свет рампы.
После того как опера была закончена (включая инструментовку), Римский-Корсаков представил ее на рассмотрение комитета по приемке произведений к постановке на сцене Мариинского театра. Но опера не была допущена к рассмотрению. Так чиновники, управлявшие столичной казенной сценой, отнеслись к творчеству русского гения.
В тех условиях отклонение произведения казенной сценой было равносильно смертному приговору для автора и для его создания, так как частных оперных сцен было слишком мало, а вкус, привитый публике казенными театрами, решительно господствовал.
В 1886 году силами любителей опера была исполнена в Петербурге. Спустя семь лет ее поставило товарищество оперных артистов в том же Петербурге. Но казенная сцена не проявила к произведению ни малейшего интереса. А те спектакли, которые были показаны энтузиастами русского оперного творчества, в общем, не произвели впечатления.
12 ноября 1897 года в Московской Частной опере состоялась премьера «Хованщины». С этой даты и следует, по существу, исчислять начало ее сценической судьбы.
Постановка «Хованщины» представляла огромные трудности. Ведь это было, по сути, первое воплощение произведения очень сложного для сцены, необычного и, как все творчество Мусоргского, новаторского для оперного театра.
Спектакль ставился при участии художников, писавших эскизы декораций и костюмов, – В. М. Васнецова, К. А. Коровина, С. В. Малютина. В постановке вместе с С. И. Мамонтовым и М. В. Лентовским принимал участие молодой режиссер-певец В. П. Шкафер, а дирижировал Е. Д. Эспозито.
Партии давались с большим трудом. Они были лишены привычной закругленности каждого номера, которая при заучивании облегчает труд певца. Интонационный склад музыки был тоже необычен, особенно трудно было привыкнуть к архаике языка, и заменять неудобные слова, как это делалось во многих случаях, здесь было нельзя.
Но этого мало. Нужно было проникнуться пониманием среды, в которой протекало действие. «Хованщина» – это петровская старина. Где же ее сыскать в самом конце XIX столетия? И тогда Мамонтов предложил художникам и артистам, занятым в спектакле, отправиться на окраины Москвы, где жили старообрядцы. В районы Рогожского и Преображенского кладбищ, в Черкизово. В ту пору они были похожи на деревни. И самый уклад в этих уголках Москвы оставался во многом старым, незатронутым движением времени.
Немощеные улочки, деревянные домишки, похожие на избы. Огромные пустыри. А главное – люди, встречавшиеся на улицах. Они были непохожи на москвичей 1897 года. В них оставался неприкосновенным какой-то едва уловимый оттенок давнего былого: в тихости, смиренности, в каких-то едва прикрытых чертах иночества. Особенно это заметно было у женщин, боком проходивших мимо шумной гурьбы артистов.
В. П. Шкафер вспоминал:
«Мы прошли к единоверческому храму, около которого небольшое кладбище, поодаль флигелечки, богадельня для престарелых. В храме, куда мы вошли, шла служба, пели по крюкам [3]3
Крюки – особый способ написания нот, применявшийся в церковных богослужениях.
[Закрыть], старинным напевом, унисоном, как будто нестройно и фальшиво, но громко, крикливо и непривычно неприятно. Такое пение резало наши уши; слушали с трудом, а интересно, нигде „эдакое“ не услышишь. Среди присутствующих глаз улавливает характерные типические фигуры и лица; воображение дорисовывает: вот нестеровский „Постриг“, „В скиту“. Прошла тонкая стройная женщина в черном сарафане, покрытая большим платком; кто-то сказал: „это Марфа“, а рядом шли „Сусанны“, начетчицы и начетчики, в длинных, до полу, кафтанах. Вот они и есть эти люди, религиозные фанатики, они еще живы, в них не погасла глубокая вера в свои догматы».
Многое, подсмотренное в старообрядческой Москве, было перенесено в спектакль. Был, например, такой случай на спектакле «Хованщина»: во время заключительной сцены, когда Досифей зажег костер и пламя уже подбиралось к сжигающим себя фанатикам, неожиданно раздался крик из какой-то ложи: «Довольно бога, опустите занавес, не кощунствуйте!»
Быть может, некоторые типажные черты персонажей «Хованщины» были подсмотрены у завсегдатаев старообрядческих кладбищ и укромных переулочков московской окраины. И это было подмечено кем-то из местной публики.
По общему признанию критики, наибольший интерес в спектакле вызвало исполнение С. Ф. Селюк – Марфы и Шаляпиным – Досифея.
Но при том, что особенный успех здесь выпал на долю Шаляпина, все же прием спектаклю в целом был оказан средний. Очень уж странным и диковатым казалось то, что происходит на сцене. Быть может, какую-то часть публики тревожило и даже возмущало то, что на сценических подмостках совершается нечто, близкое многим москвичам (а Москва была одним из центров старообрядчества!), и «Хованщина» могла по тому времени восприниматься как известное неделикатное посягательство на то, что должно таиться в глубине души верующего человека.
Шаляпин рассказывал, что образ Досифея вначале был непонятен ему. Несмотря на рассказы художников и самого Мамонтова, он не мог разобраться в этой фигуре. Раскольник Досифей, он же князь Мышецкий – как вместить в одной личности знатного боярина и фанатического старца, сжигающего себя? На помощь пришли советы известного историка В. О. Ключевского, который в ряде бесед раскрыл артисту сущность этой исторически существовавшей фигуры. Сильно помог и К. Коровин.
Артистка Н. И. Комаровская в книге «О Константине Коровине», вышедшей в 1961 году, вспоминала: «Без конца мог он (Шаляпин. – М. Я.)слушать живые колоритные рассказы Коровина о быте раскольников, религиозных обрядах, молитвенных песнопениях (Коровин происходил из старообрядческой семьи). Вместе они намечали облик Досифея. По рисункам Коровина Досифей представляется то гневным изувером, то пламенным фанатиком, то добрым пастырем. Шаляпин загорелся… Выслушивая соображения Коровина, он вновь и вновь повторял те места из своей роли, которые не удовлетворяли его…»
В спектакле он явился как ожившее изображение с древней иконы. Торжественная, величавая, многозначительная пластика – без лишнего движения, аскетичная и скульптурная. И глаза – горящие глаза фанатика. От него нельзя было оторваться, к нему нельзя было не прислушаться. Становилось понятным, почему его речи были нерушимым законом, почему вслед за ним люди покорно шли на костер.
«Московские ведомости» писали: «Г. Шаляпин дал отличный внешний облик Досифея, прекрасно пел и сумел оттенить в игре, мимике и гриме ту перемену, которая произошла в Досифее, когда наступили грозные для раскольников события». А Н. Д. Кашкин высказывался в «Русских ведомостях» так: «Между исполнителями сольных партий мы назовем прежде всего г. Шаляпина, создавшего очень законченную и выдержанную фигуру Досифея с его умом и фанатической убежденностью в правоте своего дела, чисто человеческими чертами сочувствия страдающей Марфе и с горестной угнетенностью старика, чувствующего свое бессилие в борьбе и неизбежную гибель единомышленников. Мы достаточно уже высказывались о таланте артиста и не будем еще раз повторять ему наших похвал».
Так родился новый сценический образ в растущем и крепнущем репертуаре Шаляпина. И опять – роль, до того никем не сделанная, роль, как бы рожденная именно для этого артиста. И странно, кажется почти нереальным: всего год с небольшим прослужил Федор в московском театре, а виднейший критик уже говорит о его таланте как о чем-то само собой разумеющемся.
25 июня 1897 года проживавший в Петербурге известный художественный критик Владимир Васильевич Стасов писал своему брату Дмитрию:
«Вчера я получил письмо от Кругликова,который говорит, что на Мамонтовском театре хотят ставить „Хованщину“ и „Садко“, невзирая ни на какие траты. Исполнители главные: Цветкова(говорят, превосходная!) и Шаляпин(оригинальный талант), а в декорациях и костюмах участвуют Васнецов, Серов, Поленов, Коровин и др. – а меня просят давать указания. Конечно, я тотчас отвечал, что радехонек».
Тогда Стасов еще не знал, что представляет собою Мамонтовский театр и не был знаком с Шаляпиным, да к тому же сам еще ни разу его не слышал. Но интерес критика к московскому начинанию возник у него сразу, как только он узнал, что театр хочет уделить внимание творчеству «кучкистов», которое было ему близко и дорого.
Действительно, театр готовился к постановке «Садко» Римского-Корсакова.
История этого произведения характерна для атмосферы, в которой творили русские композиторы той поры. Завершив создание оперы, сюжет которой посвящен прославлению красоты и мощи русского национального характера и основан на былинах о новгородском гусляре Садко, Римский-Корсаков осенью 1896 года представил новое сочинение на рассмотрение в дирекцию столичной казенной оперы. Состоялось прослушивание в Мариинском театре. И опера была… отклонена. Композитор так описывал свой разговор с директором императорских театров И. А. Всеволожским:
«Он говорил, что утверждение репертуара на будущий год зависит не от него, а, как всегда, от государя, который лично его просматривает, что постановка „Садко“ дорога и затруднительна, что есть другие произведения, которые дирекция обязана поставить по желанию членов царской фамилии; при всем том он не отказывался окончательно от постановки „Садко“, но мне было ясно, что это неправда, и я решил оставить дирекцию в покое и никогда более ее не тревожить предложением своих опер».
Между тем вопрос о постановке «Садко» на казенной сцене столицы не был еще снят с повестки дня, так как Направник и режиссеры Кондратьев и Палечек высказались за принятие оперы Римского-Корсакова. В репертуарном плане, представленном Николаю II, опера «Садко» значилась. Когда Всеволожский докладывал царю в подробностях намеченный репертуар, Николай II заявил: «Нечего ставить „Садко“. Пусть вместо этой оперы дирекция подыщет что-нибудь повеселее». Этим была поставлена точка не только на «Садко», но и на творческих взаимоотношениях с Римским-Корсаковым на несколько лет.
Так после конфликта с «Ночью перед рождеством» и отклонения «Садко» завершилось не слишком счастливое содружество замечательного композитора с императорскими театрами.
С. Н. Кругликов знал о разрыве Римского-Корсакова с Мариинской сценой, рассказал Мамонтову про «Садко» и что его можно получить для постановки в Московской Частной опере, если проявить деловую активность. Мамонтов отправился в Петербург, и композитор сразу дал согласие на передачу оперы московскому коллективу.
26 декабря 1897 года «Садко» был поставлен Мамонтовским театром (режиссура под общим руководством Мамонтова, дирижер К. Д. Эспозито, художники и сопостановщики К. А. Коровин и С. В. Малютин). В первом составе исполнителей Шаляпин не был занят. При работе над спектаклем основное внимание уделялось ролям Садко (его превосходно пел и играл А. В. Секар-Рожанский) и Волховы (ее вначале пела Негрин-Шмидт). Это естественно, так как, собственно, основными героями этой оперы являются Садко, Волхова и жена гусляра Любава (в этой роли прекрасно выступила одна из лучших артисток Мамонтовского театра А. Е. Ростовцева). Когда готовился новый спектакль, никому в театре, наверное, не приходило в голову, что есть еще существенные по значению, хотя и эпизодические по месту в спектакле роли в «Садко», которые очень важны в этом произведении, так как вносят своеобразные колористические черты, – образы Индийского, Веденецкого и Варяжского гостей.
Характерно, что часть московской критики, плохо разобравшейся в опере, даже отмечала, что партии гостей вообще следует купюровать, как явно лишние и неизвестно зачем включенные в ткань оперы. Неуспех их на премьере Мамонтовского театра следует приписать заблуждению его руководителей, по-видимому, полагавших, что эти партии являются мелкими вставными эпизодами и могут быть поручены второстепенным певцам.
На самом деле роль этих образов очень значительна. В сцене на Торжище появление знатных гостей (купцов) со всех краев земли означает, что Великий Новгород действительно велик, что место его в торговых связях мира того времени поистине значительно. В поэзию былинного Новгорода врывается цикл сказаний о далеких морях, о дальних странах, зовущих к путешествиям, – холодного Севера, экзотической Индии и чарующей своими красотами Венеции. И разве неясно после этого, что не может мечтатель и поэт – гусляр Садко не стремиться в неведомые края?
Но нужно уметь спеть эти три арии так, чтобы затрепетала душа у зрителя, чтобы в каждом из выходящих к новгородцам гостей заморских почудилось своеобразие воспеваемой им родной земли.
Когда на третьем спектакле партию Варяжского гостя впервые спел Шаляпин, она произвела огромное впечатление, и с той поры вошло в традицию поручать партии иноземных гостей, представляющие исключительные, концертного плана трудности, лучшим вокалистам.
В. В. Стасов, видевший в Московской Частной опере спектакль с участием Шаляпина в роли Варяжского гостя, писал в статье, многознаменательно озаглавленной «Радость безмерная» и посвященной целиком новой звезде русского музыкального театра – Шаляпину:
«Итак, сидел я в Мамонтовском театре и раздумывал о горестном положении русского оперного, да и вообще музыкального дела у нас, как вдруг в III картине „Садко“ (здесь описка автора: „Торжище“ – четвертая картина. – М. Я.) появился предо мною древний скандинавский богатырь, поющий свою „варяжскую песнь“ новгородскому люду на берегу Ильмень-озера. Эта „варяжская песнь“ – один из величайших шедевров Римского-Корсакова. В ее могучих, суровых звуках предстают перед нами грозные скандинавские гранитные скалы, о которые с ревом дробятся волны, и среди этого древнего пейзажа вдруг является перед вами сам варяг, у которого кости словно выкованы из скал. Он стоял громадный, опираясь на громадную свою секиру, со стальной шапочкой на голове, с обнаженными по плечо руками, могучим лицом с нависшими усами, вся грудь в булате, ноги перевязаны ремнями.
Гигантский голос, гигантское выражение его пения, великанские движения тела и рук, словно статуя ожила и двигается, взглядывая из-под густых насупленных бровей, – все это было так ново, так сильно и глубоко правдиво в картине, что я невольно спрашивал себя, совершенно пораженный: „Да кто это, кто это? Какой актер? Где они таких отыскивают в Москве? Вот люди-то!“ И вдруг в антракте, в ответ на мои жадные расспросы, узнаю, что это – не кто иной, как сам Шаляпин».
Нужно думать, что распределение ролей, сделанное первоначально и измененное лишь после премьеры, все же запоздало. Можно с уверенностью сказать, что если бы на первом представлении Волхову пела Н. И. Забела-Врубель, вошедшая в «Садко» к третьему спектаклю, а Варяжского гостя – Шаляпин, вступивший в оперу в тот же день, оценка новой работы критикой была бы иной. Грандиозный успех, выпавший на долю «Садко» в воплощении Мамонтовского театра, пришел к этому спектаклю не сразу, и виной тому – непродуманное распределение ролей на премьере.
Казалось бы, не нужно уделять много места роли, которая представляет собой один музыкальный монолог, а само действующее лицо никакого касательства к сюжету оперы не имеет. Но в созданиях Шаляпина эта роль занимает почетное место, так как ему удалось раскрыть в единственном монологе варяга сущность и природу северного гостя, принесшего на берег Ильменя хладный ветер своей родины.
Помимо этого, ария Варяжского гостя, как и выступления других гостей, имеет свою драматургическую основу, хотя она и скрыта внешне.
Вслед за тремя ариями иноземных гостей следует песня уходящего в странствие Садко с его дружиной («Высота ль высота»), которая является своеобразным ответом русских мореходов иноземцам. Песня «Высота ль высота» неотделима от только что прошедших арий Варяжского, Индийского и Веденецкого гостей. Ее глубинно-национальная форма, ее широкая напевность, ее оптимистическое содержание – все это, составляющее прелесть извлеченной из глубины столетий песни, завершает соревнование отдельных сказаний о красотах родного моря, родного края. Не три песни мореходов, а четыре содержит последняя часть IV картины «Садко», и в этой сюите заложен большой смысл: перекрывая голоса иноземцев, мощно, широко и привольно разносится над Ильменем песня Садко об Окиян-море и глубоких омутах днепровских.
Вот почему так важны песни гостей. Вот почему такую большую роль играет, в частности, песня Варяжского гостя. И ее смысл раскрыл Шаляпин.
Холодные, пенящиеся волны грозно бьются о берег, прибой напоминает раскаты северной морской бури. Таким вступлением оркестра начинается песня Варяжского гостя. Энергично ритмованная, эта песня передает мрачный колорит сурового севера с вечно бурным, грозным морем и властным неприветливым народом. Поразительные свойства корсаковской звукописи раскрываются в этой небольшой выразительной песне.
Мы в «Садко» многократно слышали тему моря, она, проходя во вступлении, возникала несколько раз в ходе действия. Сейчас композитор показал еще один образ моря, противостоящий первому и охарактеризованный чертами, чуждыми русскому национальному воображению. Это море враждебно первому. Характерна поэтому и реакция новгородского люда на песню Варяжского гостя. Являясь ответом на просьбу Садко («Про края расскажите далекие, Чтоб нам знать, в какую сторону путь держать И где больше чудес повстречается»), песня Варяжского гостя отпугивает новгородцев холодной, бессердечной мрачностью: «Ой, не на радость к варягам плыть, ой, и живут же там все разбойнички!» – предостерегает толпа гусляра.
Поэтому образ Варяжского гостя, как и других гостей, особенный. Он важен и сам по себе (как неповторимый характер), и в общей связи с концепцией всего былинного сказа.
Победа Шаляпина в эпизодической роли приоткрыла значение всего спектакля, хотя он и не был свободен от многих серьезных недочетов. Недостатки (во всяком случае, главные) были устранены в последующих представлениях, но многое следует объяснить исключительной трудностью произведения. Театр сумел создать интересный ансамбль основных исполнителей, добиться поразительного по колориту, выразительности и феерической яркости оформления, но сладить с оркестровыми и хоровыми сложностями ему было трудно.
Прав был Н. Д. Кашкин, когда писал:
«„Садко“ представляет для всякой сцены задачу сложную, выполнение которой требует огромных артистических сил и средств. То, что сделано в этом отношении Частной русской оперой, ни разу еще не делалось на частных русских сценах, и дирекция сцены заслуживает горячей признательности всех друзей русского искусства. Но никакая частная сцена не может иметь средств вполне достаточных для исполнения подобных произведений, главным образом, она не может иметь оркестра».
Я останавливаюсь на этом моменте потому, что здесь нужно искать объяснение одной из причин, почему Шаляпин, высоко ценя то, что для него сделал Мамонтовский театр, все же не задержался в Московской Частной опере.
Работа в театре шла с неослабевающим напряжением. В репертуаре Шаляпина теперь появились Гремин в «Евгении Онегине», Неизвестный в «Аскольдовой могиле», Старый еврей в «Самсоне и Далиле» Сен-Санса, Колен в «Богеме» Пуччини.
Федор работал со все возрастающим увлечением, не зная, что значит усталость, не думая о том, что горло певца – инструмент хрупкий, а в такие годы в особенности. Ему было всего двадцать четыре года. А слава о нем дошла уже до Петербурга.
Великим постом, в феврале 1898 года Московская Частная русская опера в полном составе выехала в Петербург на гастроли, намереваясь показать весь свой репертуар, в том числе произведения, отклоненные администрацией столичной казенной сцены, – «Псковитянку», «Хованщину» и «Садко». В самом репертуаре звучал как бы вызов казенной сцене.
Подобные гастроли требовали большой смелости со стороны частной труппы, с энтузиазмом подходившей к воплощению новой отечественной оперы, но не обладавшей силами, даже приблизительно равными Мариинскому театру.
Когда Мамонтовская опера прибыла в Петербург, чтобы выступить в Большом зале консерватории, то по соседству, в помещении Мариинского театра, происходили субсидируемые царским двором гастроли немецкой оперной труппы, руководимой антрепренерами Леве и Парадизом и ставившей по преимуществу вагнеровские произведения [4]4
Великим постом спектакли казенных театров прекращались.
[Закрыть]. Таким образом, должно было произойти своеобразное соревнование: русской оперы и оперы немецкой, причем последней было отведено помещение императорского театра и оказана значительная материальная поддержка. Московская же труппа прибыла в столицу на свой страх и риск.








