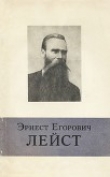Текст книги "Журавлиное небо"
Автор книги: Михаил Стрельцов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 26 страниц)
Много лет спустя, мысленно оглядываясь на тот день, когда он впервые переступил школьный порог, Адам Егорович пишет:
«Это был год моей обреченности на тяжкую работу, работу неустанную и бесконечную, с недостижимой целью – объять необъятное, и при том с негодными средствами».
Вы чувствуете в этих словах и сожаление, и обиду, и горькую насмешку над самим собою? Чувствуете? В таком случае слушайте дальше:
«…и если бы я знал, чем это пахнет и к каким приведет для меня последствиям, то, вероятно, не бежал бы вприпрыжку, когда вел меня отец в школу, и не трепетал бы от удовольствия и страха, обычных перед рискованной борьбой, в которой можно и победить, но и потерпеть жестокое поражение».
Какой печальный, трагичный вывод! И это говорит человек, для которого наука всю жизнь была всем. Он был обязан науке не только куском хлеба и не только местом в обществе – благодаря ей он получил возможность чувствовать себя человеком и возможность познавать мир.
Есть какая-то трагическая закономерность в судьбе Адама Егоровича. Как назвать, как объяснить ее? Чехову принадлежат слова о том, что дворяне брали даром от природы то, что разночинцы покупали ценой молодости. Дед Чехова был крепостным, Адам Егорович родился спустя несколько лет после того, как его отец перестал быть крепостным. Чехов писал о человеке, который ценою неимоверных усилий вынужден был «выдавливать из себя по капле раба». Чувствовать себя человеком помогали наука, знания. С необыкновенной жадностью тянется Адам Егорович к знаниям. Его душа и ум кипят и рвутся навстречу жизни. Он ошеломлен безграничностью возможностей, которые открывает перед ним наука. Он похож на человека, неожиданно очутившегося перед грудой золота, серебра, драгоценных камней и не знающего, что в первую очередь взять и сколько.
Вот он учится в школе, вот он устраивается учеником в железнодорожные мастерские – нет, не то; вот он учится кондитерскому делу – снова разочарование; вот он поступает к слесарю, а через некоторое время уже стоит за буфетной стойкой, потом снова возвращается к слесарному делу, и над всем этим всегда была книга. Наконец ночью, украдкой, он покидает хозяина – впереди Несвижская семинария. Адам Егорович пристает к желанному берегу. Наука! Возможность читать, спорить, быть приобщенным к настоящей жизни.
Не будем перечислять, что читал, чем интересовался в семинарии Адам Егорович, но несомненно, что та широта интересов – научных и общественных, – которая будет сопутствовать ему всю жизнь, берет начало отсюда, со счастливой поры обучения в семинарии. Тут, кстати, он познакомился с передовыми теориями своего времени, с историей революционной мысли. В год окончания семинарии Адам Егорович устанавливает отношения с представителями народничества и с этого времени начинает делить свою жизнь между службой, научными занятиями и общественной или революционной работой. Адам Егорович не щадил своих сил. Он, кажется, не жил, а горел. Позже Адам Егорович пожалеет об этом, по крайней мере, как ученый. Но иначе, видимо, он не мог. Возможно, он жил бы иначе, если бы мог немного больше взять «даром от природы». А он, что ни говорите, был все же самоучкой: официальная наука, семинарская, как бы она хорошо ни была поставлена, не могла дать ему и десятой доли того, что он знал, что взял из книг благодаря своей необыкновенной любознательности и, возможно, самолюбию.
Просветил и воспитал себя Адам Егорович сам – и только сам. Тут, несомненно, было чем гордиться, и он, вероятно, гордился, по крайней мере не упускал случая, чтобы не подчеркнуть это. Анна Куприяновна Волосович-Грязнова, двоюродная сестра Максима Богдановича, вспоминает:
«Адам Егорович знал себе цену. Он часто говорил: „Спроси у своего дяди (это значит, у него), он тебе обо всем расскажет“; „в библиотеку тебе не надо ходить, все, что тебе понадобится, ты найдешь у своего дяди“ и т. д.»
Но справедливо и другое: научным стремлениям Адама Егоровича нельзя отказать в известной энциклопедичности. По характеру своих научных и житейских интересов он, несомненно, был тем, кого называют емким и благородным словом «просветитель». Адама Егоровича интересовали социально-общественные теории, педагогические системы, литература и театр, банковское и горное дело, злободневная публицистика и возможность практической революционной работы, но только в этнографии и в смежных с нею областях он оставил нечто стоящее внимания. Подлинным его вкладом в науку был и остается труд «Пережитки древнего миросозерцания у белорусов», – «юношеский», как говорил Адам Егорович, труд.
Кстати, нам есть смысл послушать самого Адама Егоровича.
То, что он сетовал на науку, в которой обманулся, мы уже знаем. «Объять необъятное и притом с негодными средствами» – помните это? К концу жизни Адам Егорович подводил итоги. Писал воспоминания. Возможно, как никогда раньше, все его мысли обратились к родному народу. Это не догадка. Можно соответственно процитировать Адама Егоровича, и если мы не делаем этого, то только для того, чтоб не перегружать наше повествование цитатами. Были тридцатые годы. Беларусь уверенно заняла то почетное место, о котором мечтали лучшие ее сыновья, в том числе и Максим Богданович. Бурно развивалась национальная культура – на родном языке и на родной почве. Казалось нелепым, что еще совсем недавно, в начале двадцатых годов, даже такой ученый, как Карский, человек, положивший столько труда на то, чтоб доказать историческое и культурное своеобразие белорусов среди других славянских народов, мог еще считать проблематичным успешное развитие белорусской культуры в ближайшее время на национальной почве. О, эта «объективная» наука! Как трудно ей быть объективной и как трудно удержаться от предсказаний!
Адам Егорович подводил итоги. Как всякий более или менее реалистически мыслящий человек, он не мог не видеть успешного разрешения всех тех проблем, к которым приобщился еще в юности и от которых так или иначе отошел в более поздние годы. Что должен был чувствовать, что должен был думать теперь Адам Егорович? Считать, что зря прожил жизнь, что обманул себя в чем-то главном, не заметил, как разминулся со временем в самый ответственный момент? И если так, то выпала ли на его долю, пусть коротенькая, череда счастливых и прекрасных дней – и если выпала, то когда? Может, в то время, когда он и писал свой первый, свой «юношеский» труд?
Так или иначе думал Адам Егорович, сказать теперь трудно, но то, что он болезненно подытоживал собственную жизнь, не вызывает никаких сомнений – иначе откуда было бы это трагичное для ученого разочарование в самом инструменте труда – «непригодные средства!» А может быть, все ту же «объективную» науку имел при этом в виду Адам Егорович?
Да, он подводил итоги:
«Написал я, собственно, много, около ста и даже больше печатных листов, считая, что в рукописях. Это весьма много, если принять во внимание, что я никогда не занимался одним делом, а двумя, тремя параллельными(подчеркнуто мною. – М. С.), которые, как революционная работа, захватывали меня временами почти столько же, сколько служба, а трепки нервам давали еще больше. Написал я много, но толку мало: все это кануло в лету провинциальных повременных изданий, где их и завзятый библиограф не отыщет. Одни лишь „Пережитки…“ да то, что напечатано в сборниках Академии наук, могут иметь действенное значение».
Как видите, почти то же о научной деятельности Адама Егоровича говорим теперь и мы. Он видит общественный смысл своей работы в сохранении для будущих поколений частицы тех народных богатств, которые пере-дала ему, может, и не догадываясь об их подлинной ценности, белорусская деревенская женщина – бабушка Рузаля.
«Уже ее правнук Максим, унаследовавший нечто от ее духа, успел в свой короткий век позаимствовать кое-что из этой сокровищницы, облечь в стихотворные формы. А из бабиных сказок он впервые познакомился с белорусской речью.
Значит (мое) сидение на лежанке не прошло бесплодным, и бабушка Рузаля прошла через свою долгую и тяжкую жизнь с огромной ношей старины за плечами не бесследно…
Что и требовалось доказать!..»
«Что и требовалось доказать», – добавим и мы от себя и со словами благодарности оставим пока Адама Егоровича, человека, которому в его детстве посчастливилось греться у священного огня наших пращуров и который почувствовал, понял сердцем, что надо сохранить для потомства, пересказать счастливые минуты, подаренные ему. Так он, сознательно или подсознательно, верный памяти сердца, и поступил в юности. Тепло того огня передалось его сыну. Это был тот огонь, при ярких отблесках которого Максим Богданович увидел будущее.
СТРАНА ОБЕТОВАННАЯ
Адам Егорович покинул Белоруссию в год смерти жены. Максиму Богдановичу было тогда только пять лет. С этого времени он воспитывается, учится, мужает за пределами Белоруссии. Пятилетний возраст – возможно, самый впечатлительный, однако в смысле собственно белорусских впечатлений вряд ли он дал что-нибудь существенное Богдановичу. Интеллигентная среда, пусть даже демократическая, в которой он воспитывался в Минске и Гродно, надо думать, не очень уважала национальный элемент в воспитании и быте. Интеллигенция и дома, и на людях разговаривала по-русски. Семья Адама Егоровича не была исключением. Недаром же он сам пишет, что «на неблагодарной ниве писания стихов по-белорусски» в Минске пробует свои силы только один Янка Лучина (Неслуховский). Капля в море! На это почти никто не обращал серьезного внимания. В том числе и сам Адам Егорович. Он был занят иным. «Белоруссика» (его термин) могла интересовать только с этнографической стороны. Даже значительно позже, в год первой поездки сына на родину (1911), куда тот приехал уже известным белорусским поэтом, Адам Егорович был склонен считать «картину белорусского возрождения довольно безрадостной». Правда, тут же он добавляет, что «не пытался расхолаживать его (сыновьего. – М. С.) порыва». Что ж, и за это спасибо.
Самым сильным «белорусским» впечатлением Максима Богдановича была смерть матери. Если всей глубины трагедии он помнить не мог, то пережить ее мог несомненно. Недаром же у него была материнская, а это значит, очень впечатлительная натура. Так говорит сам отец. Рано лишенный материнского тепла, он всю свою жизнь тосковал о нем. Догадаться об этом мы можем и по его творчеству: идеал женщины для него – мадонна, мать. Трепетная и нежная, ласково-тревожная в своей материнской любви.
Смерть матери лишила его родины. Светлая память о матери-родине властно позвала его назад.
Когда и как научился он белорусскому языку, когда в его сознании, в его сердце возник, разрастаясь и подчиняя себе все, образ «краіны-браначкі» – образ Белоруссии? Отец свидетельствует: писать стихи по-белорусски он начал рано, в десяти-одиннадцатилетнем возрасте. Что поддерживало его в этих стремлениях? Кто был человек, ставший добрым гением талантливого мальчика? Отец? То, что он каким-то образом влиял на пробуждение в сыне интереса к родине и к родному слову, – справедливо, и этого нельзя отрицать. Влиял хотя бы тем, что сын мог пользоваться его этнографическими трудами и теми фольклорными записями, что были в его архиве. Но давайте попытаемся спокойно порассуждать.
О первых поэтических пробах Богдановича мы знаем со слов того же отца: он помнит, что мальчик показывал их своей крестной Ольге Семовой, когда та приезжала в Нижний Новгород. Запомним ее имя. Не мешает обратить внимание и на то, что свои стихи мальчик впервые показывает не отцу, что было бы вполне естественно, а крестной, которая даже не живет с ним в одном городе и о возможной реакции которой на стихи (белорусские стихи!) он мог только догадываться. Скажут: он мог показывать свои стихи отцу раньше. Допустим. Но в таком случае зачем было отцу писать, что он помнит о первых опытах своего сына в связи с тем, что тот их кому-то показывал? Зачем Адам Егорович стал бы искажать истину с явной невыгодой для себя? И вообще не послушать ли нам его самого?..
«Его (сына. – М. С.) занятия белоруссикой шли совершенно незаметно для меня и окружающих: по крайней мере, я его не толкнул на эту дорогу, но, разумеется, и не мешал».
Вот ведь как сказано, и о каком же особенном влиянии мы можем после этого говорить? «Не мешать» – было принципом Адама Егоровича в вопросе воспитания детей.
«Я не мешал своим детям быть, чем они хотят, но, в сущности, никогда не был доволен тем, что они есть».
Адам Егорович говорит, что отец – плохой судья своим детям. Не очень хочется и нам быть судьями его самого, только уж очень противоречивой, при всей своей объективности, кажется его формула. «Не мешать и не быть довольным». Не мешать – что это значит? Не принимать участия, не быть заинтересованным, разрешить человеку воспитывать самого себя. Но отчего в таком случае быть недовольным? Какое можно иметь на это право?
В том, что наше удивление небезосновательное, убеждают воспоминания Анны Волосович-Грязновой, на которые мы несколько ранее уже ссылались. И ее не удовлетворяет если не сам принцип дядиного воспитания, то результат. По крайней мере, в отношении к Максиму Богдановичу. Она пишет:
«Мне думается, что в то время и Адам Егорович должным образом не ценил таланта и значения Максима. Иначе, невзирая ни на что, он обязан был помочь Максиму поехать учиться в Петербург, где под руководством профессора Шахматова он посвятил бы себя любимому делу – изучению языка, этнографии и истории Белоруссии. Максим к этому стремился всей душой, а ему пришлось потратить пять лет на изучение юридических наук, к которым не лежала его душа. Ему пришлось жертвовать своим призванием ради брата, ибо Адам Егорович считал, что Леве надо учиться в Московском университете – у него же такие математические способности (в 1911 году Леве было только семнадцать лет)…»
Так слова Адама Егоровича: «Я не мешал своим детям быть, чем они хотят», – обернулись горестной неправдой.
Не будем преувеличивать, но должны сказать: люди, окружавшие Максима в нижегородский, а затем и в ярославский периоды его жизни, мало понимали его устремления, в лучшем случае смотрели на них, как на чудачество. На берегах Волги, за тысячу, если не больше, километров от Северо-Западного края, мечтать о какой-то «самостийной» Белоруссии? В самом деле, разве это не чудачество? Хуже всего было то, что его не понимали в родном, семейном кругу. Отец не понимал и не «мешал». Правда, крестная Ольга Епифановна, которой Максим показывал свои первые стихи, написанные по-белорусски, хотя и не понимала, не сочувствовала, возможно, в главном, но, добрая душа, не отказала в просьбе выписать для него сперва «Нашу долю», а затем и «Нашу ніву».
Как мало мы еще знаем людей, рядом с которыми жил Максим Богданович! Кто эта Ольга Семова? Каким образом она связана с семьей Богдановичей? Какова ее дальнейшая судьба? Богданович переписывался с ней – где их переписка? А знать об этом следовало хотя бы потому, что Семова, может, и не сознавая, помогла тому Богдановичу, которым теперь гордится целый народ, – и из-за этого так невыразимо нам дорог по-человечески благородный жест женщины, хорошо оправдавшей свое званье «крестная».
Ну, а те, кто все же «мешал»? Не по природной склонности злобного ума или души, а, так сказать, на принципиальной, идейной основе. Надо думать, что были и такие, и не в единственном числе.
Любителей «забіць трывогу аб той мове, якой азваўся беларус», всегда было много. Смотрели и выносили приговор с высоких «государственных» позиций. Зачем эти местнические тенденции, зачем заводить распри в доме? В доме должен быть один хозяин, один отец. И дети должны слушаться отца. Ну, а славянская, святая славянская идея? Что ж, и ее вы хотите разорвать на пестрые лоскутья, чтобы перевязывать ими свои «местные» раны? Нет, у идеи должно быть одно знамя.
Так или приблизительно так могли думать в среде, где жил Богданович.
Один из «идейных» – Петр Гапонович, брат Анюты Гапонович, двоюродной сестры поэта, той Анюты, в которую он был влюблен. Петр Гапонович. Родственник и, казалось, друг. И принципиальный, так сказать, противник. Они спорили по национальному вопросу. Гапонович, «рассудительный, холодноватый», «безупречно владел силлогизмом». «И Максим – горячий, страстный, почти одержимый». Они спорили. «Волна и камень», «лед и пламень» – все же очень различны меж собой. Гапонович считает национальную, «местную» идею фикцией, выдумкой горячих голов, принимающих мечту за реальность. Где факты? Немалое количество бесплатных корреспондентов «Нашей нівы»? Игра! На одном энтузиазме далеко не уедешь. Необходима хотя бы какая-нибудь финансовая база, не говоря уже о других проблемах и нуждах. Бесплатные корреспонденты! Это же от бедности. Филантропия, одна филантропия. Провинциальная филантропия.
Спорили – может, так, а может, и не так. Несомненно одно: Максим для Гапоновича – идеалист, идея которого ничего не стоит. Не предмет спора увлекает Гапоновича, а возможность оттачивать свои силлогизмы. Пусть радуется, пусть в конце концов верит. Дело его. На другое он не способен. Не сбил бы с толку Анюту. Она, кажется, рассудительная девушка, но все же… Такого кавалера, как Максим, своей сестре он, понятно, не желал. Он, тот «логик», по-настоящему встревожился, узнав о намерении Максима приехать из Ярославля в Нижний. Перед Богдановичем тем временем остро встала проблема устройства жизни после окончания лицея. Куда податься? Что делать? Ехать в Минск? Но идет наступление немцев, и еще неизвестно, чем оно кончится. А кроме того – Анюта… Надо было как-то прояснить отношения.
Этих отношений Петр Гапонович боится больше всего. Нет, он раскроет ей глаза на то, кто этот Богданович, и он дает Богдановичу характеристику, лучше которой вряд ли мог бы, на наш сегодняшний взгляд, кто-нибудь дать. Он уверен, что сестра, которой он пишет (не Анюта, а вторая сестра, Вера Ивановна), поймет все как следует и сделает все, чтоб помешать развитию отношений между Богдановичем и Анютой. Гапонович пишет:
«Рьяные отношения к „самостийной“ Белоруссии окончательно поглотили все его заботы и все его внимание. Он запирался в своей комнате, углублялся в эти вопросы и в такой плотной двойной оболочке, изолированной от жизни, провел все свои последние годы.
Так рисуется его теперешнее положение, и отсюда идет его решение бросить дом своего отца и Александры Афанасьевны и на стороне начать новую самостоятельную жизнь».
Это написано в 1915 году. Богданович уже автор «Венка». Венок славы, будущей великой славы, уже лежит на его голове, но «логик» Гапонович не видит этого. Ветер века шумит в лавровых листьях этого венка, но «силлогистик» не слышит этого, он бормочет что-то о «двойной оболочке», об изоляции от жизни. О человеческий практицизм, о трезвый реализм мещанства, сколько раз ты решался выносить приговор гению и сколько раз выносил приговор самому себе!
Жизнь… Изоляция от жизни. Мещанин понимает только «жизнь», но никогда не постигнет ее меры – времени. «Изолированный от жизни» Богданович носил в себе жизнь в ее наивысшем и самом широком измерении. В маленькой комнатке того, кого прозвали Максимом Книжником, жило само время. Там помещалась вся Беларусь. Далекая и близкая Беларусь, «краіна-браначка». Отец говорит: выбором жизненного пути, выбором цели сын обязан «непреодолимому влечению» к родной стихии, интуиции, «унаследованной от предков». Возможно, это и так. Но можно ли все объяснить только этим? Сам же Адам Егорович стоял еще ближе к предкам, чем сын. И ближе к сокровищам «бабки Рузали». «Остальное сделала твердая воля и упорство в труде». Ну, хорошо. Добавим еще – и талант, о котором почему-то забыл Адам Егорович. Мы объясним себе Богдановича – необычайно требовательного поэта-мастера, – но как объяснить рождение в Богдановиче именно белорусского поэта? Адам Егорович имел и талант, и интуицию, унаследованную от предков, и завидную настойчивость в труде, и твердую волю, однако не стал фигурой такого масштаба, как сын, хотя и намного пережил его. Нет, вероятно, и «зов предков», и талант, и воля имеют значение тогда, когда их приводит в движение какая-нибудь большая, общественного значения идея. Для Максима Богдановича такой идеей была идея национального и социального раскрепощения родного народа. И подсказало ее Богдановичу время.
«Слушайте время!» – говорит нам своим примером Богданович. Запомним это.