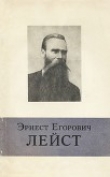Текст книги "Журавлиное небо"
Автор книги: Михаил Стрельцов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 26 страниц)
– У тебя есть курево? У меня все забрали хлопцы, да и не жалеть же…
Я знал, что Микита лгал, что сегодня принес он достаточно и табака и папирос. И мне стало еще более досадно.
– Давно пришел? – с трудом произнес я, протягивая Миките папиросу.
– Я? Вслед за тобой… Как ты от Федорихи вышел – и я сразу…
– А-а… Ты же еще остался…
И не знал я больше, что ему сказать. Я плюхнулся на кровать, чтобы долго не уснуть в ту ночь…
А назавтра вечером ко мне подсела тетка Авгинья и, вздыхая и поправляя на голове косынку, жалобно заговорила:
– Есть у тебя, хлопчик, батька, а? Ну и хорошо, если есть: матке подмога. А без батьки тяжко, ой, тяжко. Мой человек помер, крепкий был мужчина, а помер. И болезнь холерная навязалась: простудил голову, похворал год – и нет человека… А сын с войны головы не принес. Красивый был хлопец, не то что Микита, – девчата гуртом бегали вслед… Ах, что ж это я: молоко надо в печь ставить, за ночь, может, и скиснется.
Тетка Авгинья суетилась у печи и все говорила, говорила. «Дозналась о чем-то, – подумал я, – как неудобно…» А она снова подошла ко мне, встала сбоку, печально склонив голову и опустив руки.
– Девчата теперь слишком разумные стали, – говорила она, – глядят, чтоб и красивый хлопец был и городской к тому же. А того не знают, что с человеком век вековать: надо, чтобы мужик добрый был… Вот мой Микита. И дома помогает и в колхоз день в день ходит… А другая все ищет покрасивей. Ого!.. А ты женатый, хлопец, или нет? Годков тебе, наверное, много… – Она вдруг засмеялась – негромко, сдержанно, словно стыдясь своего смеха. – Это я слышала, что ты к нашей девчине ходишь, – не глядя на меня, сказала она и почему-то утерла лицо фартуком. – Ну что ж… – И опять пожаловалась тихо: – Ну что ж… Молодому погулять хочется, а другая думает, что человек весь к ней…
Мне хотелось солгать, сказать, что я женат, чтобы тетка Авгинья разнесла это по деревне и чтобы Ганка сторонилась меня. Но, смущенный, я промолчал.
В тот вечер я не пошел на улицу и решил не видеться с Ганкой. Микита уже не звал меня на гулянку и каждый вечер куда-то исчезал один…
Пришло время возвращаться в город. Я не изменил своему решению и не встречался с Ганкой. Однажды она зашла к нам в хату и говорила о чем-то с теткой Авгиньей. Я все это время пробыл за перегородкой и не показался на кухне. Когда Ганка вышла, не удержался, выглянул в окно и увидел, как она, склонив голову, задумчиво ступала к своему крыльцу. Вспомнился первый ее приход, стало больно и грустно…
И вот прошел с той поры год, и опять наступила осень, которая в городе не имеет особенных примет. В скверах шуршит под ногами листва, а запах земли, развороченной экскаватором, будит в памяти другую осень и другие дни. И вспоминаю Ганку, ее голос – ровный, глубокий, с густыми дремотными нотками…
Зачем я так обошелся с ней, ради чего?
Мне хочется снова поехать в деревню, увидеть Ганку, подойти к ней и сказать: «Прости меня, я обманул тебя и себя обманул тоже».
И мне не дает покоя осеннее воспоминание.
ДВОЕ В ЛЕСУ
(Перевод Эд. Корпачева)
В. Громову
Перекусив, они молча решили, что можно и отдохнуть.
Место им попалось хорошее – сухое, светлое. За несколько шагов от него сосны отступали в низину, а там кустился ягодник у трухлявых пней, чернела истлевшая листва. Еще дальше темная стена елей была прошита тонкими стволами редких березок, – низина переходила незаметно в тихое сумрачное урочище.
Но здесь, на свету, было сухо, тепло от земли, прогретой солнцем, густо усыпанной жесткими хвоинками и нежными чешуйками молодой сосновой коры. Усевшись на землю, можно было долго смотреть на небо, которое просвечивало меж ветвей, смотреть потом на ласковое золото высоких мачтовых стволов: снизу казалось, что они сходились вверху.
Утомившись на рубке леса, Василь приятно чувствовал горячую разморенность в руках, в плечах – во всем теле. Приятно было и то, что вот они, двое во всем лесу, теперь молчат, под тихий шум сосен думая каждый о своем. Василь даже рад был этому, зная, каким нелегким временами бывает разговор с человеком, если у тебя с ним произошло что-то неладное, еще и теперь не прояснившееся до конца, – и потому неизвестно, как тебе смотреть на этого человека и как ему смотреть на тебя…
А может, он, Микола Клыбик, нынешний напарник Василя, и ни о чем не думал. Вытянувшись во весь свой завидный рост, он лежал на земле недвижно, с закрытыми глазами, одну руку положив под голову, другую на грудь, на выцветшую рубаху – просторную, с длинными рукавами, перехваченными резинкой повыше локтя, и без воротника. Воротнички когда-то надевались под галстук, – у Клыбика, школьного делопроизводителя, лишь у одного во всей деревне были такие рубашки.
Наверное, Клыбик заснул, и Василь глядел на него, на его лицо с крупным носом, на высокие залысины над выпуклым лбом и не мог понять, то ли устал человек, то ли у него такая привычка – засыпать сразу и крепко. И еще он думал, что Клыбик и не должен был уставать сегодня: работничек был так себе, вполсилы тянул пилу, да и любил, когда подрезали дерево, заходить с правой руки – и легче, и удобнее было с правой руки.
Движения у Клыбика вялые и неуверенные какие-то, и, глядя, как он стучал топором по сучьям или перекатывал готовый кругляш, вспоминался почему-то его отец, такой же высокий и медлительный, как и сын. Про отца в деревне говорили, что по лености своей он жил в недосмотренной хате, что по утрам, когда не было чем растапливать печь, ходил во двор тесать стены старого сарая.
Старый Клыбик очень гордился сыном, который в армии был как будто писарем, а заодно научился наигрывать на гармошке.
– Э-э, скажу тебе, скажу тебе, – доказывал он любому встречному, – Миколка в меня пошел. Скажу тебе, я в охоте толк знаю, а он на гармошке… Э-э… пуговки, скажу тебе, как черт перебирает. Он у меня и строгий. Как пришел со службы, старуха моя утром высыпала бульбу на рушник, так он, скажу тебе, как крикнет! Некультурно, говорит, не буду есть. Строгий он у меня, ого…
И еще больше загордился старик, когда сын, на удивление всем, сыграл свадьбу со здешней учительницей.
Удивляться удивлялись, но выпили сельчане на той свадьбе не одно ведро водки, а он, Василь, и близко не подошел, потому что и без чарки было на душе горько… И все никак не мог понять, как же случилось так, что Марина, которую считал почти своей, будет при людях целоваться с Клыбиком и сидеть с ним рядом за столом. А может, ничего странного в том и не было, потому что сам ведь знал Марину всего с неделю… И все же горько было на душе, очень горько. Со временем та горечь развеялась, и вот уже забыто все, казалось, да где там: разбередил прежнее сегодняшний день, долговязый Клыбик, от которого никуда теперь не денешься, потому что надо вместе работать. И он уже злился на себя, недовольно думал: «Зачем я согласился на эту работу?»
Вчера вечером пришел домой отец, сказал, что в школе получили билет на дрова и директор распорядился ему и Клыбику собираться завтра в лес. Они ведь с матерью сторожат школу, отказываться нельзя, да и какая-нибудь копейка за работу будет. Он бы и сам пошел с Клыбиком, но завтра мужчины будут ставить хату Тимоху Бричикову, просили и его, потому пускай в лес вдвоем с Клыбиком идет Василь.
Василь отнекивался сначала, но отец неожиданно рассердился. И тогда он подумал, что, может, не надо портить настроение старику, потому что у Бричиковых будет завтра шумное сборище, будет веселая работа, а потом мужчины сядут за стол, выпьют немного, и для всех словно праздник придет.
И Василь согласился.
Он не пошел гулять, а взял рядно и раньше обычного полез на чердак. Спать не хотелось, лежал и думал о многом, боясь думать об одном лишь Клыбике. С опозданием привезли из местечка в магазин хлеб, и вот на улице ходили люди, переговариваясь тихо, а потом кто-то громко спросил, куда погнали конюхи лошадей в ночное. Там, на улице, был теплый вечер, и Василь припоминал, как вчера они с хлопцами ходили на танцы в соседнюю деревню и какая густая, теплая и без росы была вдоль дороги трава, – говорили, к перемене погоды. И вот ему вспоминался уже другой вечер, такая далекая теперь и все же по-прежнему славная Марина…
В ту пору по деревне разнеслось, что приехала новая учительница. Говорили, что она молодая, красивая. Через несколько дней после этого Василь и сам увидел ее. Он белил в школе стены, когда туда совсем неожиданно зашла она, вся такая загорелая, светловолосая и тонкая – совсем не похожая на учительницу. Особенно красивы у нее были доверчивые, теплые, искренние глаза: казалось, что там непрестанно плавились голубоватые льдинки – так светились ее глаза чистым светом. Льдинки – это он выдумал, потому что взгляд был теплый, ласковый и беспричинно добрый.
Девушка сразу выспросила у Василя его имя и, словно только и было у нее забот, что открыться незнакомому человеку, заговорила:
– Скажите, вам нравится в деревне, правда? Вы все время здесь живете? А я сама напросилась сюда, хотя деревню знаю лишь по газетам. Вы только не смейтесь, ладно? Да вот и в книжках, если где природа описана, я все читаю, читаю… А вы, смотри-ка, большой какой, сильный… Потому что физическим трудом занимаетесь, правда?
Он отвечал что-то, улыбался искренне и вовсе не чувствовал себя застенчивым с нею или неловким, потому что говорить с девушкой было легко, и ничего еще не было в сердце Василя.
А потом был вечер, тот их первый вечер, памятный ему и теперь и не забытый, наверное, и ею… Тогда была вечеринка, самая веселая, песенная вечеринка. А ему как раз легло на душу хорошее настроение. И все началось с того, что Андрейчиков Федор, тракторист, шалопутный хлопец, выпросил у Василя флотскую фуражку с козырьком – давнишний подарок моряка, двоюродного брата. Федор так обрадовался неожиданному приобретению, так забавно клялся Василю в дружбе, перечисляя заодно козыри, которые будет иметь теперь перед другими хлопцами, что Василь развеселился, подобрел, будто не он сам, а Федор сделал ему желанный подарок. Они и на вечеринку пришли вместе, и, как этого требует давний обычай, постояли сначала у порога, осмотрелись… Играли «Сербиянку», старый неведомо кем и когда занесенный сюда танец. Танцевали женщины, с припевками, отчаянно выбивая ногами. Глядя на них, можно было подумать, что в селе праздник. Наверное, женщины шли домой, а на пути стоял клуб с большими светлыми окнами, с переливчатой гармошкой, с веселым плеском бубенцов, и они не смогли удержаться, чтобы не зайти…
Играл Клыбик, очень серьезный и озабоченный, как всегда, когда склонялся над гармонью. Под ногами у него был кругляш, на коленях – разостланный платочек: опасался молодой Клыбик протереть гармонью штаны. И еще любил он, когда наигрывал, чтобы стояла рядом девушка и время от времени вытирала своим платочком его вспотевший лоб.
Наплясавшись, пошли, наконец, домой женщины, и начались настоящие танцы. И тогда подошла к Василю Марина – то ли случайно, то ли поговорить ей хотелось. Он пригласил ее и потом почти весь вечер танцевал с нею, и ему было хорошо. А Марина все боялась, что танцует не так, не по-деревенски, что это заметят и будут смеяться…
И вот сиди теперь с Клыбиком рядом, в одиночестве, и думай. И как же случилось, зачем – все необъяснимо так и скоро, – зачем и почему? Марина, Марина… Пускай бы уж нашла себе счастье с этим Клыбиком, а то ведь нет. Ходит всегда грустная, лучше бы не видеть ее такой. Да и женщины говорят: «Не ладится у нашей учительницы жизнь» – и упрекают в этом Клыбика. Женщины знают, зря не станут говорить…
Тихо шумит лес. Знойная сухость стоит в лесу, и лишь неуловимо тонко, но остро пахнет потрескавшимися шишками, подсохшими ветками и прошлогодними листьями. Видна дорога неподалеку отсюда и по ту сторону ее – молодой сосняк. Еще ближе, среди леса, впадина; целое стадо серебристых осинок пасется там, и оттуда вместе с солнечными сквозняками, струящимися меж сосновых стволов, приплывает непривычно горчащий запах осины, а то и пресноватый дух затененной земли…
Шумит лес, и монотонный шум его успокаивает Василя. Можно долго смотреть вокруг, и взгляд становится бездумным, как это бывает, например, если не отрываясь глядишь в огонь. И тогда что-то щемящее и грустное трогает сердце, и опять хочется думать, думать – ну хотя бы о том их первом с Мариною вечере…
Само собою случилось так, что когда кончилась вечерника, они отстали от всех и пошли по улице рядом. И сразу навалилось на них широкое безмолвие теплой ночи. Светила луна, маленькие облачка застыли в небе, точно утиный пух на воде. Тишина была кругом, и даже то, что впереди говорили, смеялись хлопцы и девчата, не могло нарушить ночной тишины, – деревня спала.
Не торопясь шли они по улице. Большая тесаная колода попалась на пути, и они сели на нее под трепетную тень тополя, освещенного луной. Василь молчал, а Марина говорила для него, говорила, как раз так же, как тогда, когда заходила в школу, только еще задумчивей, – и все заглядывала ему в глаза.
– Знали бы вы, как мне интересно у вас: и вечеринка эта, и люди, и все. – Она тихо засмеялась. – Слушайте. Когда сегодня женщины вышли со своими частушками, мне было как-то неспокойно, боязно. Ну, как бы вам сказать… Словно бы я сама вышла на круг и пела, а люди смотрели бы на меня, и вы стояли бы где-нибудь в стороне и тревожились за меня, за мой голос… Вы понимаете?
И Василь согласно кивал головой, улыбаясь Марине, ее словам, своим мыслям. Будто легкая и чистая волна подхватила его и понесла; и эта ночь, и луна, и росистый выгон за деревней в таком свежем ядреном блеске – все казалось Василю новым, точно увиденным впервые. Ему хотелось сказать Марине, как он понимает ее и как правильно поступила она, приехав к ним в деревню, но он молчал, прислушиваясь к чему-то широкому и доброму, что рождалось и росло в нем. Было легко и отрадно думать, и так же легко облекались мысли в слова, и он разговаривал с Мариной: «Ты хорошая, Марина, ты добрая. Подожди, я тебе расскажу про нашу деревню, про тихие утра и духмяные ночи, про закат солнца, когда такая тишина стоит вокруг и лениво стелется по земле первый дымок от раннего костра. Я расскажу тебе, как приходит сюда весна, как слабо пахнут на деревьях почки, как черен сад в вечерней розовости неба. Ты услышишь, как хрустит тонкий ледок под ногами, а вот, гляди, прошла машина, но еще долго будет держаться терпкий запах бензина. Слышишь, хлопнули где-то двери, и отзвук весело затихает. Слушай, и ты различишь, как в темную ночь гудит в поле трактор, как поют на обмолоте девушки – в ту пору, когда падают в саду яблоки и падают с неба звезды. Слушай, и ты поймешь, что зимою здесь так же хорошо, как летом, а в морозную ночь Млечный Путь блестит, как торная дорога под луной… Слушай свое сердце, Марина, оно у тебя доброе, – слушай, и оно тебя не подведет…»
Так говорил он мысленно с Мариной, и очень может быть, что она слышала его, потому что потом, когда Василь взял осторожно и мягко сжал ее руку, Марина приклонилась к его плечу и молчала.
– Какая особенная, светлая ночь сегодня, – сказала она потом, и Василь уже не сомневался, что Марина догадалась обо всем, о чем он молчал.
Была ночь, и луна светила для него и для нее…
Ах, если бы всегда вспоминать эту ночь и если бы не было того необъяснимого и отзывающегося болью, что внезапно встало меж ними!
Сколько раз он думал потом: как же так случилось, кто виноват, и каждый раз боялся обвинить себя, потому что тогда уменьшилась бы обида в сердце, по прибавилась бы грусть. Проще всего обвинять Клыбика и сожалеть Марине.
И успокоился бы, наверное, на этом, если бы не последняя встреча с Мариной, если бы не память о ней, которую не заглушить, если бы не прощальный Маринин взгляд – за далью времени не забылся он: и упрек, и жалость были в нем, я даже, кажется, презрение. Почему она так смотрела, почему?

И уж если не бояться вспоминать, так вот как было все. Он стоял под Савкиной крышей, спрятавшись от дождя; не очень густой, ленивый пошел дождь, потому что с самого утра было пасмурно и весь день стояла на улице мягкая теплынь. И как же хорошо повеяло потом дождевой прохладой, освеженной землею! Почему-то сразу расхотелось стоять под крышей, подмывало выскочить на улицу и подставить лицо, распахнутую грудь неспешным струйкам дождя. Василь, наверное, так и сделал бы, но заговорили во дворе, скрипнули ворота, и он увидел Марину с большим мешком за плечами, а рядом – ее хозяйку, старую Сымониху, в мокром фартуке и с серпом на руке. За Савкиным огородом начиналось поле, и часто женщины ходили туда по траву.
Василь первый увидел Марину, и тут же кольнуло в сердце, едва он подумал о себе и о ней, о Клыбике, который уже тогда стал меж ними. И еще запомнил Василь, какая задумчивость была на лице Марины и как, глядя себе под ноги, шла она к воротам, и как мотался и бил по загоревшей ноге с прилипшей к ней травинкой порванный ремешок от туфельки… И вдруг Марина увидела его. Словно кто-то толкнул ее в грудь, и она выпрямилась и, казалось, всю себя вложила в тот взгляд, в котором жалость была, и боль, и, может быть, даже презрение…
Случилось это после того, как Василь впервые после их знакомства не провожал Марину домой…
Так же, как и прежде, шумел лес, но уже не было успокоения Василю в его монотонном шуме. За полдень клонилось солнце, спускаясь на сосны. Спокойнее его свет там, где шире расступаются деревья, открывая дорогу. И вот начинает веять оттуда пылью, и вот слышно уже, как поскрипывают колеса и как кто-то однообразно понукает коня. И можно догадаться уже, что везет кто-то с пилорамы в соседнюю деревню доски, и можно видеть, как впереди воза бежит собака, шныряя в густом сосняке по ту сторону дороги, – может, птицу почуяла там, а может, насторожила непуганая лесная тишина, потому что собака останавливается и то и дело заливисто и гулко лает…
Тогда-то и просыпается Клыбик.
Он смотрит недоуменно вокруг себя, зевает и потом уже, заметив Василя, начинает удивляться:
– Думал, полежу немного, отдохну, а оно вон что… А ты все сидишь, ого! Наверное, не так утомился, как я. А я даже сон видел. Будто приходит ко мне в хату Ахремчик этот, председатель. Говорит: «Штраф тебе принес: выгон с колхозниками огораживать не хотел, а корову в общее стадо пускаешь?..» – «Вот Ахремчик! А телку, – спрашиваю, – я в колхоз сдал? Сдал. Почему же сена за нее не даешь?» А он, Ахремчик, так и выпендривается. «Пойдем в гумно, – говорит, – я покажу тебе сено. А телку твою мы за пастьбу возьмем». Видал такого? Чтоб тебя самого не знаю куда взяли!
– Может, думал про это, вот и приснилось…
– Думал!.. Ничего удивительного. Ахремчик этот мне душу переел. Очень быстрый: всех бы в колхоз загнал. Но подожди… Все они так сначала. Евменов, тот, который раньше, тоже брался, а теперь что? Одними фельетонами на него можно печь вытопить.
И он все говорил, Клыбик, говорил, а Василь удивлялся, с какой простотой раскрывался перед ним этот человек, словно хотел доказать: смотрите, вот я какой, Микола Клыбик, тот самый, которого в деревне прозвали «портфелем». Он то вспоминал, как отец его едва не первый отвел в колхоз коня («А конь, конь был – зверь, не то что у других!»), то говорил, что мог бы остаться в городе после армии, а вот как приехал домой, так и косятся все, завидуя его деньгам.
Понемногу раскрывался перед ним этот загадочный Клыбик, и Василь видел его то военным писарем, то продавцом здесь, в деревне, то физруком в школе, а потом делопроизводителем, и, наконец, нетрудно было догадаться, куда заведет дальше Клыбика странная эта портфельная логика: еще ждало его где-то место лесника ли, грибовара ли. И было ясно, что, женившись на Марине, как бы прихватил себе Клыбик очередной портфельчик.
И сызнова возникало перед Василем все отобранное памятью, передуманное неоднократно.
Самое необъяснимое начиналось с одного вечера, с одной вечеринки – такой же, как и та, когда впервые он танцевал с Мариной. И опять же было весело в тот вечер: как-то сразу приехало на побывку в деревню трое, и среди них – Надя, та самая, с которой Василь учился прежде в школе. Кажется, в то лето была у нее практика, и она ненадолго перед самыми занятиями заглянула в деревню. Они виделись с Василем почти каждый год, но, наверное, потому, что бывших одноклассников в деревне осталось мало, эти встречи для обоих были всегда радостными, – им вдвоем хорошо было перебирать в памяти нить самых давних и веселых воспоминаний. Вот и спрашивали друг у друга: как, что, когда и почему? – вспоминали, как ходили в школу за шесть километров в соседнюю деревню, как однажды весной искали в лесу сон-траву и опоздали на уроки.
А Василь думал про Марину, думал даже тогда, когда Андрейчиков Федор, тот самый, что выпросил у Василя флотскую фуражку, приказал гармонисту играть фокстрот (мол, есть тут люди из города – понимать надо!) и когда Надя взялась учить Василя этому танцу. А потом они еще стояли и говорили, и Василь снова думал о Марине, о том, что при людях он стесняется говорить с ней так, как с Надей.
И тогда же неожиданно подошел к ним Клыбик и отозвал Василя в сторону. Не кольнуло его в сердце тогда, не вздрогнул он от недоброго предчувствия, а невольно пришла догадка: вот сейчас попросит постучать в бубен, потому что Василь был в этом деле не последний мастер.
– Слушай, – сказал Клыбик, и Василь заранее усмехнулся. – Слушай, ты будешь… провожать сегодня Марину?
Он переспросил: «А что?» – и ему сразу стало неловко, он подумал, что все уже знают про него и про Марину.
– Видишь, если ты надумал, то я…
– А что?
– Да у меня, знаешь, дело есть по школе, поговорить надо…
О, был он хитер, этот Клыбик! И почему он не осек тогда Клыбика, не заперечил: нашел время говорить о школьных делах, поговорил бы днем! А он растерялся почему-то, застеснялся чего-то – и потому желанен был Клыбику его ответ. И как простить себе это, и как забыться? Но ведь и Марина… Неужели не понимала она ничего и неужели не любила его!
О, был он хитер, этот Клыбик, потому что назавтра же пришел на вечеринку с Мариной, завернув по пути к ней. Об этом сказал Василю Андрейчиков Федор. И уже тогда, как бы в отместку Марине, Василь провожал Надю домой и раз и второй…
И вот сиди теперь и слушай, как бубнит о своем Клыбик:
– Эха-ха! В такую жару под навесом лежать, а тут дрова… Нашел директор дураков. Пускай попробует нанять колхозников, но кто ему за такие гроши станет работать.
Он разомлел после сна и, наверное, говорил так долго лишь потому, что не хотелось ему снова браться за, пилу, стоять на коленях, подрезая дерево, носить на плечах готовые кругляши.
– А ты, значит, все молчишь да думаешь. А ты не думай, возьми и женись, – как бы шутит Клыбик. – У Ганны вон какая девка растет – здоровая, крепкая. И батька у нее как дуб здоров; женишься – поставит хату зятю. А самое главное, чтобы женка была здоровая да работать умела. Моя вон сроду серпа в руках не держала, так, думаешь, хорошо? Одна польза, что деньги зарабатывает…
– Так ты, может, и хотел этого…
– Может, я хотел, а может, люди, – загадочно усмехнулся Клыбик и поглядел на Василя. – Здесь и ты мне немного помог…
– Как же это? – пересиливая любопытство, словно безразлично, спросил Василь.
– А вот так, что хитрость всюду нужна, даже когда к девчине ходишь… Гляжу я на тебя, чудак ты какой-то… А что: от зимы сало у вас или еще после кабанчика придавили? К сенокосу берегли, говоришь? А по-моему, лучше, если каждый день шкварка.
– Так как же я тебе помог, и… к чему здесь сало?
– А все к тому. Если хочешь, слушай. Помнишь тот вечер, когда я хотел поговорить с Мариной? Я, конечно, выдумал тогда, но, правду сказать, думал, что ты откажешь. А потом вижу… Ты же что-то долго с Надей говорил тогда, помнишь? Ну, я и сказал после Марине, что это ты меня попросил ее проводить, выручить как бы… И все такое.
– Ты… ты сказал так? И она поверила?
– Ну, не сразу, понятно, – помялся Клыбик. – Ты же, говорю, сам помог мне в этом. Надю же провожал…
Значит, все было так глупо и просто…
«Что же, говори, Клыбик, говори… А может, ты думаешь, что мне больно это, и жалеешь меня? Просто я никогда не думал, что может такая страшная пустота быть в сердце и такое болезненное бездумье может заполнить голову… А вот почему-то растет, утоньшается стволами и медленно поднимается вверх стена безмолвного леса… Нет, это лишь показалось. Шумят, как обычно, сосны… А вот теперь я нахожу свои руки. Может, забыл ты об этом, может, думаешь ты, что они ради того лишь, чтобы тягать пилу?»
И он поднялся.
– Подлец! Портфельная твоя душа!.. И ты… такое!
Подобрал под себя ноги и весь подался назад Клыбик, – растерянное, побелевшее лицо; рука невольно сгребает хвоинки…
Словно упал на гладкую воду камень и сильно и шумно взлетели кверху брызги. Пошли круги по воде, слабея, достигли берега… И вот медленно всплывал в памяти посеребренный луною тополь, а вот как будто склонилась Марина к Василю, и такой яркий за улицей выгон в молодом и ядреном блеске. И словно бы Василь говорит: «Слушай свое сердце, Марина, оно у тебя доброе, слушай, и оно тебя не подведет!» И затем: «А я! Почему же, если верил себе, не верил Марине и почему отступил? Отдал Марину гаду этому, Клыбику».
И захотелось бежать – от себя, от Клыбика, от всего. Бежать, как однажды в детстве, когда заблудился в лесу и, подгоняемый недетской какой-то тоской, все бежал и бежал по незнакомой дороге, глотая слезы…
– Пошли, – сказал он глухо и поднял пилу. – Работник!
Береза стояла на краю поляны, высокая, ровная, и когда впился в нее топор, вздрогнул сразу звонкий ствол от шершавого комля до зеленых листьев – и вся береза стала как шумная тучка трепетных зеленых мотыльков. А потом медленно клонилась она и, пока падала в невеселом своем кружении, привела с собою серый летний день с леностным дождиком, запах влажной земли и огуречника. Шла Марина от Савкиных ворот – и болтался и бил по загорелой ноге с налипшей к ней травинкой порванный ремешок туфельки… И почему не остановил он ее тогда, почему не объяснил?
Они подрезали деревья еще и еще, и то, с каким упорством они водили пилу, напоминало трудный, но затаенный поединок. И когда Василь, склонившись, встречал время от времени взгляд Клыбика, он знал, что теперь ненавидит этого человека с брезгливостью, ненавидит за двоих: и за себя, и за нее, Марину.
И теперь не опасался он уже, что между ними стоял Клыбик.