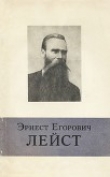Текст книги "Журавлиное небо"
Автор книги: Михаил Стрельцов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 26 страниц)
Потом она стояла у окна: предвечерним низким солнцем был залит город. Розовыми отблесками посверкивали крыши, окна плавились от солнца. На железнодорожной линии кутался паровоз в грязновато-желтый дым. Кирпичные трубы, эти громадины, застывшие в каком-то величии, вздымались и тут, и там. Словно меч, брошенный неизвестным великаном, рванул ввысь реактивный самолет, и белые полосы, тянувшиеся за ним, были следом этого меча.
Большой город лежал перед Ольгой, но незнакомый какой-то, совсем новый. Она ведь всегда думала и еще в деревне мечтала о своем городе – был он с витринами магазинов, с бесконечными гонками троллейбусов и машин, с толпами людей на улицах. А этот, увиденный ею, поднимался вверх стрелами кранов, зычно перекликался паровозными гудками на невидимых переездах и станциях…
И, чтобы увидеть его, надо было смотреть широко открытыми ясными глазами.
ДОМА
(Перевод Эд. Корпачева)
Долгим и узким двором они дошли до пуни – сенного сарая. Степан снял с пробоя щеколду, и ворота с сухим скрипом отворились. Из пуни повеяло таким знакомым Степану запахом сырой земли и свежего сена. Он достал из кармана коробок и осторожно чиркнул спичкой.
– Ну, Степа, – с укором сказала сестра и дунула на огонек. – Ты ведь знаешь: наш тата… наш отец. Он просил…
Стало темно. Степан улыбнулся: «Как же она выросла! Совсем большая. Девятиклассница!»
Вот уже два года минуло, как не наведывался он домой. Когда в последний раз уезжал из деревни, сестра была почти девчушкой, он даже помнил: часто плакала, если не получались уроки. А теперь – невеста, невеста!
Вроде еще темнее стало, едва погасили спичку. И Степан ничего не различал.
– Сюда, – шепотом сказала сестра, – неужели ты все забыл?
Степан выставил в потемках руки перед собою и пошел за ней.
По стремянке поднялись наверх. И не успел Степан и шага ступить, как сено под его ногами слегка заколыхалось, зашелестело – он не удержался и упал. Сестра засмеялась, и ему тоже стало весело, приятно.
– Как хорошо, Нина, а? – вдохнул он полной грудью запах молодого сена и еще глубже залез в это душистое тепло.
– Хорошо, хорошо, – живо отозвалась Нина. – Я еще перед экзаменами спать собиралась, да мама не позволила. Боится, что буду поздно приходить из села.
– И правильно поступает. На вечеринки, признайся, давно ходишь? И записки на уроках получаешь… Ну, разве не так?
Голос его – Степан сам понимал – был и хитроватым, и ласковым.
Нина ответила с притворным недовольством:
– Какие вы, учителя, ворчливые, придирчивые. А я прежде думала, что вы не такие люди, как все… Ну, спи, сочинитель, а я пошла.
Степан все улыбался.
Как только Нина вышла, он разделся и лег. Захотелось ему курить, вспомнил он предостережение сестры и опять усмехнулся, зажигая сигарету. Спичку он размягчил пальцами и отбросил подальше от себя: чтобы не заметил утром батька.
Он лежал и думал. Было тихо, только внизу временами вздыхала корова да над самым ухом звенел неуловимый комар. Кое-где через стреху просвечивало небо, и Степан долго смотрел на эту заплатку темноватого неба, пока совсем рядом не заиграла гармошка и не обрадовался приятный девичий голос тому, что «у растянутой трехрядки васильковые меха». Степан встрепенулся, что-то шевельнулось, защекотало внутри, и он почувствовал, как непонятная радость охватывает его.
Он уже не мог лежать спокойно, все ворочался. «Что это? – думал он. – И почему я так разволновался?» И вдруг понял: «Я дома! Чего тут долго гадать? Я дома!»
А гармонь все играла да играла, и все тот же девичий голос пел о влюбленных, которые никак не могут расстаться, о росной стежке в жите, о туманах над рекой…

И Степан вспомнил, как влюбился в восьмом классе в Катю Васильчикову, живую тоненькую девчушку со светлыми косами, и как смешно ревновал ее к своему школьному дружку Владику, рассудительному и не по годам степенному хлопцу. Владик даже о матери своей, если та говорила или делала что-нибудь не так, как ему хотелось, по-взрослому мудро говорил: «Что поделаешь – женщина». Владик рос без отца. Кроме Кати, ни с одной девочкой из своего класса он не дружил. И вот втроем они часто ходили за деревню на шлях, карабкались там на вербы и распевали песни. Степану такие прогулки приносили мало радости. Владик уже в те годы курил и, когда скручивал цигарку, доставая из кармана листок газетной бумаги, размером с игральную карту, и щепотку самосада, всегда предупреждал Катю: «Смотри, никому ни слова». И Катя всегда покорно отвечала: «Конечно, Владик», – и почему-то вздыхала. А Степан все время следил за нею, страдал, слово себе давал даже и не глядеть на нее. Но проходило время, и он принимался за записки. Катя делала вид, что ничего не понимает, рисовала на тех записках смешные мордашки и отсылала Степану.
Так и шло время. Вскоре они окончили десятилетку, Владик поступил в военное училище. Катя поехала к сестре в город, и больше Степан ее не видел.
«Как это было давно, – думал он теперь. – Да, а где же Владик, где Катя? Ах, как плохо: я даже не знаю, где они».
Он упрекал себя, и ему почему-то стало грустно. Прежнее настроение словно развеялось. Совсем иные, неприятные воспоминания заполнили его. Теперь он видел себя студентом, неловким и нерешительным, который вдобавок более всего на свете боялся выглядеть смешным. Студент Степан носил очки и чувствовал себя очень неловко. В компаниях он почти всегда молчал, видел, что положение его и незавидное, и смешное, сердился на себя, но ничего не мог изменить.
Два года после института он работал учителей в полесской деревне Ольховке. Он никогда не задумывался, нравится ли ему его профессия; готовился к урокам, читал колхозникам лекции, если просили, а вечера проводил в своей холостяцкой квартире – ему казалось, что так и надо. Он вел литературу. Уроки проходили гладко, ученики как будто уважали его, но он чувствовал: чтобы стать в деревне авторитетным человеком, ему чего-то не хватало. Но вот чего именно – Степан не знал.
Наступало лето, кончались экзамены, и как-то получилось так, что Степан оставался в Ольховке и утешал себя тем, что лучшего и не надо. Временами он вспоминал город, институт, друзей. Бывшие однокурсники давно обзавелись семьями, а он после института даже не влюбился. В такие минуты, когда он понимал это, было особенно горько.
И вот теперь далеко Ольховка, а сам он – дома.
Гармонь уже утихла, и в ночи Степан особенно отчетливо слышал, как в кустах за пуней конь скубет траву и как под его копытами хлюпает мокрая земля.
Повернувшись на другой бок и смежив глаза, старался представить себе что-нибудь белое, мягкое, как учила его в детстве мама, если он долго не мог уснуть. Но сна не было.
Так он лежал долго, пока на дворе не послышались шаги. Степан насторожился: кто бы это?
– Подожди еще немного, Нина! – упрашивал кто-то.
Голос был незнакомый, мальчишеский. Степан приподнялся и стал вслушиваться.
– Ты потише, а то брат услышит…
Зашептались торопливо, и ничего нельзя было разобрать.
– Мне пора, – сказала Нина.
Потом снова шепот, потом опять отчетливый голос сестры:
– А кто Василю сказал, что мы с тобой вчера гуляли на шляху?
– Я не говорил, он сам, наверное, догадался.
Молчание, одно молчание.
– Ты мне даже платочек дать не хочешь, – услышал Степан через минуту обиженный, невеселый голос.
– Не хочу, не хочу… А если кто увидит…
– Не увидит, я поношу немного и отдам…
«А наверное, хороший хлопчик, – подумал Степан. – Если бы я его увидел теперь, то и не узнал бы, чей. А Нина! Вот тебе и девятиклассница!»
И он снова стал вслушиваться. Нина говорила:
– Да перестань ты про платочек. Вышью узор – тогда и отдам. Пусти руку… Мне пора…
Они еще о чем-то шептались, а потом Степан услышал, как сестра взбежала на крыльцо и отворила дверь в сенцы. «Вот тебе и девятиклассница, – снова мысленно повторил он и с удивлением почувствовал, что ему стало почему-то радостно и хорошо. – Ну и дела! При чем здесь я? Возле крыльца я не стоял, в любви никому не признавался»…
Но где-то в глубине души жила уверенность, что он обманывает себя. Перед глазами опять, как с вечера, встала Катя: он полагал, что тогда, в школе, Кате было столько же лет, сколько теперь сестре. Да так ли давно это было? «Дурной ты пень, – сказал он себе, – ничего еще не потеряно, все у тебя впереди. А ты в каком-то миноре». Он весь напрягся, какой-то теплый комочек подкатился к сердцу, мягко тронул его. И грусти уже не было.
Где-то захлопал крыльями петух и чисто прокукарекал, ему отозвались еще с одного двора, и вскоре бодрое петушиное пение прокатилось по деревне.
Спать не хотелось.
СЕНО НА АСФАЛЬТЕ
(Перевод Эд. Корпачева)
ПИСЬМО ПЕРВОЕ
Часто я спрашиваю у себя: как мы встретились и почему? Помню, когда мы учились в школе, мне как-то не по-детски хотелось грусти, таинственной, редкостной судьбы. Пролетели годы – и я узнала грусть и поняла, что научиться грусти невозможно, как нельзя и научиться радости. Всему свое время. Еще я знаю теперь, что с бегом времени душа становится более тихой, ласковой, успокаивается, но не дремлет: она, как и прежде, ищет радости, только знает уже, чего ей хочется. Вот почему я думаю, что повзрослевший человек более романтик, чем в ранней юности. И когда я поняла это, я и повстречала тебя. Прежде мы не могли встретиться, потому что не поняли бы друг друга.
Помнишь нашу первую встречу?
В то утро я зашла к своим знакомым взять апельсины: где-то они достают, сказали, что могут достать и мне. А я подумала, что хорошо будет занести их Лельке, сестриной дочке: ты же знаешь, малышке не очень сладко живется. Сестра давно не в ладах с мужем, все не может простить ему какие-то мужские грехи – и они без конца ссорятся, а девочка бегает от матери к отцу, не зная, к кому прильнуть. Пять лет девочке, и она такая славная.
В то утро, помню, шла я мимо кинотеатра. Помню, как под его крышей, где-то там, за серыми колоннами, рьяно чирикали воробьи, внизу, у входа, уборщица орудовала голой метлой, а на стене, на самом верху, вздрагивало, то бледнея, то делаясь ярче, трепетное солнечное пятно. И въедливо, терпко пахло пылью. Я люблю, когда пахнет пылью, а в то весеннее утро улица пахла еще и свежими булками, и душистым кофе, и трезвящим холодком молодой зеленой листвы. Я все шла да шла по тротуару и всматривалась в лица редких прохожих. Ты знаешь, ты, наверное, замечал это приглушенное грустно-мечтательное сияние, которое бывает весной на лицах у людей, на лицах, едва тронутых первым загаром? Такую же просветленность еще можно заметить, заглянув человеку в лицо внезапно во время тихого и теплого дождя. А ты не ловил себя на том, что в дождь хорошо и легко думается, а на душе бывает так светло и ясно?
В то утро ты был такой спокойный, устало-тихий какой-то, улыбчивый и кроткий. И так смешно и по-ребячески легко тогда разговаривал. Помнишь, когда я рассыпала на углу улицы апельсины и ты неизвестно откуда ринулся их подбирать?
Словно все в то утро складывалось для того, чтобы мы встретились с тобою.
А какая тогда была весна! Где только не побывали мы с тобою в ту весну! В дождь до поздней ночи просиживали мы в скверах, накрывшись твоим пиджаком, и, помнишь, сколько раз начинали думать о том, как поехать бы куда-нибудь, далеко-далеко, допустим, на маленький речной островок. Желания влюбленных не знают границ, и так и надо, чтобы была только любовь и весь мир. Мы покупали на вокзале билеты на любой поезд – и сколько незнакомых деревенек, речек, лесов и полян неожиданно открывали для себя! А кинотеатры на окраинах города – старые, со скрипучими стульями, с выщербленными и истертыми до ямок полами? А сеансы, на которых от соседа по ряду нестерпимо несло сивухой, – и как часто обрывалась кинолента и становилось темно, и тогда в зале слышались свист, крики, топот, не очень приличные шуточки. Никто не знал там ничего о нас, и это было приятно, как, наверное, приятно было какому-нибудь принцу из старой притчи, переодетому в нищего.
А потом у нас начались нелады. Ты словно мстил за что-то мне, словно бы нарочито стремился оскорбить меня – какой же ты был жестокий и в то же время растерянный в своей холодной озлобленности. Мне так тяжело было с тобою. Зачем ты так поступал?
Лишь позже я догадалась, что ты ревновал меня, что ты боялся меня потерять. И тогда, догадавшись, я простила тебе все.
Это было уже летом, после того как я уехала из нашего города, сказав напоследок, что мы надоели друг другу, что нам надо отдохнуть, побыть в одиночестве, разобраться в своих чувствах.
Я поехала тогда к тете, в тихий и зеленый городок – бывший областной центр. Мне как раз нужно было это – тишина, узкие улицы, горшочки с цветами, подвешенные к фонарным столбам, сонные женщины в газетных киосках. Все – просто, понятно и немного скучно. И никто не удивился бы, если бы однажды на улице появились козочки.
В том городе есть река, а в нее за городом, возле деревеньки, впадает, разливаясь на три ручья, неглубокая холодная речка. Песчаный берег правого ручья порос лозой, над ним – гора с шатрами темных сосен.
Каждый день я ходила туда купаться.
Лежишь на берегу – дрожит, взблескивает в широких ручьях вода, белеют на речных островках валуны, синяя томительная дымка висит над водою там, где река делает поворот, где под горой насыпанного самосвалами песка рокочет кран, грузящий баржи. Мальчики с берега ловят удочками рыбу. В полдень заходят в речку коровы, стоят в воде, помахивая хвостами, – плывет, всплескивает река, и медленно тянется время, томительное, как звон кузнечиков в ушах. О, сладкая, ленивая бездумность, о, жизнь души, дремотная, как звон воды, томительная, как синий повойник дымки. Глаза видят, слышат уши, и, затаившись, лечится душа. Млеют от жары поля, течет, сквозит в солнечных лучах река, далеко на взморье ждут свежего ветра корабли, и вот-вот вздрогнет сонная синь, повеет ветер и погонит корабли в страну добрых встреч. И тогда я тоже поставлю свой парус.
Так я вернулась к тебе.
Лена.
ДЯДЬКА ИГНАТ
Я шел на свидание с Леной и на нашем дворе увидел дядьку Игната.
Были сумерки. Одурманивающе пахли цветы, окна в доме раскрыты, и в чьей-то квартире задумчиво вела мелодию радиола. Во дворе на лавочках сидели женщины. Мужчины грустили рядом с ними: курили, втянув голову в плечи, попыхивая дымком в кулак, и кое-кто из них был без рубашки, в майке.
Дядька Игнат стоял у низкой изгороди перед домом, смотрел, как толстяк в пижаме поливал из шланга газон с цветами.
– Постой, Виктор, расскажи, где был, что видел, – не поворачивая головы, тихим и ровным голосом сказал мне дядька Игнат. Я только что поровнялся с ним и готов был поздороваться.
Я остановился, хлопнул руками по карманам, вспомнив неожиданно о своих сигаретах, а дядька Игнат снова ласково и спокойно возразил:
– Еще вздумаешь разными «фильтрами» угощать. Закури лучше моей махры.
И подал мне небольшой кисет с кармашком сбоку: в нем была аккуратно нарезанная газета.
– Кури.
Я закурил.
Лилась из шланга, сеяла брызги вода, хлестала по листьям цветов – и хорошо пахло сырою землею. Человек в пижаме не глядя водил шлангом перед собою, взгляд его был отсутствующим: может, человеку наскучила его работа, а может, было у него свое, особенное, одному ему известное настроение и он под безразличием прятал его, не хотел, чтоб догадался о его настроении кто-то посторонний.
Все казалось непонятным, неясным там, где был дядька Игнат.
– Ну, как моя махорочка – Москву увидел, а? Это, брат, совсем не то, что твоя трава. По-моему, не подходит даже курить мужчине твою траву: лучше мох из стены выщипывать. Да где тот мох в городе!
– Махорка как махорка, – с нарочитым безразличием сказал я. – Москвы не увидел, но горло дерет.
– Значит, ничего ты не понимаешь… Такой, как он, – показал на человека с шлангом. – Я говорю: зачем цветы поливать, если ночью дождь будет, а он не слушает, доволен, что занятие нашел.
– Откуда вы знаете, что ночью будет дождь?
– Я, браток, сорок с лишним в деревне прожил – почему же не знать?
– На старой квартире это было, – сказал вдруг человек в пижаме. – Сосед у меня, бывало, напьется, включит в комнате радио на всю катушку, ляжет на диван и слушает. Жена его ругается, сам бы ему, кажется, по шее надавал, а он: не ваше, говорит, дело, дайте наслаждаться жизнью – так еще кто-то великий однажды сказал… Откуда он знает про того великого? Вот и я. Тоже хочу наслаждаться жизнью.
– А этого тебе никто не запрещает, – строго сказал дядька Игнат. – Это другое дело. Я только про дождь говорю.
– Дождь так дождь… – сказал человек в пижаме. – Не помешает и дождь.
– Завтра футбол, – сказал я. – Зачем этот дождь?
– Футбол будет днем, а дождь сегодня ночью, говорю, – поправил меня дядька Игнат.
– Наши завтра выиграют, вот увидите, выиграют, – сказал человек в пижаме. – Поспорим?
– Это как сказать, – возразил я. – Команда приезжает сильная, а наши перед этим такую дурацкую ничью сделали…
– А я думаю так: с сильной командой легче играть. Наши чаще всего слабакам и проигрывают.
Дядька Игнат сказал:
– Не понимаю я болельщиков ваших. Да еще рыбаков – тех, что с удочками целые дни просиживают… Бывало, поедешь на луг, намахаешься косою за день, а вечером – за топтуху да в какое-нибудь застоявшееся озерцо. На ноги лапти обуешь. Косить и рыбу ловить лучше всего в лаптях. Ну, еще, может, коров пасти… Да я же говорю: побарахтаешься, вылезешь на берег – и рыба есть, и сам будто в святой воде выкупался. А потом разведешь костерок у шалаша да в чугунок рыбу, в чугунок… Эх, радость тебе!
– Вам, дядька Игнат, в деревне жить надо, – сказал я.
– Может, и перееду еще в деревню – откуда тебе знать, – почему-то обиделся дядька Игнат. – А ты что – можешь без деревни прожить?
– Почему же? Я знаю, что без деревни нельзя, но и без города нельзя тоже. О чем я думаю, так это – чтобы и то, и другое в человечьей душе примирить…
– Видал его – примирить! – уже разозлился дядька Игнат. – Ничего себе мир, если такие, как ты, из деревни убегают, с той земли, где их батьки горб нажили.
– Я не убегал, но если на то пошло, то в деревне может каких-нибудь пятнадцать процентов населения жить, – в хлеба, и молока всем хватать должно…
– Это по-научному или как?
– Может, и по-научному. Но разве не верно?
– А вот плохо, – расшумелся дядька Игнат, – что некоторые думают, будто батоны на вербе растут… И все потому, что к земле уважения нет. Отработает на тракторе сопляк какой-то, который десять классов окончил и стаж зарабатывает, чтобы из деревни сбежать, – отработает он смену или меньше, на чуб флакон одеколона выльет – и к девкам. Ему хоть трава не расти…
– Тебе, Степанович, председателем бы в колхозе быть, – сказал человек в пижаме. Он бросил уже свой шланг, стоял, скрестив руки на груди, и слушал. – По справедливости, Степанович, говорю.
– А ты думаешь, не был? – словно удивился дядька Игнат. – Не председателем, так бригадиром был. Сразу после войны… И вспоминать не хочется, но все равно вспомнишь: такое было время. Такую войну на плечах вынесли, столько осталось сирот, матерей безутешных и вдов. Столько пахарей, столяров на той войне полегло… А ты остался, головы своей не сложил; уцелел и домой пришел. Тебе надо новую жизнь строить, вдовами тебе командовать надо… И вот приходит к тебе вдова и просит, чтобы привезти дров, лошаденку, и случалось, пол-литра из-под полы достает… Только я за ту пол-литру не обвиняю ее. Не взятку же она приносила, не совесть твою покупать. Знала она, как нелегко было дать ей лошаденку, и твоего сочувствия просила она. А чем она отблагодарить могла? Сама огород свой пахала, корову запрягала в плуг. Дрова из леса на саночках возила, в колхоз летом каждый день шла… Про то я тебе говорю, что на взятку неспособен простой человек. Правда, были и такие – и бригадиры, и председатели, и возле председателя всякие, которые на людском горе «падчериц» растили, ту вдовью водочку в глотку лили, потому что очень широкая пасть была, – так пусть же им отзовется и на этом свете, и на том, если верить в нее, во вдовью слезу!..
Дядька Игнат нервно дернул головой, достал из кармана кисет и закурил.
– Значит, так и не удалось тебе, Степанович, до председателя дорасти? – как бы сочувствуя, сказал человек в пижаме.
– Не удалось, – грустно усмехнулся дядька Игнат. – И все из-за этих вдов… Соседка у меня была, Аринкой звали. Маленькая, курносая, вечно в ватнике ходила. Муж не вернулся с войны, хата в оккупации сгорела. Жаль было мне ее. Замуж во второй раз не вышла, а детей от разных пройдисветов аж двоих завела. Поставила хату. Что там за хата, понятно: два окошка, а там, где еще должны быть окна, – мох между бревнами…
У нас фининспектор был – пьяница. Сундуком звали. По сундукам не раз лазил, налоги требовал. Ну, бывает, нет у человека денег, так ты подожди: поросенка, может, какого-нибудь продаст, расплатится. Так нет же… А люди у нас золотые, все понимают, все могут снести. В самые трудные годы они в наше доброе дело верили… Значит, и ты, фининспектор, должен к ним относиться по-человечески.
Но вот стал этот службист Аринку доводить. До того разошелся – корову забрал. Женщина в слезы – не шуточки. Услышал я, прибежал и – теперь не жалею и жалеть не буду – набил толстую морду этому гаду. Набил, набил! Ну, после этого он и постарался, чтобы мне жилось нелегко. Чуть не дело на меня завел, под политику подводил… А тут жена у меня болеть начала. Свояк, который еще до войны из деревни поехал, в город зовет… Одним словом, поехал я, слабость душевную показал… Слушай, Виктор, – обратился вдруг он, – хочешь завтра со мной на сенокос сходить?
– Это куда, дядька Игнат, в деревню?
– Зачем в деревню? На площади, на газонах, вон какая трава выросла – навести порядок надо… Видишь, у меня и в городе служба по душе.
– А вставать надо рано, дядька Игнат?
– Рано. Хочешь, разбужу?
– Нет, я сам встану. Не надо.
– Ну вот и хорошо. А косу вторую у моего напарника возьмем. Значит, договорились?
– Конечно, дядька Игнат! – сказал я.
– Ну вот и хорошо, – сказал он. – А теперь можешь идти. Иди, гуляй… Дело молодое. Иди.
И я пошел.