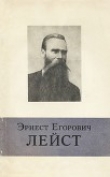Текст книги "Журавлиное небо"
Автор книги: Михаил Стрельцов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 26 страниц)
4
– Дед, – сказал Иванка, – ну отдай мне наган. Ты слышишь, деда?
В гумно со двора залетали снежинки. Было здесь безветренно, но холодно: стужей веяло от мерзлого тока, сквозняки гуляли под стрехой. Но дед разогрелся в работе. Вытертая шапка с завязанными вверху шнурками съехала ему на затылок, у деда побелел вспотевший лоб. Деда окружала, росла со всех сторон кучка приготовленной им сечки. Дед стоял на коленях, подложив под них солому.
– Дед, – сказал Иванка. – Ну, деда… Чего ты молчишь?
– Гляди-ка, вспотел весь, – глубоко вздохнув и опустив руки, сказал дед. Глядел он вокруг себя, хукал да покряхтывал. – Сначала, слушай меня, как стал на колени, так, как тот бубен был, аж гудел. Как от железяки какой холерной, несло стынью от меня. А теперь вот будто в бане побыл… Взял бы да деду помог…
Конечно, все это дед говорит не всерьез. Вот и сам усмехается этому. Дед хитрит, просто не хочет ему, Иванке, ничего говорить про наган.

– У всех и то и то есть, а у меня ничего нет. Одна рогатка, может, да и та порванная. Ну, хочешь, дед, погляди… У тебя, дед, даже дратвы нет, чтобы связать резинку.
– Ну, это ты уже шельму строишь. Ой, шельму! У бабы суровую нитку попроси. Думаешь, не даст? А что дратва? Вон смолы возьми, насмоли нитку – будет тебе дратва… Ай, шельма ты, шельма, – и дед, кивая головой, посмеивался.
– А чуни у меня есть? Скажи, дед, есть? Ну, скажи!
– Будут тебе и чуни, будут. Потерпи. Бог терпел и нам, внучек, терпеть велел. Вот поглядишь, увижу я деда Трофима и спрошу у него… Ну, может, не спрошу сразу, а так скажу: «Доброго здоровья тебе, сват. Как живешь? Внучек наш поклон передает». А дед Трофим спросит: «А как он там, внучек мой?» – «Грех что-нибудь плохое сказать на него, сват. И бабу, и деда слушается, и мамку уважает всегда. К тебе с бабкой в гости собирается. Во какой наш внучек!» – «Ай-я-яй! – скажет дед. – Такой хороший хлопчик – ого! Не зря я взялся ему чунь сплести! Ого! Ты так и передай ему, сват, что не брешу, сплету!» Вот как, Иванка, будет. Все хорошо будет, посмотришь.
– Выдумываешь, дед. Все у тебя хорошо да хорошо… хорошо да хорошо все.
– Слушай меня, расскажу тебе та-а-кую историю, брат. Прадед твой, Игнат, батька мой, покойник, любил ее часто рассказывать. Жил-был, слушай меня, один человек, не то чудаком считался, не то святым. Слова плохого никому не скажет, не накричит, не попрекнет. Плохо человек сделает, он в душе пожалеет, головой покивает, скажет только: ой-е-ей! Как на дитя глупое поглядит. И тогда человеку тому становилось совестно. Вот как было. А в жизни, внучек, всякое бывает. Бывает, что над таким человеком смеяться станут: какой же ты, такой-сякой, хороший, если не страшный? Так нет. Такой человек был добрый, что не смеялся над ним никто. И были у него три сына. Хороших детей дал ему бог. Но и они удивлялись: почему у них такой батька? Что ни сделают они, все ему ладно. Плохого не заметит, а на хорошее покажет и похвалит. Вот и надумали сыны: что бы такое сделать, чтоб на них разозлился батька. Не по злости, слушай меня, надумали они такое. Интересно им было проверить батьку. А дело на сенокосе было. Постягивали они сено в копны, до вечера время еще оставалось: что делать? Старший говорит: «Давайте копну подпалим, поглядим, что наш батька делать будет». Подожгли, стали и как бы греются. Тут и батька пришел. И что, ты бы думал, он сделал? Стал с ними, руки греет, а сам приговаривает: «На солнце тепло, а при огне еще теплей!»
И засмеялся дед, ласково так засмеялся, будто самому себе. Будто забыл, что сидел при нем Иванка. Борода у деда рыжая, ну, не совсем рыжая, а так себе. И мягкая. Знает об этом Иванка. Уж очень лохматится его борода, когда выбирает дед из нее хлебные крошки. Вот и теперь, когда смеялся, дед хватался за, бороду. Губы его побелели, трясется весь. Отвернулся зачем-то, притих дед. «А может, он плачет?» – подумал Иванка. Шапку вон снял, вытирает лысину рукавом. Голова у деда совсем голая, а шея вся иссечена бороздками.
– И ветра нет, а попало что-то в глаз. Тут смотри да смотри, – точно оправдывался дед.
Он повернулся к Иванке, моргал глазами, веки у него были красные, а глаза чуть ли не белые – помутнели у деда глаза. И жалость коснулась сердца Иванки, когда он подумал, что дед уже хвор.
– Деда, хватит тебе. Вон сколько нарезал! А то дай я тебе помогу.
– Удается, говоришь, и рачку малому словить рыбку поскорее, чем старому, – повеселело глянул дед на него. – Только не так, внучек. Старый – что малый. И малый – что старый. Хватит с меня. Нарезал много. Хорошо, что хоть солома есть. Убережем до весны коровку. Перебьемся. А вон как артельной скотинке до весны дотерпеть?.. Артельная не артельная – чем она виновата? Все равно жалко. Еще на рождество ездили по дворам, сена у людей просили. Кто давал, а кто бы и дал, да у самого нет. Вот как! Изведется скотинка вся, будут глодать волки кости… Коровник раскрыли, солому со стрехи скормили. Солома та – одно название. Зеленый мох порос на ней, в руках рассыпается – гниль. Корова лучше ест зеленые лапки, чем ту солому. Вся стреха в коровнике просвечивается. Ляжет корова – бока примерзают.
– Дед, а пускай бы взяли коров по дворам, пускай бы перезимовали…
– Э, внучек, если бы взяли да если бы дали. Взять возьмешь, а чем кормить будешь? А другой думает так: «Возьму, а что мне за это будет? Молока не дает – запустилась; какое там молоко. Сено скормлю, а кто его мне вернет?.. Трудодни запишут? А что мне будет на те трудодни? Сено? Так сена и в колхозе нет». Да и начальство не позволит, чтобы коров или коней разобрали. Побоится, как бы люди не подумали, что колхозы будут распускать. Если не побоится людей, то побоится того начальства, которое над ним, выше.
– Дед, а председатель, а бригадир – тоже начальство?
– Начальство, внучек. Наше с тобой начальство.
Иванка словно бы обрадовался чему и засмеялся.
– Дед, – сказал он, – так и ты бы начальством, если бы захотел, мог стать? Помнишь, как тебя председателем хотели поставить, как тебя на собрание вызывали и ты не хотел идти, а пошел?..
– Не могу я, внучек, начальством быть. Годы не те, да и какой я начальник… Я самому себе не начальник. И стоять над людьми я не могу. Не могу с ними ругаться.
– Мамка говорила, что ты добрый, дед, что на тебе люди, как захотят, так и поедут, виноватым сделают, и ты виноватым и будешь.
– И правда, внучек. Кто из нас не виноват перед богом и перед людьми.
– Чего ты, дед, все говоришь: бог да бог. Не хочу я, чтобы ты говорил про бога. И мамка тоже не любит, когда ты вспоминаешь его.
– Ну хорошо, внучек, не буду. Не буду, внучек, бог с тобой.
– Вот снова, дед. Все этот бог…
Дед ничего не ответил, лишь взглянул на него. Странно так, показалось Иванке, взглянул. Беспомощно, растерянно, а потом почему-то закрыл глаза; веки у деда подрагивали, точно больно было деду, только превозмогал он, затаив дыхание, эту боль.
– Дед, – сказал Иванка, – это я просто так про бога… Дед…
«Почему так жалею его? – думал дед. – У меня все нутро аж болеет по нему. Надо ли это, помогу ли я так малому? Что его ждет? Боже, надо ли мне его так жалеть?»
Уже смеркалось на дворе. Сумрачно становилось в гумне, ветер тише ходил под стрехой. И словно потеплело. Стоя на коленях, дед сгребал сечку в кучу.
– Иванка, возьми, внучек, в корзине мешок. Насыпь до половины мякину. Потом досыплем резаком, занесем в сенцы. Чтобы под руками было, чтобы не ходить.
– Давно бы так, дед. Теперь я тебе помогу.
Насыпали мешок, придавили его руками и коленями.
– Теперь мы его – гоп! – сказал дед, – и понесем.
– Дед, – сказал Иванка, – отдай мне наган. Ей-богу, стрелять из него не буду. Мне трубочку жалко. Не ту, деревянную, а ту, железную, где ходит боек… Отдай, дед.
– Не знаю, Иванка, что с тобою делать…
– А ты не делай, ты дай…
– Кто его знает, куда его сховал? Ты думаешь, помню…
– Не ври, дед. Я знаю: ты сховал.
– А что, если вон там, где снопы сложены, возле стены поглядеть?
– Ой, а я и не догадался!
Поглядел Иванка, пошарил руками: есть!
«Ох, малое – что дурное. Да и я дурной…»
– Давай сюда, я патрон выну. Дай мне эту заразу.
Что он умеет, этот дед? Туда-сюда рукою дергает, нет, смахнул все-таки резиночку с бойка. Ну, правильно, трубку железную надо теперь подать на себя, ничего, что она пережата второю резинкою. Резинку не надо трогать, трубка и так пойдет.
Странное что-то происходило с дедом, и дед не понимал себя. Старался взглянуть на все посторонним взглядом и не мог. Чувствовал, что не так поступает, не надо было давать Иванке наган, но вот раздобрился. И хотел, и не мог взглянуть он на себя посторонним взглядом, и страдал от этого.
– А, делай сам, – вовсе растерялся он. Иванка вынул зубами патрон, вытер его ладонью. – На, бери, если тебе жалко, дед.
«Ох, старый – что малый. Что голова – то и розум».
И что ты поделаешь: взял дед патрон.
5
«Боже, не оставь меня без помощи, – думал дед. – Что-то случилось со мной. У меня отбилась душа. У меня не стало души – одна лишь жалость осталась. Мне всех жалко, и мне хочется плакать. Так, наверное, нельзя. Откуда у меня это? Или, может, я жил недобро? Или это зовешь меня ты к себе, подаешь мне знак? Скажи. Нет, не думай, смерти я не боюсь. Скажи мне только – сердце надо человеку? Я долго жил, я старался беречь твой закон. Но скажи мне, какая тобою положена мера добра? Я долго жил, я видел, как добро порождало зло и как зло порождало добро. Надо ли так, боже? Почему ты не сделаешь так, чтоб только добро порождало добро? Грешников ты не отлучаешь от себя, но где ты ценишь добрые дела больше: на земле или на небе? Я долго жил, и я не знаю, как жить. Прости меня, боже…
Я ничего не прошу у тебя. Суди меня как хочешь, я все приму. Прошу тебя за внука. Он сирота, ты знаешь, и не сделай так, чтобы он был сиротою и меж людей. У него добрая душа, ты знаешь это. Пошли ему испытания по силам. Не сделай так, чтобы надломилась его душа под тяжестью добра, но не сделай так, чтобы душа его стала черствой. Положи ему ту меру, какую не дал ты мне.
Я боюсь добра, но я не виноват в этом. Не за себя я боюсь, за внука.
Успокой сердце дочки моей: она много пережила в войну, стало злым ее сердце. Пошли ей доброго человека, пошли внуку моему батьку. Дай еще пожить моей старой – не пожалеешь об этом, боже…
Аминь!»
6
Метель утихала. Ветер слабел: еще поднимался время от времени, медлительно, как бы нехотя набирая силу, но потом вдруг опадал, спокойно вея снежной пылью вдоль дороги. Призрачной белизной отсвечивали на улице островерхие сугробы. День уходил – и все-таки светло было вокруг, светло. Мгла над полем становилась прозрачнее, нежнее, – изменчивая, неуловимая мгла.
На западе же высоко в небе пробивался сквозь плотную наволочь туч и томился тревожный в своей золотистости сумрачный свет. Но глуше и увереннее собиралась чернота, залегающая над лесом.
Спокойная, умиротворенная стояла теперь яблоня на Пилипчиковом огороде.
Наступал вечер.
А тем временем, постукивая в сенцах валенком о валенок, зашел в хату к деду Михалке дед Трофим.
Вот как увиделось это Иванке.
В хате весело горел на каминке огонь, отбрасывая трепетно-горячий свет на стены, на темный стол с деревянной сольницей, на светлую и, казалось, теплую лавку, на влажные изнутри стекла, то темно-глубокие, когда тень падала на них, то червонные, когда отражалось в них пламя. Мамка позвякивала ведром, наливая воду в чугун, где прозрачно белела сверху только что очищенная бульба. Снова полнозвучно звякала дужка ведра, мамка ставила ведро на лавку, и слышно было, как на донышке всплескивала вода. Тихо было в хате. Дед лежал на кровати в боковушке, изредка сухо покашливал. Бабка спала на печи. Лишь Иванка сидел у каминка, приблизив лицо к сухому, горячему теплу. Жгло щеки, даже туманно становилось в глазах, и он отодвигался, и было приятно чувствовать, как жар еще долго щекотал, покалывал лицо, как ровно растекался по щекам, – воздух легкой пленкой обволакивал лицо, и так хорошо было, так ясно на душе.
Когда щелкнула клямка в сенцах, когда начал кто-то шаркать ногами у двери, отрясая снег, Иванка даже и не подумал, что это мог быть дед Трофим.
Прежде чем увидеть деда, Иванка увидел, как в дверь просунулась кошелка, и он бы не узнал сразу такую обыкновенную кошелку, какая и у них была, если бы не была она завязана сверху махровым темным платком: к тетке Ганне всегда ходили так и сама Трофимиха и дед Трофим.
Дед молча потоптался у порога, закрывая дверь, потом повернулся и как-то сразу выпрямился. Очень серьезно, даже торжественно выглядел дед. Провел он рукой по бороде, и заметил Иванка: хотел глядеть прямо, но глаза его бегали, – может, потому, что после темени непривычно смотреть на свет.
– Ну, так добрый вечер вам в хату, – сказал дед, отдышавшись.
Мамка выпрямилась посреди хаты, мокрой рукой поправила волосы, потом опустила руки и как-то растерянно, испуганно смотрела на деда, точно не знала, что ей делать.
– Тепло у вас тут – ого! – живо, чтобы опередить мамку, проговорил дед. – Добрый вечер тебе, Праскута, – сказал он тише и снял с головы шапку. – А где ж это сват Михалка?
Дед Трофим поставил у порога кошелку.
– Так что ж это я… Проходите сюда вот, к столу, – не спеша сказала мамка и снова поднесла руку к лицу, поправила волосы. – Тата! – позвала потом громко, на всю хату. – Вставай, погляди, кто пришел…
– А ты тут греешься – ого! Ну, здоров, коток, – словно теперь лишь увидел Иванку, подступился к каминку дед Трофим. Свою шершавую руку сунул в Иванкову вялую ладошку, а другой рукой, тоже шершавой и твердой, погладил его по голове. – Ого, большой вырос, коток. Дай же погреться и деду.
Мамка взяла от стола лавку, поставила перед каминком, сходила в порог за тряпкой и несколько раз провела ею по лавке.
– Хо! Не большая беда, – сказал дед. – Да не бегай ты, Праскута, – ласково и довольно говорил он, будто не замечая потупленного взгляда мамки.
«Сердится мамка, – подумал Иванка. – Батину пенсию не может деду простить».
Дед Трофим отодвинул немного лавку от каминка, огляделся и сел. Шапку положил себе на колени.
Интересно, принес он чунь или нет?
В боковушке закряхтела кровать: поднимался дед Михалка. Вздохнула на печи, но не отозвалась бабка. В хате стало тихо. Мамка вновь начала бренчать ведрами. Из боковушки вышел дед Михалка, крутил головою, жмурясь на свет.
– Кто тут? А, здоров был, сват. Прилег я под вечер. Погода такая, что только и лежать…
Дед Трофим приподнялся с лавки, они поздоровались. Деду Михалке было как-то не по себе: он моргал глазами, щурился, глядел почему-то себе на плечо, на грудь.
«Затужил, наверное, что дед Трофим застал его в кровати», – догадался Иванка.
– Ага, ты правду, сват, говоришь, – сразу чему-то обрадовался дед Трофим. – Крутило, холера, целый день. Хотя бы улеглось за ночь. Притихло немного. Будет мороз… Садись со мной, сват! – Сиди, сиди, а я на колодку сяду. Я привык… А ты почему не раздеваешься, сват? Иванка! Помоги деду раздеться… Раздевайся, сват, в хате тепло.
– Тепло в хате, тепло – ого! Только я недолго… Был я у Ганны. Домой бежать надо. Старая не управится без меня. Затукает, заклянет, если опоздаю… Это уже та-а-ак…
– Разденься, сват, разденься, – говорил дед Михал-ка. – Посиди… Когда мы так видимся…
– Эхе-хе-хе! Так, сват, так! – снова повеселел и даже подскочил на лавке, посмеиваясь, дед Трофим, погладил обеими руками щеки, погладил бороду.
Лицо у деда гладкое, румяное, короткие седые волосы на голове стоят торчком, зубы частые и белые, как чеснок.
– Ну так помоги, Иванка, помоги, – говорит дед Трофим. – Помоги, коток, – и встает, снимает суконную свитку, отдает Иванке вместе с шапкой. Под свиткой у деда суконная рубаха, штаны из сукна, а на ногах – валенки.
«Богатый этот дед, – думает Иванка, кладя свитку и шапку на сундук. – Потому такой красный да крепкий», – и жаль ему при этом деда Михалку. Нет у него свитки – носит дед ватник. Рубаха у деда полотняная, покрашенная в черное. Ватные штаны заплатаны на коленях. Обувает дед старые, почерневшие чуни.
Иванка кладет на сундук свитку и шапку, идет к деду Михалке, тулится головой к нему. Дед Михалка согнулся на своей низкой колодке у двери в боковушку, поглядывает на печь, где дремлет бабка. Деду Трофиму бабки не видно: он сидит на лавке с другой стороны каминка, у самого огня. Вертит головой, жмурится да тянет шею – греется.
«Принес он мне чунь или нет?» – не терпится узнать Иванке.
– Иду это я, – начинает рассказывать дед Трофим, – гляжу, из баньки Ивана Медведкова дым идет. Неужели суббота сегодня? Неужели я со счета сбился? Иваниха быстренько от баньки бежит, спешит. «Чего б это, – думаю, – она?» Гляжу, Иван из баньки выбежал: «Варвара! Варвара!» – кричит. Остановилась Варвара и потрусила назад. Стали возле баньки, как бы сговариваются о чем-то, Иван ей говорит и все руками показывает…
– Видать, из сельсовета приехал кто-то, а эти к себе затянули. В баньке смалят… Вот подколодники, вот обормоты!.. Вот чтоб им!.. – вдруг заговорила, все более распаляясь, мамка. – И как это земля на себе таких носит?
– Правду ты говоришь, правду! – обрадовался дед Трофим.
– Загонял он бабу свою, этот Иван. Надо же, чтобы женщина так мужика боялась… – как бы вслух рассуждал дед Михалка.
– Вот ирод! Вот хитрец! Как же никто не докажет на него? Люди воевали, а он отсиживался, крикун этот, горлохват… Прислуживал и нашим и вашим. И тогда ему было хорошо, и теперь. Он и староста, он и для партизан кабанчиков резал… Тех, что у людей накрал. Валенки да рукавицы для немцев собирал. Не так для немцев, как для себя. Видела я один раз. У Грищихи, матки его, свои рукавицы на руках увидела. Что ж я, не узнаю свое? «Как вам, тетка, не холодно в моих рукавицах?» – спрашиваю. Заморгала глазами, головой закивала: «Что ты выдумала, милочка, мои рукавицы это, мои». И ходу от меня. У-у, злодюги! И хорошо им, они чистые, их не тронь. Чего же наши мужчины молчат? Хотя какие это мужчины! – презрительно скривилась мамка. – Уцелели за войну и рады. К юбкам прилипли. Кто в бригадиры шьется, кто в леспромхоз: «Мы воевали, мы заслуженные!» А мы тут не воевали? Мы тут мед ели, пиво пили? Ты, Медведок проклятый, ты мед ел, ты людские слезы пил, – чтоб ты вдовьей слезой подавился!
Мамка приложила руку к глазам, заплакала.
– Мама! Мама! Не плачь! – закричал, испугавшись, Иванка.
– Всего в войну было, – то ли осуждая мамку, то ли сочувствуя ей, сказал дед Михалка.
– Ой, недобрый он человек, этот Иван, ого! – уже не радуясь, а вздыхая, заговорил дед Трофим. – Летошний год луг делили – он в комиссию полез. Делили по дворам, по порядку, чтоб справедливо было. Делили, делили – доходит очередь до него. Как раз возле Ананьиной баньки, где речка, ближе к выгону, ему полоса выпадает. Ну, конечно, там без потравы не будет. Коров на пастьбу гонят – обязательно буренка заскочит. С пастьбы гонят – снова заскочит. Сторожи не сторожи, все равно. Закрутился Иван, как уж. «Мне, – говорит, – с племянником моим, с Василем, в одном месте дайте. А тут другому. Мне все равно племяннику помогать сено косить. Косу наклепать да и сено перевезти помочь надо. Какой он еще хозяин?» Во как придумал! А за ним по очереди шел Авдулин Тявлик. Дитя горькое, как и Василь тот. Такой же хозяин. А и упрямый он. Малой, малой, да бойкий. Уперся, хоть кол на голове теши. Вот молодец хлопчик! Тут и Авдуля как раз прибежала. Как закричит, как заголосит. Мужчины стали попрекать Ивана. Отступился…
– Вот так бы раз, другой, так и приучили бы, – сказала уже как-то безразлично мамка.
Она опять возилась у порога с чугунами да ведрами, плюхала воду, потом стала вытирать тряпкой пол. Взяла на руки огромный чугун с бульбой, осторожно понесла его к каминку. Обошла деда Трофима (тот увидел, забеспокоился, отодвинулся вместе с лавкой), примерилась и посадила чугун на таганок. Подвернула к чугуну угли.
– Подбрось еще дров, Иванка, пусть горит, – сказал дед Михалка и повернулся к деду Трофиму: – Я тогда на лугу был с мужиками нашими, когда немцы Тявлика этого привезли. Чудом да с божьей помощью я спасся…
– Дед, а я видел, как немцы подожгли ихнюю хату, – поделился Иванка с дедом Михалкой.
– Лучше бы не видеть этого, коток, – сказал дед Трофим. – А все из-за детского куриного розума, из-за дурости. И как его потянуло ту немецкую винтовку взять! Хлопчика этого, Авдулиного. А те немцы и не заметили, что винтовку оставили. Вытянули грузовик из грязи и поехали. А винтовку оставили… Потом вернулись. А того Тявлика – боже мой, что голова, то и розум! – как бы подучил кто: винтовку на печь затащил, укрыл рядном. И как они, немцы, докопались, кто и у кого… Рассказывали, гергечут, едут. И машина легковая уже у них и офицер.
– Еще хорошо, что сожгли только одну Петрочкову хату, – сказала мамка. – Побаивались они тогда, в начале войны, жечь. Тимохова хата с Петрочковой почти впритык. Так немцы залезли на Тимохову стреху, поливают ее чем-то, не пускают огонь… А как Петрочиха бедная, Авдуля, бросалась, голосила. Бабы обступили ее, держат под руки… А когда Тявлика этого посадили в машину и сказали, что на луг повезут, чтоб показал, где батька и все наши мужчины, зашлось у меня сердце. Немцы все гергечут; «Партизан, партизан». Ну, думаю, будет и нам беда: там, на лугу, и тата…
– Ничего мы не знали тогда, – устроился поудобнее на колодке дед Михалка. «Может, разговорится дед, – подумал Иванка. – А то все молчит сегодня да молчит». – Как раз в обед приехали. Мужчины сели около будок. Я управился раньше и пошел к озерцу миски мыть. Сколько времени прошло, не знаю, только слышу: машина едет. Мужчины наши загомонили, слышу, а потом затихли. Поховались, думаю. Да где там поховались! Растерялись они… А я, когда машина к их табору подъехала и немцы начали гергетать, когда там крик поднялся, – кинулся я в воду, под лозовый куст забился, рукою за сук держусь, чтоб не захлебнуться, гляжу…
– Это же их всех и взяли там, – заключил дед Трофим. – А я перед этим поехал с луга. Уберег меня бог. А назавтра их взяли…
– Данила Талалюй и Тимох Кундыла спаслись, – сказал дед Михалка. – В Дубки как раз пошли за бреднем, в канаве половить хотели.
Начала закипать на таганке бульба, пенясь и заливая огонь. Иванка откатил от чугунка головни – они сипели, исходили дымом и горьким паром. Подошла мамка с ложкой, собрала с бульбы накипь. Попробовала вар из ложки, хватает ли соли, и протопала к столу.
– Засиделся я у вас – ого! – забеспокоился дед Трофим. – Надо, наверное, и мне на вечерю.
«Так и не принес чунь, – с жалостью, с гнетущим отчаянием в сердце подумал Иванка. – Чего тогда приходить?»
– Нет, сват, постой, – поднялся с колоды дед Михалка. – Поедим вместе. Так не отпущу. Ты еще не пробовал моей кислушки. Выгнал немного я. К Маланьиным поминкам.
– Так это уже шесть недель, как померла?
– В следующий четверг будет.
– Царствие ей небесное, – перекрестился дед Трофим. – Ага, забыл я совсем. Иванка, коток, погляди, что я тебе принес. Чтоб ты не думал, что дед на ветер кидает слово: взяться взялся, а не сделал…
Дед повернулся и пошел к порогу, где стояла кошелка. – Чунь! Чунь! Дед принес чунь! – закричал Иванка, глядя счастливыми, округлившимися глазами то на деда Михалку, то на мамку.
– А, боже мой, наверно, и правда! – то ли испугалась, то ли удивилась мамка.
Дед Трофим присел у порога на корточки и развязывал кошелку.