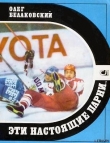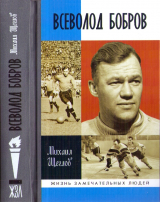
Текст книги "Всеволод Бобров"
Автор книги: Михаил Щеглов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 39 страниц)
ЧЕЛОВЕК С ОТКРЫТОЙ ДУШОЙ
Вряд ли стоит удивляться тому, что Анатолий Тарасов не считал Боброва большим тренером: мол, достаточно ему и спортивного признания.
Совсем иначе воспринимал давнего оппонента Бобров. Об этом читаем у Анатолия Салуцкого: «По части административных способностей и руководства командой в тренировочном периоде Анатолий Владимирович Тарасов превосходил Боброва, о чём известно достаточно хорошо. Однако была ещё одна, необычайно важная составная часть тренерского искусства, где Тарасов был выше Боброва. Речь идёт о глобальных вопросах хоккея, затрагивающих саму суть этой игры, её теории.
Интересно, что сам Всеволод Михайлович в этом отношении, безусловно, отдавал Тарасову пальму первенства. Однажды, когда в кругу друзей кто-то попытался неодобрительно высказаться об Анатолии Владимировиче, Бобров прервал и очень серьёзно сказал:
– Тарасов – великий теоретик хоккея!
Об этом вспоминает присутствовавшая при разговоре Римма Жукова».
Однако если позиция Тарасова совершенно понятна, то, как мы убедились, у бывших партнёров Боброва – Виктора Шувалова и Николая Пучкова – было противоположное мнение. Они считали Боброва выдающимся тренером.
В интервью «Спорт-экспрессу» (от 5 сентября 2017 года) к 45-летию Суперсерии многолетний капитан сборной Борис Михайлов назвал Боброва великим человеком и тренером: «У него была своя методика. Говорил очень мало, но всё время по делу. У него был особый подход к тренировочному процессу. Бобров был намного доступнее, чем Тарасов и Тихонов. По доступности его можно сравнить с Аркадием Ивановичем Чернышёвым. Но по-спортивному был очень требовательным. Он мог посадить тебя в запас и ничего при этом тебе не объяснить.
Если говорил, то игроки слушали его с уважением. Он хоккеистов просил. Тарасов и Тихонов никогда не просили – только требовали.
Когда он пришёл, сказал так: я пришёл не менять вас. Играйте так, как играете в своих клубах. Но вы не должны делать то-то и то-то. И мы так и делали. Ну а Всеволод Михайлович подсказывал “по ходу пьесы”. Атмосфера при этом была отличная. Напряжения не было, какое появилось, например, при Тихонове».
Что уж говорить о горячем почитателе Боброва Николае Эпштейне: «Меня спрашивали тут – кого, Николай Семёнович, лучшим хоккейным тренером считаете? А я говорю – Боброва! Он был Тренером! Сева и футболист уникальный, и хоккеист с мячом сильнейший, и по шайбе ему равных нет... И Харламова выше, и Мальцева...
От Бога он, Севка-то. Пока в ВВС играл, сильнее команды не было... И как тренер – самый талантливый. Только мало он в тренерах пробыл».
Эпштейн говорил о хоккее. Но как мы знаем, Бобров стремился покорять тренерские высоты и в футболе. Что подтверждает его жена Елена Николаевна: «Лично я была сторонницей хоккея. На это муж мне говорил так: “Ты любишь хоккей, потому что ничего не понимаешь в футболе. В хоккее надо больше бегать, и забивают там часто, а в футболе надо много думать”. Ему больше нравился футбол».
Но дело даже не в предпочтениях Боброва.
Анатолий Салуцкий обозначил свою позицию так: «По свидетельству очень авторитетных специалистов футбола и хоккея, а также игроков, чьим наставником был Всеволод Михайлович в разное время, можно сделать неопровержимый вывод о том, что Бобров обладал поистине незаурядным тренерским дарованием. Это дарование сочетало в себе аналитическое мышление и педагогический такт с целенаправленной, сильной волей, которая позволяла соответствующим образом настраивать игроков во время матчей. Уважение спортсменов к Боброву было беспредельным, каждый почитал за счастье быть учеником такого выдающегося мастера, и это, естественно, облегчало Всеволоду Михайловичу руководство командами.
И всё-таки, как ни обидно, по-настоящему выдающимся тренером Бобров не стал, он не поднялся до того высочайшего уровня, какого достиг на футбольных полях и хоккейных площадках, не сумел в полной мере реализовать свой огромный творческий потенциал. Почти совершенно лишённый административных наклонностей и недолюбливавший “коридоры спортивной власти”, Всеволод Бобров, представитель романтического периода зарождения хоккея с шайбой, человек вольницы, не смог полностью адаптироваться в новом, по необходимости более рациональном спорте последующих десятилетий. А тренера-напарника, который умело компенсировал бы недостаток административных способностей Боброва, используя сильные стороны его тренерского дарования, увы, не нашлось».
В этой связи помыслы Салуцкого простирались столь далеко, что ему самому была ясна невозможность их воплощения, – совместная работа Боброва и Тарасова.
Совершенно очевидна его правота в том, что Бобров в тренерской деятельности не поднялся до тех высот, которые были подвластны ему в качестве игрока. В первую очередь это касается футбола, где реальных достижений не случилось.
Но в хоккее – иначе. Боброву удалось привести московский «Спартак» к чемпионскому званию, поднять профсоюзную (следует сделать акцент именно на этом) команду до конкурентного уровня с, казалось бы, вечным гегемоном ЦСКА.
Во главе сборной страны Бобров сделал ещё больше. Именно он разрушил миф о непобедимости канадских профессионалов. Это сейчас, обращаясь к Суперсерии 1972 года, рассматривают в основном статистические итоги, досадуя, что могли выиграть её. Постепенно растворяется реальность того времени. Да и откуда ей взяться в оценках следующих поколений – а ведь это был прорыв в новое измерение, хоккейный Космос. И осуществил его не прославленный дуэт мэтров Чернышёв—Тарасов, а только-только пришедший им на смену Всеволод Бобров.
Под водительством Всеволода Михайловича сборная стала победителем двух мировых чемпионатов и в 1973-м выиграла турнир столь блистательно, что ниспровергла все прежние достижения, когда сборная побеждала в чемпионатах мира без потерь в очках. В былые времена они проводились в один круг, а в этом случае – в два.
Этих достижений достаточно, чтобы обозначить Боброва не просто как выдающегося хоккейного тренера, но поставить в один ряд с гигантами – Аркадием Чернышёвым, Анатолием Тарасовым, Виктором Тихоновым.
В восприятии итогов Суперсерии-1972 самим Бобровым отразилось его жизненное кредо.
Елена Боброва рассказывала: «Сева этих встреч не боялся. Он по натуре был не из робких да осторожных. Если предстояло важное дело, то окунался в него с головой. Конечно, Всеволоду хотелось победы во всей серии, но спорт есть спорт, и всё решила одна шайба. Но какой праздник тогда был в Москве!..
Вечером, после последнего матча, мы сидели на кухне, разговаривали. Сева сказал тогда, что ради всего этого можно жить, ради такой объединяющей всех игры стоит организовывать встречи с профи».
Бобров трепетно относился к родному для него ЦСКА. При назначении Виктора Васильевича Тихонова главным тренером хоккейной команды армейцев Всеволод Михайлович наставлял своего подопечного давних лет: «Первые годы ЦСКА будет работать на твоё имя. Но потом всю жизнь ты должен работать на имя ЦСКА».
Приведём ещё одно высказывание Николая Семёновича Эпштейна: «Всеволод Михайлович покорял широтой своей натуры, готовностью пожертвовать ради друга всем. Мастер он был неподражаемый, второго такого быть не может. И жил он так же, как играл, – размашисто, непредсказуемо, ярко, открыто, всей душой, всем сердцем.
Подлости не терпел, гадостей никому не делал. Выигрывал всегда в честной, бескомпромиссной борьбе. Любил людей. Поэтому-то и стал всенародным любимцем. Он душу народа на поле выражал. Тут сочетание величия игрока и личности. Не так-то часто это в жизни случается. А Севка и игрок был гениальный, и тренер выдающийся...»
Анатолий Салуцкий писал: «Его слава была сумасшедшей. Где бы он ни появлялся, на него всюду обращали внимание – и это в дотелевизионную эпоху! Но он со всеми умел вести себя мягко, спокойно, с юмором, не высокомерно. Он не терпел только одного – хамства. Причём, как ни странно, когда иные друзья детских или спортивных игр в отдельные, трудные для Боброва периоды несправедливо относились к нему, а порой даже переставали с ним здороваться, он не обижался на них и не помнил зла. Более того, потом продолжал помогать им. Но если в его присутствии пытались обидеть кого-то другого, он немедленно приходил на помощь...
Таким же благородным, неравнодушным, доброжелательным и жаждущим справедливости Всеволод Михайлович с самых детских лет стремился воспитать своего сына. Миша, названный в честь деда, оказался поздним ребёнком: Боброву было уже сорок шесть лет. И никогда друзья не видели Всеволода таким безмерно счастливым, как в тот день, когда он узнал о рождении сына. Миша, словно копия похожий на отца, был для Всеволода Михайловича самым обожаемым существом на свете, отец называл его “Мини-Боб”. Когда сын ещё не умел ходить, Бобров летом приезжал с семьёй в Калужскую область, к Якову Охотникову, и мог с Мишей на руках часа полтора подряд вышагивать вокруг большого Скобейского луга на берегу Нары, нежно шепча всего лишь два слова: “Михей! Мой Михей!”
Он страстно мечтал поставить сына на ноги, однако не успел этого сделать. Когда он умирал, медсестры услышали его последние слова: “Мне надо Мишку воспитать...” И было бы прекрасно, если бы родной для Всеволода Боброва армейский клуб позаботился об этом».
Заботой это не назовёшь, но Миша Бобров занимался в хоккейной школе ЦСКА. Первым тренером его был многолетний партнёр отца Александр Николаевич Виноградов. А в одной с ним команде играли сыновья известных хоккеистов Александра Рагулина, Владимира Петрова, Геннадия Цыганкова, Евгения Грошева.
Профессиональным хоккеистом Михаил Бобров не стал – занялся бизнесом. Дела у него ладились, подрастал сын – Всеволод Бобров-младший. В ход событий вмешалась трагическая случайность на дороге...
В 1962 году судьба свела Боброва с молодой киевлянкой. Скорее всего, эта история из числа тех, о которых говорят «любовь с первого взгляда». Этот самый «первый взгляд» побудил опытного сердцееда воскликнуть: «О! Вот на такой я бы сразу женился!»
Ответной реакцией стало искреннее возмущение приезжей красотки. И в самом деле, заявлять подобное с порога иначе как нахальством не назовёшь. Тем более что в Киеве у неё была семья – муж и дочка двух с половиной лет. Но судя по всему, какая-то искра попала туда, куда назначалась...
Дело было 9 мая. Вместе с подругой Елена впервые приехала в Москву. Встретить их должен был приятель сестры молодой лётчик-полковник Григорий Скориков (будущий маршал авиации). Он и встретил – прямо у трапа. Только уже в генеральской форме.
Через короткое время две молодые киевлянки и два бравых генерала оказались в доме на Соколе, где дверь им открыл радушный хозяин в белой нейлоновой рубашке – писк моды того времени. Тогда и прозвучала та самая сакраментальная фраза...
Стол был накрыт, компания приступила к трапезе. Поинтересовавшись у одного из спутников, в чьей квартире они находятся, Елена услышала ничего ей не говорящую фамилию «Бобров». Следующий вопрос она адресовала тому самому нахалу, который огорошил её с порога: «Скажите, а кто такой Бобров?» Тот усмехнулся: «Да как объяснить... Футболист, хоккеист».
Интерес был потерян. Вновь он возник, когда компания отправилась в Сокольники. Когда они шли через парк, молодая особа заметила, что на них оглядываются. И в самом деле, шествуют два генерала-красавца, рядом две девицы в соку. Но, прислушавшись, Елена поняла, что дело вовсе не в них. Разобрала шёпот: «Бобёр, Бобёр...»
В скором времени она со старшей сестрой вновь приехала в Москву. Остановились в маленькой гостинице при украинском постпредстве. И здесь нежданно появился тот самый Бобров, да ещё с огромным букетом цветов. Вместе с ним был статный брюнет – Юрий Нырков. На «Волге» редкой расцветки – цвета слоновой кости верх и бордовая нижняя часть – Бобров повёз их в шашлычную на Ленинградском проспекте, прозванную народом «антисоветская», поскольку напротив находилась гостиница «Советская». Там компанию уже ждали. Представляя директору дам, Бобров вновь позволил себе вольность: «Пал Соломоныч, это моя невеста!»
А затем состоялась встреча уже в Киеве, куда Бобров явился якобы по делам спортивным, но истинная цель была иной – предложить молодой киевлянке руку и сердце и убедить её сменить место жительства. Получилось.
Прожили пять лет, не расписываясь, пока не родился сын Миша. Долгожданный продолжатель рода у Всеволода Михайловича появился на свет в 1969-м.
Увидев Всеволода Михайловича во дворе дома с грудным ребёнком на руках, случайные прохожие заулыбались: «Смотри, Бобёр уже дедушка!» Тот с гордым видом объявил: «Отец я!»
Жизнь распорядилась так, что породнились две хоккейные семьи. Приёмная дочь Всеволода Боброва Светлана вышла замуж за сына Вениамина Александрова Игоря. Прожили они лет десять, а потом Светлана Александровна с маленьким сыном Стасом и новым избранником уехала в Америку (потом они перебрались в канадский Торонто).
Станислав Александров стал хоккеистом, пробовал себя на серьёзном уровне, но рано завершил карьеру из-за травмы. Он вернулся в Россию и ныне работает в хоккейном клубе ЦСКА.
А другой внук Боброва – Всеволод – семейной традиции изменил: всерьёз спортом не занимался. Но трудился младший Всеволод Михайлович Бобров, будучи студентом МГУ, также в сфере спорта – в Российском футбольном союзе.
Оба внука очень привязаны к бабушке, Елене Николаевне. Видят в ней близкого человека, корень рода, лучшего советчика. И она в парнях души не чает. Отдаёт своё душевное тепло им в равной мере, хотя Сева вырос на глазах, а Стас – на дальних берегах.
Всё было бы хорошо, вот только, увы, нет на свете сына Всеволода Михайловича Михаила Боброва. Трагически погиб в 28 лет...
Елена Николаевна Боброва рассказывала: «Случилось это в пяти километрах от дачи. Решил он съездить в хозяйственный магазин. В этот день его “мерседес” должны были пригнать из ремонта, а дурацкий мотоцикл забрать. Этот японский мотоцикл не его был, чужой.
В область плотный поток, суббота. Какой-то парень, три месяца как за рулём, пошёл на обгон – а Миша навстречу. Тому уже деваться некуда. Миша хотел уйти, но не смог, его зацепило...
Отрубило кусок голени. Не вышел из болевого шока...
Помчалась туда. Только увидела, как его забирают, сын был без сознания. Успела его поцеловать...
Не знаю, что за сила во мне проснулась. У Мишки остался ребёнок, два годика, ничего не понимает. Тот самый Бобров, о котором мы все мечтали. Когда Миша родился, обсуждали: “Вот сейчас будет Михаил, потом Сева, новый Всеволод Михайлович...” Понимала – этого ребёнка подниму только я».
Дача под Новым Иерусалимом, возле Истринского водохранилища, появилась у Боброва в 1976 году. Получить участок поспособствовал заместитель председателя Мособлисполкома Николай Кузьмич Корольков, который знал Боброва с тех пор, когда занимал пост председателя Федерации хоккея СССР, а налаживал мосты Анатолий Сеглин – «заклятый друг» спортивных лет.
Военные помогли – за три месяца дом выстроили. Но многое там было сделано руками Всеволода Михайловича. Гордостью его была баня.
Елена Боброва вспоминала: «Любил работать на даче – мастерил, занимался огородом. Когда сеял петрушку или укроп, непременно облачался в белый халат».
О предпочтениях и привязанностях Всеволода Михайловича жена рассказывала: «Не помню такого, чтобы дома у нас не было цветов. Нет, это не те букеты, что приносят с собой друзья и поклонники. Сева обожал цветы и очень любил их дарить. Не скажу, что он досконально знал язык цветов, но когда и какие подарить, угадывал всегда. Весной дом благоухал от сирени, ландышей.
Чего не принимал, так это помпезных букетов. Сейчас, когда прохожу по аллее в ЦСКА, где установлены бюсты выдающимся спортсменам, в том числе и Боброву, всякий раз испытываю какую-то неловкость. Лежат у подножий букеты искусственных красных гвоздик, отдающие унылой официальностью. Точно знаю, он бы этого не одобрил. Цветы для него были радостью, а не проформой.
Может быть, поэтому Сева не испытывал никакой тяги к садоводству. Как, скажем, Анатолий Владимирович Тарасов. Тот аж из Голландии луковицы тюльпанов привозил. Всеволод Михайлович ценил не процесс, а результат. А вот домашнюю работу обожал. Уж сколько лет прошло, как его не стало, а в нашей квартире многое до сих пор помнит его руки. Знаете, есть дома, где всё есть, простите за невольный каламбур. А люди туда не тянутся. Холодом каким-то веет от этого выставленного напоказ изобилия.
Мы с Севой жили не бедно. Но он никогда не пытался насытить дом ультрасовременной техникой, прочим барахлом. Помню, как в 1972-м впервые привёз из поездки маленький приёмник “Sony”. Вот и вся аппаратура. Телевизор – и тот появился случайно. Сева лежал в больнице, и тогда как раз шёл чемпионат мира. Чтобы ему было полегче, я и купила телевизор, привезла его в палату, а уж потом он “переехал” домой.
Это я к тому, что уют в нашем доме присутствовал не благодаря каким-то дивной красы гарнитурам и всякой технике, а потому что Сева в каждый уголок старался вложить душу. Ну и я вслед за ним. Это превратилось в потребность следить за тем, чтоб ему дома нравилось. Наверное, нам удавалось превращать квартиру в некий домашний клуб. Иначе не собирались бы здесь постоянно люди. Друзья могли прийти в любое время, а заскочив на минутку, оставались на часы.
Кроме дома, были у Всеволода Михайловича ещё два страстных увлечения: автомобили и голуби.
Не стань он профессионалом в спорте, без дела бы не остался. Не знаю уж, кто в нём перевешивал: гонщик или механик. Он самозабвенно готов был заниматься машиной, будь те “Победа”, БМВ или “Волга”. Номер у “Волги” был МОЩ 11-11, подряд два номера, под которым любил играть.
А водил так, что дух захватывало. Эту страсть передал и сыну. Миша впервые сел за руль, когда его сверстники только-только осваивают велосипед. Сева подкладывал ему кучу всяких подушечек, чтоб мальчик мог дотянуться до педалей.
Голубей Всеволод Михайлович держал у старшего брата в подмосковном тогда Косине. Голубятня была одна из лучших в Москве. Один бог знает, сколько денег, валюты в том числе, потрачено было им на птиц. Однажды с огромным трудом достал два мешка дефицитного корма для своих питомцев. Неделя идёт, другая, и вдруг голуби стали гибнуть.
Сева никак не мог взять в толк – почему? Случайно выяснилось, что весь этот долларовый корм брат Владимир скармливал потихоньку... курам, которых разводил на продажу. Трагедия! Сева рассердился: “Всё, закончил я с голубями!”
Были птицы и дома – кенары, щеглы, попугай большой был. Умная птица. Любимой его темой было выяснение вопроса “Где Сева?”. А Сева то на сборах, то на играх в других городах и странах...»
По свидетельству Елены Бобровой, Всеволод Михайлович нередко повторял: «У меня нет врагов, есть только завистники». А в адрес своих обидчиков мог иногда разве что отпустить пару крепких слов.
Никита Симонян в своей книге, вспоминая Боброва, писал: «Человеком был необычайно широким и добрым. Его доброту нередко эксплуатировали – с какими только просьбами не обращались друзья, знакомые, полузнакомые, а он неизменно откликался. Да и без просьб всегда готов был прийти на помощь. На моих глазах случалось, стоит кому-то пожаловаться на неприятности, неурядицы, как Бобров тотчас вскакивает: “Слушай, это же всё можно решить, уладить, я помогу! Садимся в машину, едем! Зачем откладывать? Сделаем всё сейчас!”
Я счастлив, что судьба не обошла меня его дружбой. Мы дружили семьями. Мечтали получить рядом дачные участки, чтобы почаще видеться в свободное время. Я питал к нему самые нежные чувства. Непосредственный, в чём-то очень наивный, большой ребёнок! Всем верил, ко всем был расположен... Он ценил в людях то, что сам раздавал им столь щедро».
Забота о ближних была для Боброва на первом плане. В 1945-м из Англии помимо двух камышовых тростей, из которых они с Бабичем сделали клюшки, он привёз электрический утюг в подарок сестре и слуховой аппарат, необходимый племяннице.
А в 1954 году во время чемпионата мира в Стокгольме Всеволод по просьбе кого-то из друзей купил распашонки для новорождённого. За этим занятием его застал шведский фотокорреспондент, и в одной из газет появился снимок, подпись под которым гласила, что Бобров проявляет заботу о своём первенце...
Жена брата Любовь Гавриловна Дмитриевская рассказывала, что Всеволод из загранпоездок её дочери Лиде (назвали её в честь матери братьев Бобровых), которой он доводился и крёстным, привозил кучу всяких костюмчиков, платьиц, туфелек.
Она вспоминала: «Когда родилась моя дочь – а жили мы тогда в Одинцове, под Москвой, Сева поехал в Елоховскую церковь, договорился со священником, привёз его на своей машине к нам в Одинцово, и тот в нашей церкви крестил мою дочь. А Сева был крёстным отцом. А потом сам же батюшку отвёз на машине домой, и тот уезжал от нас уже очень весёлый...
Сева был верующим человеком. В церковь не ходил, но в существование Бога, в загробную жизнь верил и относился к этому очень серьёзно.
А в жизни земной был оптимистом. Компании очень любил, всегда был весел, остроумен. Но вот в хоровых пениях не участвовал никогда.
Умел пить. Когда он чувствовал, что выпил уже достаточно, на какое-то время питие прекращал – пропускал один-два тоста. А потом снова пил наравне со всеми. Мы в таких случаях говорили, что у Севы открылось второе дыхание».
Бобров тщательно следил за одеждой, старался выглядеть элегантно (и в этом тоже сказывался пример Аркадьева), на его статной фигуре костюм сидел безукоризненно. А довершала внешний облик во все времена кепка. Он шил их на заказ у старого мастера в Столешниковом переулке. Только в сильные морозы надевал пыжиковую шапку, других не признавал. С малых лет «бобровская» кепка заказывалась и сыну Мише.
Ради друзей Всеволод был готов на всё. «У меня вообще было такое ощущение, – говорила Елена Боброва, – что Сева просто ждал случая помочь кому-либо. И тут же откликался на просьбу, когда к нему обращались».
Всеволод постоянно заботился о давнем друге и партнёре Владимире Дёмине, который с годами всё больше опускался. К тому же Дёмин заболел туберкулёзом. С помощью Боброва его устроили на лечение в хороший туберкулёзный санаторий, находившийся в подмосковном Пушкине, где лечился в 1920 году отец Всеволода. Но, к сожалению, Дёмин относился к советам врачей беспечно, часто нарушал режим, что привело к летальному исходу.
Если Дёмин был близким другом, то многолетний капитан тбилисского «Динамо» Автандил Гогоберидзе среди таковых не значился. Но когда Гогоберидзе после автокатастрофы оказался прикован к постели и мог общаться с окружающими только взглядом, Всеволод Михайлович в первый же приезд в Тбилиси навестил товарища по спорту.
Когда Гогоберидзе увидел Боброва, из его глаз потекли слёзы. Человек чувствительный, Всеволод Михайлович и сам прослезился. Он обнял несчастного, вытер его слёзы и несколько часов просидел рядом, пытаясь своими рассказами хоть немного отвлечь того от невесёлых мыслей.
Близкий друг Боброва Евгений Казаков рассказывал о тёплых его чувствах к Эдуарду Стрельцову: «У них были какие-то особые отношения. Эдик к Михалычу относился как к отцу, всегда на “вы”, всегда “Всеволод Михайлович”, а Сева к нему – как к сыну: обнимет за плечо, прижмёт к себе, и Эдик понемногу оттаивает. Он в то время особенно нуждался в поддержке – после возвращения из лагеря. И Михалыч ездил его смотреть, когда Эдика ещё и за дубль не ставили – он играл за вторую, за первую клубные команды. И всегда дождётся конца игры, подойдёт к Эдику, поговорит с ним, подбодрит...»
Валентин Бубукин поделился наблюдением: «Я видел, как Всеволод Михайлович не жалел кровные фунты для угощения друзей, у которых и у самих валюта была в кармане. Это впервые я был с ним не то что на одной ноге, но, по крайней мере, не на разных полюсах. В пятьдесят седьмом году меня взяли на усиление ЦДСА в турне по Англии. И в баре за виски постоянно расплачивался Бобров. А я тогда, хоть и был обладателем Кубка, ходил за ним по пятам и хотел быть во всём похожим на него. Он ратиновое пальто купил за пятнадцать фунтов, и я себе такое же. Он присмотрел для Саниной шубу, и я в том же отделе Зое заказал. Кепку шил, как у него».
Не Саниной та шуба предназначалась...
Елене Николаевне запомнился такой случай: «Всеволод Михайлович очень ценил и любил тех, с кем играл. С особым трепетом и нежностью он вспоминал своих ленинградских партнёров, вообще ленинградский период. По-моему, он город на Неве любил больше, чем Москву.
Очень он волновался перед памятной игрой ветеранов Москвы и Ленинграда, которая состоялась, если не ошибаюсь, в 1967 году. Я поехала на стадион вместе с Севой. Был очень жаркий день, трибуны забиты до отказа. Никто не ожидал, что матч футбольных ветеранов вызовет такой громадный интерес, в летний выходной, когда москвичи всему прочему предпочитают дачные огороды.
Ворота ленинградцев защищал известный голкипер Леонид Иванов. Он вышел на поле в той – жуткой! – форме, что была в моде перед войной: свитер грубой вязки, трусы ниже колен, кепочка-блин. Смех, да и только! Но играл отлично.
Был у него могучий стимул: уж очень не хотел пропустить гол от Боброва, игравшего за Москву. Он то и дело посматривал в сторону Севы, поднимал вверх кулак с кукишем, который Боброву предназначался. И реплики громкие пускал: “Во, Севка, ты меня достанешь!”
Но за две минуты до конца матча Бобров забивает ему мяч. Иванов катается по земле, стучит по ней кулаком и стонет в отчаянии: “Ох, чёрт, всё-таки он меня достал!” Сыграли, кажется, вничью и почти сразу после финального свистка разразилась могучая гроза. Красивый получился день. Мы поехали провожать ленинградцев на вокзал. Когда поезд отошёл от перрона, я поняла, что это один из самых счастливых дней в Севиной жизни. Без всякого преувеличения».
В ЦДКА Бобров никогда не был капитаном, но являлся лидером неформальным. После игры футболисты любили собираться в питейной «точке» или у Боброва дома. С одной стороны, это было удобно – он долго оставался холостяком, но более важным являлось то, что Всеволод был человеком с открытой душой.
Хозяйствовала тогда много лет жившая в квартире Всеволода старшая сестра Антонина. Баловал сына гостинцами – маринованными грибами и вареньем – отец Михаил Андреевич. Все дары немедленно выставлялись на стол.
Гостеприимство в доме Боброва стало традицией.
Елена Боброва рассказывала: «Гости в нашем доме могли быть в любое время суток. К Севе приходили самые разные люди. Понятие “гость” для него было священным. А зная его удивительную способность располагать к себе, можно представить, сколько их побывало в нашем доме...
Многие приходили к нему со своими болями и проблемами. Не считаясь ни с какой субординацией и табелем о рангах, Всеволод Михайлович открывал любые двери, спорил, убеждал и настаивал. Для своего товарища он мог сделать всё. Но пойти куда-нибудь просить что-нибудь для себя...
Если бы не моё близкое знакомство с председателем Спорткомитета Павловым, мы вряд ли получили бы теперешнюю трёхкомнатную квартиру. Всеволод переезжал-то сюда с неохотой. Ему было вполне достаточно старой, двухкомнатной. Но у нас уже было двое детей. Эту квартиру мы получили тогда, когда Сева был за океаном».
Среди поклонников Всеволода Боброва было много деятелей искусства. Один из них – болельщик ЦДКА поэт Константин Ваншенкин. В его «Воспоминаниях о спорте» есть и такое: «Композитор Ян Френкель почувствовал тягу и симпатии к команде в конце войны, но не только потому, что был солдатом, а благодаря поразительной игре молодого Боброва».
Заядлым футбольным болельщиком был Евгений Евтушенко. И главным его любимцем был Всеволод Бобров. Помимо широко известного стихотворения «Прорыв Боброва» у поэта был целый цикл, названный «Моя футболиада», в котором он неоднократно обращался к имени Боброва.
Об отношении поэта к футболисту многое говорят строки из стихотворения «Мои университеты»:
Я учился прорыву
разбойного русского слова
не у профессоров,
а у взмокшего Севы Боброва.
Есть в цикле и стихотворение «Сева»:
Я твоего посева,
Сева.
Я в мире, как в своём дворе,
и бил я справа,
с центра,
слева,
но не от злости,
не из гнева,
а от любви к самой игре.
Елена Николаевна вспомнила памятный день рождения мужа: «1 декабря 1970 года. Сидим мы дома. На улице стужа. Уже и не надеялись, что кто-то забежит на огонёк. Вдруг – звонок. Точнее, не звонок, а трезвон сумасшедший. Открываю – в дверях Евгений Евтушенко. Все знают его авантажный стиль в одежде. И в ту пору его вкусы были теми же: громадное пальто с широченными отворотами на столь же широченных плечах, на голове огромный лисий треух. Это сейчас подобный “прикид” не редкость, а тогда...
В то время Евгений Александрович пребывал в опале. Во Франции вышла его автобиографическая книга, которая не слишком понравилась цензорам со Старой площади.
У него в такие периоды особый кураж просыпался. Сева с ним был знаком уже несколько лет, любил его и на опальный отсвет внимания не обращал, с удовольствием звал в гости.
А тут без приглашения обошлось. Евтушенко нагрянул сюрпризом. В этом самом, куражном настроении. Господи, сколько же своих стихов он тогда прочитал. И как! Постепенно кухня в маленький зрительный зал превратилась: пришёл Коля Рыбников с женой, старые Севины друзья. Яша Охотников – в своё время он был порученцем у Василия Сталина, затем учился, руководил базой спорттоваров. Так и сидели до глубокой ночи, слушали Евтушенко. А спустя несколько месяцев было опубликовано новое творение Жени – стихотворение о Боброве. То самое, где Сева с “носом, чуть картошкой”[1]1
В действительности стихотворение Евгения Евтушенко «Прорыв Боброва» было опубликовано в еженедельнике «Футбол-хоккей» 28 сентября 1969 года в № 39.
[Закрыть]...»
Евгений Евтушенко – человек творческий – мыслил образами, создавал в своём воображении живописные сюжеты, которые якобы имели место в действительности. При этом ничтоже сумняшеся выдавал их за реальные, охотно делился со своими слушателями.
Футбол поэт любил, не единожды по итогам крупнейших мировых турниров, где сборная Советского Союза в очередной раз терпела фиаско, выступал в еженедельнике «Футбол-хоккей» с аналитическими статьями, пытаясь пробиться к истине. Но, конечно же, проще было оперировать назидательными примерами из славного прошлого, где Евгений Александрович мог дать волю фантазии.
В «Футболиаде» он писал: «Бобров мне рассказывал, как после триумфального турне в Англии он оказался в обыкновенной, а не показательной русской деревне.
Местное начальство встретило его с помпой, и целая вереница машин въехала в деревню, распугивая непривычных к такому нашествию кур.