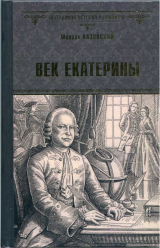
Текст книги "Век Екатерины"
Автор книги: Михаил Казовский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 25 страниц)
Послесловие
Ломоносова не станет через тридцать пять дней – днем 4 апреля 1765 года. Невзначай простудится, и простуда перейдет в воспаление легких, а оно – в сердечную недостаточность; видимо, болезнь ног так подточит его организм, что сопротивляться не сможет. По указу императрицы, похороны пройдут торжественно, пышно, а за гробом будет идти многотысячная толпа. Свой последний приют Михаил Васильевич обретет на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры. Год спустя на его могиле возведут памятник из каррарского мрамора, привезенного из Италии.
Бедная Елизавета Андреевна не найдет в себе сил примириться с гибелью обожаемого супруга и уйдет из жизни год спустя, вскоре после свадьбы Константинова и Леночки…
Дом и дело Ломоносова постепенно придут в упадок. Иоганну Цильху, брату Елизаветы Андреевны, не достанет средств, чтобы содержать стекольный заводик, вскоре предприятие остановится, а крестьяне, работавшие там, возвратятся к обычному пахотному труду; так что многие секреты производства смальты для мозаик канут в небытие.
Больше века простоит в сарае знаменитая «Полтавская битва», лишь в 1925 году переедет на свое нынешнее почетное место – украшая верхнюю площадку парадной лестницы здания Академии наук в Санкт-Петербурге[33]33
Университетская наб., 5.
[Закрыть].
Ненадолго переживет учителя и Иван Барков – совершенно спившись, он покончит жизнь самоубийством, задохнувшись угарным газом в тлеющем камине. Если верить легенде, автор срамных стишков перед тем, как залезть в камин, догола разденется и засунет в мягкое место трубочку бумаги, на которой напишет собственную шутливую эпитафию. Вот она:
Жил грешно – и умер смешно.
Неудачно пройдут обе северные экспедиции капитана Чичагова – в 1765 и 1766 годах: мощные льды не дадут кораблям продвинуться дальше острова Медвежьего. Больше повезет норвежцам в 1778–1779 годах – караван их судов пройдет путь до Аляски с одной зимовкой. А безостановочно – только в 1932-м экспедиция под командованием советского полярника О.Ю. Шмидта. В общем, эта мечта Ломоносова воплотится в жизнь только в XX веке.
Тауберт, отстраненный от дел, больше не сможет играть в Академии никакой значительной роли. А его подопечный Шлёцер будет наезжать в Россию ненадолго, в основном преподавая в Германии; под конец жизни он издаст книгу «Нестор» – свод русских летописей, посвятив императору Александру I.
Академией до конца ХVIII века будет управлять Кирилл Разумовский. А директорами при нем поработают и Владимир Орлов, и Екатерина Дашкова, и другие более или менее успешные царедворцы. Кстати, именно Дашкова выгонит из Академии Михаила Головина…
Миша Головин оправдает чаяния дяди. Он блестяще окончит гимназию и университет, став учеником великого Эйлера. Сделается адъюнктом физики, а позднее – профессором математики. Государыня присвоит ему чин надворного советника. Он с любовью займется преподаванием, в том числе в Смольном институте благородных девиц и в Пажеском корпусе. Будет переводить (например, с французского – «Морскую науку» Эйлера, и она станет первым русским учебником по кораблестроению). Сочинит семь учебников для народных училищ – по арифметике, тригонометрии, аналитической геометрии и астрономии, механике, физике, математической географии и гражданской архитектуре. Примет деятельное участие в выпуске первого полного собрания сочинений М.В. Ломоносова… Но поссорится с Дашковой и подаст в отставку. Будет пробавляться частными уроками, вскоре заболеет и скоропостижно умрет 34 лет отроду, холостым, бездетным… Для его матери, Марии Васильевны Ломоносовой (а по мужу – Головиной), ранняя кончина сына станет страшным ударом. 60-летняя женщина, как паломница, придет пешком из родных Матигор в Петербург, чтобы побывать на могиле любимого Мишеньки… Впрочем, проживет она еще более 15 лет, занимаясь у себя в селе целительством, врачеванием…
Возвратится в родные места и Матрена Головина, выйдя замуж за Федю Лопаткина. Оба будут счастливы в браке и уйдут в лучший из миров глубокими стариками. Перед смертью Матрену Евсеевну посетит литератор П.П. Свиньин и запишет воспоминания о ее житье-бытье в доме Ломоносова в Петербурге, из которых мы и знаем теперь, как провел последние годы гениальный ученый.
К сожалению, семейная жизнь Константинова и Леночки будет длиться всего шесть лет. Юная супруга подарит Алексею Алексеевичу сына Алексея и трех дочек – Софью, Екатерину и Анну. Но при родах последней Леночка умрет… (Словом, тот стишок, где библиотекарь сравнивал себя с Орфеем, а ее с Эвридикой, станет для них печально пророческим…)
После смерти жены он уже не женится и, уволившись с должности, посвятит себя маленьким детям. Дом Ломоносова отойдет ему по наследству, превратится в доходный, и на эти деньги Константинов станет жить под старость. А умрет, справив 80-й юбилей…
Так окончатся дни героев нашей повести.
Это всё случится потом, после смерти Ломоносова. Личные трагедии и триумфы царствования Екатерины П. Вся вторая половина XVIII века – противоречивого, просвещенного, галантного, дикого, кровавого. Всё потом – и Суворов, и Потемкин, и де Рибас. Войны, переписка с Вольтером и Дидро, пугачевщина и раздел Польши… Ссора с Бецким и его смерть в 93 года…
Всё потом, потом. Но весну 1765-го Ломоносов еще встретит, будет еще работать, бороться, добиваться правды, переживать, поощрять племянника Мишу, привыкающего к порядкам общежития.
Годы пробегут, и уйдут эти люди, но на смену им появятся новые, внуки их и правнуки, сохранят память о своих предках.
Дети Константинова и Елены Михайловны обретут свои семьи, и бурлящая кровь Михаила Васильевича потечет в жилах Раевских, Волконских, Уваровых, Орловых, Кочубеев, Толстых…
Правнуки Ломоносова, Александр Николаевич и Николай Николаевич Раевские, сделаются участниками наполеоновских и кавказских войн, а последний станет основателем города Новороссийска. Правнучка Мария Николаевна Раевская выйдет замуж за будущего декабриста Сергея Волконского и уедет за ним в ссылку в Сибирь. Будет сослана и другая правнучка – Екатерина, замужем за декабристом Михаилом Орловым…
Ныне потомков Ломоносова более 300 человек.
Именем его названы город, улицы и фарфоровый завод, школы, библиотеки, университет. Ваш покорный слуга, автор этих строк, тоже питомец МГУ имени Ломоносова…
Слава его жива. Многие его озарения подтвердились.
Жизнь продолжается.
Арестанты любви
Глава первая
1
Плохо, плохо стало в семье Петра Федоровича. От спесивой жены он сбежал в деревню. Без конца пилила: дом не тот, выезд не тот, платья бедные, не по чину. Да какие ж бедные – шьются по выкройкам, доставляемым прямо из Парижа! На одни шляпки Анна Павловна тратит в месяц целое состояние. А жене все мало! Лучше бы детей рожала исправно – подарила ему только одного сына Феденьку. Но теперь-то поздно: им уже за сорок, надо о душе думать, а не об алькове. Да и чувств поубавилось. Нет любви.
Да любил ли ее когда-нибудь Петр Федорович? Их сосватала двадцать лет назад государыня Елизавета Петровна, царствие ей небесное. Говорит: «Мы, Петюня, присмотрели тебе невестушку – ладную, пригожую, и умом не обделена, – радоваться станешь». Поклонившись, поблагодарив как положено, он спросил: «Кто ж такая, ваше величество?» – «Нюська Ягужинская, фрейлинка моя». Он опешил: «Да за что ж такая немилость, ваше величество?» – «Как так – немилость? – удивилась царица. – Отчего немилость?» – «Матушка ея ведь была разбойница, сослана в Сибирь, где и померла». – «Что ж с того? – хмыкнула императрица, дернув плечиком. – Дочка не в ответе за мать. В обчем, не сумлевайся. А иначе обижусь». Что ж, пришлось подчиниться…
И сказать по правде, та история с. матерью Анны Павловны мутная была. Что уж там произошло между нею и государыней и какая черная кошка пробежала, Бог весть. Только объявили, что она и Лопухина, тоже фрейлина, замышляли заговор против ее величества и достойны обе смертной казни. А поскольку Елизавета Петровна смертную казнь на Руси упразднила, то крамольниц повелели сечь на площади прилюдно, вырвать языки и сослать за Можай. Так вдова генерал-прокурора Ягужинского оказалась в Якутске, где благополучно преставилась от тоски и бескормицы[34]34
Именно о ней, в юные ее годы, говорится в романе Н. Соротокиной «Трое из навигацкой школы», по которому снят фильм «Гардемарины, вперед!»
[Закрыть].
Дочку же бездетная царица у себя приголубила, обласкала и произвела во фрейлины (может, чувствовала вину за безвинно погубленную мать?)
Что ж, по молодости Анна Павловна очень была мила. Худощавая, стройная, с узким прямым носиком, сросшимися на переносье бровями и большими серыми глазищами. В разговоре слегка картавила. И всегда глядела насмешливо.
Первые два года их совместной жизни были прекрасны. Появился Феденька, краснощекий голубоглазый крепыш, весь в отца. А затем вскоре, в 1756 году, Петр Федорович ускакал на войну с Пруссией. И за семь лет боевых действий приезжал домой на побывку только четыре раза. Два других сына умерли, не родившись. Видимо, поэтому Анна Павловна с каждым годом становилась нервознее, раздражительнее и злее. А когда он вернулся с войны окончательно, в чине полковника, нрав жены сделался и вовсе невыносим. Просто иногда волком выть хотелось.
Новая императрица, Екатерина Алексеевна, относилась к нему неплохо. Повышала в чинах: за заслуги в другой войне – турецкой – он дорос до генерал-адъютанта и решил в 45 своих лет выйти в отставку. Анна Павловна, разумеется, оказалась против – ей хотелось быть женой генерал-аншефа или даже фельдмаршала, но добрейший Петр Федорович проявил внезапную твердость и в конце концов поступил по-своему. В результате чего ссора между супругами длилась чуть ли не целый год. Он уехал к себе в имение, жил в деревне, отдыхал, охотился, ничего не делал, а она оставалась в столице, ездила на балы и, по слухам, заимела в фаворитах юного поручика. Ну и Бог с ней. Петр Федорович совершенно не ревновал. Никаких чувств к супруге больше не испытывал.
Возвратился в Санкт-Петербург к Рождеству 1773 года. Выглядел отменно – посвежевший, поздоровевший, двухметровый красавец. Обнял сына – Федору стукнуло уже восемнадцать, был такой же рослый, как отец, но черты имел более изящные – повлияла порода Ягужинских. Обучался в Пажеском корпусе, чтобы делать потом карьеру при дворе, а в военные идти не хотел: ну и правильно, хватит того, что его отец послужил царю и Отечеству на полях Европы и в горах Крыма.
Сын спросил:
– Завтра новогодний маскерад в Зимнем, мы приглашены. Ты пойдешь?
– Уж не знаю, Федюня, право. Светская суета мне претит – эти никчемушние разговоры, танцы, гвалт…
– Ах, да ты совсем стал бирюк у себя в деревне. Соглашайся, папенька. Вместе порезвимся.
– Маменька-то едет?
– Непременно, а как же!
– Ну, вот видишь. Мы по-прежнему с нею в распре. Ехать в разных каретах глупо, а в одной как-то несообразно.
– Ничего нет проще: ты, насколько я знаю, приглашен на обед к Потемкину завтра?
– Да, имел честь.
– После с ним в карете и отправляйся.
– Да удобно ли?
– Вы же с ним друзья и соратники по турецкой кампании. Он и сам тебя пригласит, вот увидишь.
– Коли пригласит, то не откажусь.
– Стало быть, до встречи на маскераде! То-то выйдет весело!
2
А Потемкин в то время не был еще в зените славы, хоть и пользовался благосклонностью государыни, разрешавшей ему приватную с ней переписку. Но с Петром Федоровичем продолжал дружить, и нередко вместе они охотились, а потом бражничали, запивая свежую кабанятину молодым вином.
– Здравствуй, здравствуй, Апраксин, – руки развел для братских объятий однополчанин. – Рад тебя видеть преисполненным сил и энергии. Хорошо бы и мне отдохнуть в деревне. Но дела не отпустят. Да и матушка-хозяюшка тож… Ты-то со своей не пошел на мир?
– Да какое там! Хуже не бывает. Видимо, подам на развод.
– Те-те-те, – щелкнул языком Григорий Александрович. – Церковь разводы не поощряет. Очень веские нужны аргументы.
– Аргумент один – женина неверность. Я рогат – это факт. И свидетелей их амурных свиданий предостаточно.
– Не страшишься огласки-то?
– А чего страшиться, коли все уже и так знают? Надо довести дело до конца. Я надеюсь, ежели чего, ты замолвишь слово перед матушкой-хозяюшкой?
– Разумеется, окажу всякое содействие.
За обедом, при посторонних, говорили на отвлеченные темы, а затем Потемкин, как предполагал Федор, пригласил приятеля ехать вместе на маскарад. Оба по дороге в карете нацепили карнавальные маски: Петр Федорович синюю атласную в серебристых звездочках, а Григорий Александрович – красную бархатную с крючковатым носом и довольно узкими прорезями для глаз, что скрывало его бельмо на правом зрачке. Будучи оба в париках (у Потемкина рыжеватосерый, у Апраксина белый) и в партикулярном платье (Петр Федорович в темно-зеленом камзоле с золотым шитьем, а Григорий Александрович в светло-фиолетовом с блестками), запросто могли рассчитывать на неузнаваемость – первое условие подобных увеселений, где простой поручик мог зафлиртовать с именитой фрейлиной, а наследник престола, наоборот, снизойти до какой-нибудь скромной барышни.
Зимний дворец был в огнях, слышалась бравурная музыка, а кареты с гостями следовали к парадному входу одна за другой. Дамы с пышными высокими париками и глубокими декольте, кавалеры в чулках и изящных туфлях с пряжками, ароматы дорого парфюма, а порой и нюхательного табака, слуги-арапы в ливреях, вазы с фруктами, бледно-желтое и рубиновое вино в бокалах, оживленные речи – вся эта кутерьма поглотила Потемкина и Апраксина, закружила водоворотом, и они то теряли друг друга из виду, то внезапно опять встречались, улыбаясь и кланяясь.
– Распознал матушку-хозяюшку? – на ухо спросил приятель с усмешкой.
– Нет, а в чем она нынче?
– Не скажу, а не то еще увлечешь с собою супротив моего желания.
– Да помилуй Бог!
– Я шучу, шучу. Догадайся сам. Токмо будь осторожен и не спутай с какой-нибудь Дашковой.
– Вот потеха!
Не успел приглядеться к фланирующим дамам в масках, как услышал знакомый голос:
– Я узнал тебя, папенька.
Федор был в малинового цвета камзоле, розовых чулках и розовом платке на шее. Маска тоже розовая.
– Фу, да ты одет чересчур по-женски, я смотрю.
– Это последний писк парижской моды.
– Станут говорить, что Апраксин-младший – совершенная баба.
– Пусть вначале меня узнают в этом одеянии. Ты танцуешь?
– Нет пока.
– Ну а я имел счастье покружить в котильоне с некоей барышней в голубом. Говорила со мной по-аглицки. Спрашиваю, как к ней обращаться. Отвечает: «Элизабет». Вон она, видишь, у окна?
– Ох, какая милашка! Плечи будто бы у античной статуи.
– И не только плечи, папа. В декольте там такие пышечки…
– Федор, ты похож на мартовского кота.
– А ея товарка не хуже: вылитая Психея.
– Или Цирцея. Только, я гляжу, в интересном положении.
– Да, она не танцует. Ну, да я найду себе еще спутницу к менуэту, а тебе уступаю Элизабет.
– Ах, к чему подобные жертвы? Я ведь тоже могу найти, коли захочу. А могу и вовсе не танцевать.
– Не упрямься, папенька, ты у нас еще ого-го, увлечешь любую!
Обе незнакомки обмахивались веерами недвусмысленно: в том галантном веке был в ходу язык жестов, и когда дама часто-часто гнала на себя воздух веером и бросала сквозь него на кавалера лукавые взгляды, это означало – можно идти на приступ, я сегодня вполне отзывчива.
– Разрешите пригласить вас, мадемуазель?
– Сделайте одолжение, мсье…
– Вы очаровательны в этом платье.
– Мерси бьен.
– Как вам на балу – нравится?
– О, безмерно. Только душновато.
Зазвучал менуэт – дамы выстроились против кавалеров, после взаимных поклонов и реверансов начали кружиться друг с другом парами, делать переходы, лишь слегка касаясь пальцев в перчатках.
– Вы прекрасно танцуете, сэр, – заявила Элизабет Апраксину-старшему по-английски.
– Сэнкью вэри мач. Вы же хорошо изъясняетесь на британском языке.
– Ваше произношение тоже неплохое.
– По-французски я болтаю лучше.
– Я предпочитаю английский – он не так сюсюкает.
– Мисс Элизабет не выносит романтики?
– Да, отец воспитал меня в духе реальностей.
После перехода встретились снова.
– Вы упомянули, что отец ваш без сантиментов. Ну а маменька?
Девушка вздохнула:
– Маменьки, увы, нет уже на свете… Да, она была более чувствительна, но отец занимался нашим духовным воспитанием больше. Все одиннадцать отпрысков получили образование энциклопедическое. Наши кумиры – Вольтер и Руссо. А «Кандид» – моя любимая книга.
– Вы меня сразили, Элизабет. Я буквально вами очарован.
– Вы мне тоже понравились, сэр.
Танец завершился. После поклонов Петр Федорович проводил партнершу к тому креслу, где она сидела.
– Был бы рад продолжить наше знакомство, мисс Элизабет. И уже без масок.
Та взглянула печально:
– Сэр, это невозможно.
– Как же так? Отчего?
– Есть на то серьезные обстоятельства. Мой отец… не допустит…
– Коли он приверженец просвещения, то наоборот…
– Ах, не станем обсуждать моего родителя. Он чудесный человек, но подвержен влияниям… нет, неважно.
– Мне ужасно жаль расставаться с вами.
– Да, мне тоже, сэр.
– Хорошо, что-нибудь придумаю.
– Нет, прошу вас, пожалуйста, не предпринимайте никаких шагов к нашему сближению.
– Вы мне запрещаете?
– Я вас умоляю. Ведь иначе меня со свету сживут…
– Я обескуражен.
– Принимайте как должное и вполне смиритесь.
– Не хотите ли еще станцевать? По программе следующим – медленная жига, или лура.
– Нет, простите, я немного передохну.
Поклонившись, Апраксин удалился. Подхватил за локоть подбежавшего Федора, начал его расспрашивать – кто она такая, что за незнакомка?
– А, понравилась? – улыбнулся сын. – Я же говорил, а ты ехать не хотел…
Но подробностей он не знал.
– Коли что удастся разнюхать, непременно скажу.
Не успел генерал-адъютант прийти в себя, как его взяла под руку полноватая дама в платье с газовым шлейфом. Белая маска скрывала ее лицо.
– Вы неплохо смотрелись в менуэте, герр Апраксин, – заявила она по-немецки, чем и выдала себя сразу: он узнал голос Екатерины II.
– О, мадам, вы мне льстите – я танцор посредственный и на поле брани выгляжу куда убедительней.
– Ах, не скромничайте, Петр Федорович, вы такой красавец, что в любой ситуации хороши. Но предупреждаю: будьте осторожны с этой славной хохлушкой.
– Я с хохлушкой? – удивился он.
Государыня рассмеялась:
– Вы не ведаете, с кем танцевали?
– Нет.
– С фрейлиной моей – самой любимой дочкой графа Разумовского.
– Что, Кириллы Григорьевича? Генерал-фельдмаршала? Президента Академии наук? – изумился Апраксин.
– Да, того самого, бывшего гетмана Малороссии. Человек образованный, порядочный, но страстей великих. Не имел удержу в любви, наплодил одиннадцать деток, чем и свел в конечном итоге добрую свою супругу в могилу.
– Я наслышан тоже… Говорят, самого Ломоносова осаживал.
– Всякое случалось… Словом, с Лизхен Разумовской лучше не затевать амуров.
– Ну, меня-то застращать трудно.
– Ох, как знать, как знать, милейший Петр Федорович… – И царица лукаво улыбнулась. – Даже я в частной жизни других персон не властна… Лучше разберитесь вначале со своей Ягужинской.
Он вздохнул:
– Разбираться нечего, надо разводиться.
– Эк, куда хватил! Ведь митрополит не одобрит.
– Даже если попросит ваше величество?
Государыня ответила саркастически:
– Да с чего вы взяли, что просить за вас стану? Мы в последнее время с ним на ножах. Лишний раз обострять отношения не подумаю. Словом, не надейтесь, не обольщайтесь.
– Очень жаль. – Генерал уронил голову на грудь.
– Ну, не хнычьте, не хнычьте, Апраксин, – приободрила его она. – Вы такой сильный и находчивый. Не пристало вам нюни распускать. – И, кивнув приветливо, отошла прочь.
«Сильный и находчивый, – проворчал военный. – Никакой находчивости не хватит: с Ягужинской не разводись, с Разумовской не затевай… Выхода не вижу».
Он пошел в буфетную, взял мороженое в хрустальной вазочке, начал есть задумчиво. Не заметил, как возникла рядом дама в сером бархатном платье и проговорила:
– Вот ты где.
Петр Федорович поднял глаза и узнал свою благоверную – Анну Павловну. Стройная, высокая, с узкой талией вроде не рожавшей женщины, тонкими изящными пальцами. Ею можно вполне увлечься, если только не знать о ее поганом характере.
– Здесь, а что такого?
– Лихо ты отплясывал с Лизкой Разумовской. Я не ожидала.
– Я и сам от себя не ожидал. Вспомнил молодость. – Криво усмехнулся.
– Так женись на ней, – совершенно невозмутимо заявила она.
– То есть как – жениться? – Он едва не выронил вазочку из рук.
Анна Павловна показала зубки.
– Ты не знаешь, как женятся? Это для меня новость.
– Знаю, знаю, конечно. Но я знаю также, что пока состою в законном браке.
– Именно что «пока». – Вытащив из рукава кружевной платочек, театрально промокнула вроде бы увлажнившиеся глаза.
Петр Федорович проглотил комок в горле. И спросил:
– Что ты хочешь этим сказать?
Вздрагивающим голосом дама проронила:
– То, что скоро сделаешься свободен…
– Но митрополит не одобрит нашего развода.
– Никакого развода не нужно.
– Я не понимаю. Как сие возможно? Коли без развода, коли ты жива, слава Богу, здорова… Или нет?
Женщина перекрестилась, а потом суеверно трижды сплюнула через левое плечо.
– Тьфу, тьфу, тьфу, Бог миловал.
– Но тогда как?!
– Я уйду в монастырь. Это решено. – И она трагично прикрыла веки.
Генерал презрительно фыркнул.
– Ты? В монастырь? Шутишь, верно?
– Нет, нимало. Я рассталась с поручиком… ну, ты знаешь, каким… оказался хамом неблагодарным… между нами все кончено… Но к тебе вернуться тоже не могу… совестно и стыдно… Словом, постриг – вот единственный путь. Для замаливания грехов.
Но Апраксин все равно не поверил. Так и брякнул:
– Я тебе не верю. В то, что ты могла расстаться со своим полюбовником, верю. В то, что в монастырь уйдешь – нет.
– Ты меня плохо знаешь, Петр.
– Я тебя знаю слишком хорошо. Завтра передумаешь.
– Никогда.
– Ну, посмотрим, посмотрим. – Он отставил вазочку с недоеденным лакомством. – Я поеду домой, пожалуй. Настроения веселиться больше нет. Ты останешься?
– Да, еще побуду в свете напоследок…
Генерал поморщился:
– Ты фиглярка, Анна.
– Может быть, и так. Но мне кажется, с ролью монашки справлюсь я неплохо.
3
Граф Разумовский жил во дворце на Мойке. Раньше в его доме было шумно, весело, каждый вечер балы и гости, детский смех и забавы. Но когда умерла его дражайшая половина (а случилось это за два года до описываемых событий), дом осиротел. Большинство выросших детей разъехались по своим семьям, а к фельдмаршалу вскоре перебралась его племянница, тоже вдова, Софья Осиповна Апраксина, с пятилетней дочерью Верочкой. И Кирилл Григорьевич круто переменился…
Но вначале надо пояснить их родство.
Софья Осиповна, по происхождению тоже украинка, приходилась Кириллу Григорьевичу племянницей, так как была дочерью его сестры. И одновременно – свояченицей Петру Федоровичу Апраксину, так как выходила замуж за его брата. Кроме Верочки, двое других ее детей умерли в младенчестве. А когда скончался и муж, безутешная дама согласилась приютиться у богатого дяди. Дяде, между прочим, шел в ту пору только 46-й год, а племяннице исполнилось 30… И, как говорится, молодая еще кровь, одиночество обоих сделали свое дело… В общем, очень быстро Софья Осиповна превратилась в хозяйку, дома Разумовского.
Вот ее портрет: выше среднего роста, полнотелая и ширококостная, с правильными чертами лица, но с недобрыми, узкими, вечно недовольно сжатыми губами; говорила низким голосом, вроде бы охрипшим, исключительно по-русски или по-украински, иностранные языки знала плохо. Интонации были резкие, а порой просто даже грубые.
Из детей Кирилла Григорьевича в отчем доме оставались две его дочери – Лизонька и Аннушка. Младшая, Анна, вскоре вышла замуж за графа Васильчикова и, рассорившись с Софьей Осиповной, убежала с супругом в собственный особняк, купленный для этого у другого брата Апраксина. Лизавета же навещала родителя только в выходные, получаемые от гофмейстерины в Зимнем дворце (штатные фрейлины были обязаны жить при императрице). Так что с кузиной, ставшей негласной мачехой, контактировала немного, и они пока что серьезно не ссорились.
Лизе уже исполнилось 25 – по тогдашним меркам, старая дева. Но отец, а теперь и двоюродная сестра неизменно распугивали всех ее женихов – девушка вздыхала, но безропотно подчинялась. Да и женихи, честно говоря, ей не больно нравились. Думала: лучше оставаться одной, чем терпеть до старости нелюбимого мужа.
Только Петр Апраксин неожиданно произвел на нее неизгладимое впечатление. Статью, ростом, умными речами и галантностью повторял во многом Кирилла Григорьевича, да и возраст тот же, а несчастная барышня с детства мечтала встретить кавалера, в главном похожего на ее отца. И, вернувшись с новогоднего маскарада, не сомкнула глаз всю ночь. Сильно горевала, что и в этот раз ничего у нее не затеется: он женат, а ее не отпустят папенька и кузина. Горько плакала, стоя на коленях под образами. Говорила, глядя на святые лики Богородицы и Младенца: «Господи Иисусе, Пресвятая Дево, сотворите чудо и соедините меня с сим достойным мужем… Я перетреплю любые лишения, муки вынесу, мне ниспосланные, лишь бы с ним пойти под венец, детушек родить, жить душа в душу и потом, как в сказке, умереть в один день…»
Богородица смотрела на нее с иконы вроде бы сочувственно. Словно одобряла. В пламени лампадки девушке казалось, что кивает Лизе и заверяет: «Мы тебе поможем…»
То ли в самом деле Лизина молитва была услышана, то ли вышло простое совпадение (впрочем, разве случаются в мире совпадения, не угодные Богу?), но неделю спустя барышня узнала: Петр Федорович приходил во дворец к ее отцу сватать Лизу. А узнав, так разволновалась, что лишилась чувств.
Между тем Апраксин действительно, испросив аудиенцию у Кирилла Григорьевича, припожаловал к Разумовскому в оговоренный день и час. Вырядился в генеральский мундир, нацепив все свои военные ордена и побрызгавшись кёльнской водою, в просторечии именуемой одеколонью. Гаркнул с порога кабинета хозяина:
– Рад вас приветствовать, глубокочтимый мною Кирилла Григорьевич! Я не слишком обеспокоил вашу светлость?
Бывший гетман вышел ему навстречу, протянул руку для пожатия.
– Ах, оставьте церемонии, генерал. Будьте проще. Я человек не больно светский, принимая во внимание, что мой дед пас коров, а любезный брат пел в церковном хоре. Не терплю всяких политесов.
– Проще так проще, – потеплел Петр Федорович. – Нам, военным, без ужимок и краснобайства вольготнее.
– Вот и добре. Соблаговолите присесть. Кофе, чаю? Может, что покрепче?
– Как решите сами. Для меня и то, и другое, и третье вполне приемлемо.
– А давайте украинской горилочки? Мне намедни привезли из Батурина. Чистая, як слезка. Под шматочек сала, со ржаным хлебцем, а? Вы не против?
– Только за.
– От и славненько.
Выпили, зажевали. Раскрасневшись, заулыбались.
– Так какое дело привело вас в мою скромную обитель, генерал? Может быть, желаете направить своего Феденьку по ученой части? Мы ему присмотрим теплое местечко в нашей Академии…
– Нет, благодарю. Федя мой пристроен неплохо, дай Бог ему здоровья. Я пришел просить за себя.
– Что такое, Петр Федорович, голубчик? – удивленно вскинул брови Разумовский. – Чем же я, грешный, пригодиться могу? Говорите прямо, без обиняков. Все, что в силах моих, сделаю немедля.
– А давайте выпьем еще по маленькой, уважаемый Кирилла Григорьевич? За здоровье и процветание наших детушек?
– С превеликим удовольствием, генерал. Ибо наши детушки – это для нас святое.
Снова выпили, снова зажевали. Приободрившись, Апраксин пробормотал:
– Есть у вас дочурка на выданье, славная Лизавета Кирилловна… вот я и хотел бы…
Разумовский напрягся, сдвинул брови, и улыбка моментально исчезла с его лица. Холодно сказал:
– Лизавета Кирилловна замуж не собирается.
– Нет, ну погодите, господин фельдмаршал, вы же не дослушали…
– Я и слушать ничего не желаю. Коли вы пришли толковать исключительно о моей Лизоньке, то оставим сразу. Дабы не поссориться.
Петр Федорович тоже напрягся. Губы сжал. И ответил сдержанно:
– Этак не по-дружески, граф. Утверждали, будто для меня все возможное сделаете немедля, а теперь не хотите даже выслушать. Я не предлагаю ничего скверного, недостойного, а наоборот, лишь пекусь о счастье вашего милейшего чада.
Президент Академии наук сухо отозвался:
– Счастье моего чада не в руках ваших, генерал.
– Ошибаетесь.
– То есть как? – вспыхнул украинец. – Вы осмелились заявить, будто я ошибаюсь?
– Что ж с того? Ошибаются часто многие, вы – не исключение. Счастье Лизаветы Кирилловны от меня зависит.
– Это же каким образом? – едко произнес бывший гетман.
– Я женюсь на ней, чем и осчастливлю.
То, что приключилось далее с Разумовским, трудно описать: взяв себя за коленки и прижав их к груди, повалился на спину в кресле и задрыгал ступнями в воздухе; из открытого рта его доносилось какое-то бульканье, а из глаз текли слезы. Петр Федорович поначалу перепугался и подумал, это приступ падучей, и хотел было кликнуть слуг, но потом, к досаде собственной, понял, что фельдмаршал попросту хохочет. Отсмеявшись, тот выпрямился, вытер платком совершенно мокрые щеки, веки и проговорил, продолжая кхекать:
– Вот уж уморили, ей-Бо… Я давно так не потешался, чуть живот не лопнул…
Уязвленный Апраксин недовольно спросил:
– Что же вы нашли в сем потешного, ваша светлость?
– Да не ожидал, право. Посчитал вначале, что ведете речь о племяннике либо о каком-нибудь другом протеже… Но, простите, вы сами? Это же химера.
– Отчего же химера, Кирилла Григорьевич?
– Ну, во-первых, возраст. Вы ведь старше меня – на сколько?
– Я ровесник вам, коль не врет Академический справочник.
– Нет, не врет. Хорошо, ровесник. Разве этого мало? Стало быть, в отцы ей годитесь.
– Что ж с того, что в отцы? – не поддался Апраксин. – Сплошь и рядом разница между мужем и женою много больше. И живут, не тужат.
– Ладно, Бог с ним, с возрастом, – продолжал родитель Елизаветы. – Главное в другом: вы женаты некоторым образом? И супруга ваша, дай Бог ей здоровья, делать вас вдовцом не намерена, как я полагаю?
Генерал осенил себя крестом:
– Слава Богу, не при смерти. Но намерена в ближайшее время уйти в монастырь. Посему окажусь я вполне свободен от брачных уз. Вот и поспешил заявить вам о моих марьяжных намерениях. Дабы вышло у нас все чин по чину с Лизонькой. То есть с Лизаветой Кирилловной, извините.
Граф перестал хихикать и надолго задумался. Молча разлил спиртное по стопочкам. Крякнул отстраненно:
– Опрокинем еще по маленькой… Тут на трезвую голову трудно разобраться…
Выпили, закусили. Петр Федорович сказал:
– Знатная горилка у вас. Забирает крепко.
Президент Академии наук оживился:
– Тю, а то! С настоящего буряка сделана. Чистая, як слезка. Выпить можно штоф – на другой день голова светлейшая. С русской водки такого не будет.







