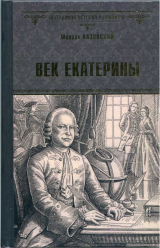
Текст книги "Век Екатерины"
Автор книги: Михаил Казовский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 25 страниц)
– С чем пожаловал, Иван Самойлыч?
– Не пора ли сделать кровопускание вашему величеству? Прошлое еще до отъезда в Царское Село было. Срок давно пропущен.
– Только не сегодня.
Роджерсон нахмурился:
– Каждый раз говорите «только не сегодня». Если бы еще принимали порошки, что прописаны мною, было б полбеды. Порошки нормализуют кровяное давление. Но ведь вы игнорируете и их.
– У меня от твоих порошков изжога. Лечим одно, а калечим другое.
– Идеальных лекарств не бывает.
– Значит, ну их всех au diable![49]49
К черту! (фр.)
[Закрыть]
– Вы напрасно смеетесь, легкомысленно относясь к своему здоровью. В нашем с вами возрасте…
Государыня игриво прищурилась:
– Я старуха, по-твоему?
– Не старуха, мадам: для своих 66 лет выглядите прекрасно. Вот и надо бы поддерживать форму.
– Сам же говорил, что мои язвы на ногах вносят регуляцию крови в организме.
– Не настолько, чтобы вовсе исключать кровопускание.
– Хорошо, обещаю: после тезоименитства ее высочества.
– Я бы рекомендовал раньше. А тем более предстоят похороны Бецкого.
У Екатерины вытянулось лицо:
– Разве Бецкий умер? Мне не доложили.
– Нынче непременно умрет.
– C’est a savoir[50]50
Бабушка надвое сказала (фр.).
[Закрыть]. Он живучий. И потом, я не собираюсь на похороны.
– Pourquoi?
– A cause de cela. Je ne résisterai pas a cette torture[51]51
– Почему?
– По той же самой причине. Я не выдержу этой пытки, (фр.)
[Закрыть].
– Сделаем кровопускание – сразу полегчает.
– Ах, оставьте, Иван Самойлыч, я уже решила. Совершим процедуру через неделю. Свято обещаю.
– Целую неделю! Вы немало рискуете.
– Я всю жизнь рискую.
В лучшие годы Бецкий входил в мой интимный круг. Я ему позволяла приходить на вее мои обеды без особого на то приглашения. В карты Иван Иванович не играл, но зато обожал бильярд. С ним сражались почти на равных. Нет, конечно, праздновал викторию чаще, чем я, но и мне нередко удавалось выходить победителем.
В лучшие дни, отобедав, проходили мы в мои комнаты: я садилась за рукоделие, а Иван Иванович мне читал вслух. По-французски, по-английски, по-немецки, реже – по-русски. Книги, газеты. Это длилось около двух часов. При хорошей погоде мы прогуливались в саду, обсуждали планы обустройства воспитательных домов, Академии художеств… Помню его распри со скульптором Фальконетом, выписанным нами из Франции: тот, создав по заказу памятник Петру, неумел его отлить в бронзе. Говорил, что на отливку контракта не было. Мастера-отливщика не смогли найти ни у нас, ни в Голландии, ни в Швеции. Бецкий объявил, что возглавит работы сам. Это Фальконет уже не стерпел и сказал: лучше я потрачу несколько лет, дабы овладеть ремеслом отливки, нежели позволю портить мою работу разным дилетантам. Разумеется, Бецкий обиделся – мне пришлось отстранить его от работ по установлению памятника. Он потом явился лишь на празднества по открытию – только потому, что уже Фальконета в России не было: завершив отливку (со второй попытки), недовольный нами француз, не простившись, получив гонорарий, сразу оставил наши пределы…
Бецкий жил в своем идеальном мире. Он, я думаю, потому ине смог жениться, что искал себе идеальную жену. Составлял уставы идеальных воспитательных домов, Академии художеств и Кадетского корпуса. А когда выяснялось, что уставы эти мало кто исполняет, ибо нет идеальных учителей, идеальных учеников, генерал злился, недоумевал и пытался исправлять положение нравоучительными письмами… Они с Бобринским моим ладил лишь до тех пор, как Алеша слушал его сентенции; а когда в Париже мальчик полюбил какую-то актрисульку и просаживал деньги за ломберным столом, начал требовать у Ивана Ивановича больше денег, тот решительно отказал и велел ему вернуться в Россию. Так они и рассорились. Мне пришлось заменить Бецкого Завадовским…
Про таких, как Бецкий, говорят: чудак-человек. С ними жить непросто, а порой и обременительно, ибо не укладываются в общие рамки, но благодаря только чудакам мир не плесневеет, движется вперед; человек-серость, человек-банальность никогда ничего не изобретет и не удивит окружающих гениальным открытием…
Многие не любили Бецкого. За его идеалистичность. За его педантизм. И считали высокомерным, гордым. Потому что не понимали. Папуасы не могут понять европейца, потому что видят в нем не носителя мудрости и цивилизации, а всего лишь beafsteak[52]52
Бифштекс (англ.).
[Закрыть]…
Он обиделся на меня за Глафиру, а потом свалился в болезни… Мы и не общались. Я, конечно, поступила с ним подло: мне здоровый Бецкий был нужен, а к больному полностью охладела. Думала о другом и других… Мой хваленый немецкий прагматизм… Он мне помогал зачастую, но порой превращал из галантной дамы XVIII века в механическую куклу века Х1Х-го…
Нет, поехать к Бецкому надо, коли обещала. После карт поеду. Если буду в силах…
На обеде присутствовали восемь человек. В том числе Николай Архаров (генерал-губернатор Петербурга), Лев Нарышкин (обер-шталмейстер) и Федор Ростопчин (камергер). Разговор и на этот раз шел о Бецком. Вот отрывки беседы.
НАРЫШКИН (поливая фаршированную перепелку брусничным соусом). Тетушка моя пятиюродная – или шестиюродная? – я уже и не скажу точно, замужем была аккурат за князем Трубецким. И когда узнала, что в плену в Швеции у того появился сын Иван Иваныч, оченно бастардика невзлюбила. Говорит: руки на себя наложу, коли ты, Иван Юрьевич, своего детеныша сделаешь Трубецким законным. Может, и Петру Алексеичу, императору нашему великому, коему доводилась, соответственно, пятиюродной сестрицей, кое-что напела. Петр и повелел Трубецкому: записать бастардика Бецким и услать учиться за рубеж.
РОСТОПЧИН (с улыбкой, осушая бокал). Получается, что вы, Лев Александрович, в некоторой степени в родственниках Бецкого?
НАРЫШКИН. Если только в «некоторой»: он, выходит, пасынок моей шестиюродной тетки. Относительное родство! Петр Первый мне как-то ближе, будучи двоюродным дядюшкой!
АРХАРОВ (пробуя паштет). Хоть и бастардик, а Трубецкой. Трубецкие – древний род, Гедиминовичи, голубая кровь.
РОСТОПЧИН. Бельские и Хованские – Гедиминовичи тож. Да еще Куракины и Голицыны…
НАРЫШКИН. А зато Долгоруковы, Волконские и Барятинские – Рюриковичи.
ЕКАТЕРИНА. Кто себя только ни причисляет к Рюриковичам! Даже Тюфякины и Вяземские. Больше сотни родов! Но при этом никто не знает, был ли Рюрик на самом деле. Даже если был, нужно ли гордиться родственными узами с неким завоевателем-варягом? Гедимин – другое дело. Историческая фигура. Князь Литовский.
НАРЫШКИН. Кто такие литовские князья? Говорят, что и Гедимин – тоже Рюрикович.
ЕКАТЕРИНА. Неужели? Круг замкнулся.
АРХАРОВ. Не шутите, Лев Александрович. Вы шутник известный.
НАРЫШКИН. Вовсе не шучу. У Державина хоть спросите. Он мне говорил.
АРХАРОВ. Да Гаврила Романыч тоже соврет – недорого возьмет. Язычок без костей.
ЕКАТЕРИНА. Николай Петрович, не ругайте Державина, он в моих любимчиках ходит.
АРХАРОВ. Виноват, забираю свои слова: наш Гаврила Романыч – дельный человек.
(Все смеются.)
АРХАРОВ. Был у меня намедни – на предмет упокоения Бецкого. Все вопросы утрясли быстро. Отпевание с панихид-кой будет в Благовещенском соборе Невской лавры, а останки захороним там же, в «палатке», меж церквами Святаго Духа и Благовещенской.
ЕКАТЕРИНА. На стене хорошо бы начертать некую сентенцию, как нередко делают на могилах видных мудрецов.
АРХАРОВ. Мы с Державиным и это предусмотрели. По его предложению, из латыни: «Quod aevo promuerit, aetemo obinuit» – «Что в век свой заслужил, навечно приобрел».
РОСТОПЧИН. Браво, браво! Лучше и не скажешь.
ЕКАТЕРИНА. Я же говорю, что Гаврила Романыч – светлый ум.
НАРЫШКИН. Бецкий же и вовсе хитрец.
ЕКАТЕРИНА. Вы о чем, голубчик?
НАРЫШКИН. Исхитрился ослепнуть вовремя. А теперь и помирает как нельзя кстати.
ЕКАТЕРИНА. Отчего же кстати?
НАРЫШКИН. Не увидел и не увидит наших ужасов. Революций, бунтов, войн и прочего хаоса. В душах и головах.
ЕКАТЕРИНА. О, от вас ли это слышать, Лев Александрович? От весельчака, балагура?
НАРЫШКИН. Я – продукт нынешнего века. И могу не задумываясь выбросить 300 тысяч на бал. Чтоб доставить удовольствие свету и себе. А от века грядущего ничего доброго не жду.
АРХАРОВ. Вот навалимся все на якобинцев и задавим гадину в зародыше. Прочим неповадно будет.
НАРЫШКИН. Э-э, не выйдет, уважаемый Николай Петрович. Пол-Европы уже заражено революцией. Вы людей задавите, а идеи не сможете. Как рожденного не родишь обратно.
(Все смеются.)
АРХАРОВ. Что я слышу? Вы-то сами не якобинец часом, Лев Александрович?
НАРЫШКИН. Боже упаси! Просто вижу, что происходит, и притом рассуждаю здраво.
ЕКАТЕРИНА. Да какие ж идеи нам не одолеть?
НАРЫШКИН. Да всё те же, матушка: liberté, égalité, fraternité[53]53
Свобода, равенство, братство (фр.).
[Закрыть].
РОСТОПЧИН. Это лозунги, возбуждающие чернь, будоражащие умы. Но по сути – дичь. Нет и не может быть абсолютной свободы. Даже Робинзон на острове не имел абсолютной свободы, ибо был прикован к своему острову! Так же и не может быть абсолютного равенства – люди от рождения неравны: телосложением, психикой, талантами. А всеобщее братство – и вовсе химера: с кем брататься прикажете – с казнокрадами, кандальниками, клятвопреступниками?
НАРЫШКИН. Но ведь черни это не объяснишь. У нее одно на уме: одолеть богатых, их имущество взять и поделить.
АРХАРОВ. Пугачевщина? Мы ее победили. Если надо, снова победим.
НАРЫШКИН. Доводить до пугачевщины не след. Послабления сделать.
АРХАРОВ. Никаких послаблений: как покажешь черни слабину – всё, считай – пропал. Чернь – она такая, наглая и алчная.
НАРЫШКИН. Требуется баланс. Вот ее величество это знает, и за то мы ей очень благодарны.
ЕКАТЕРИНА. Старый лис! Будет говорить о политике, господа. Страху напустили о революции – аж мороз по
коже. Mais le diable n’est pas si noir qu’on le fait[54]54
Не так страшен черт, как его малюют (фр.).
[Закрыть]. Справимся и с ним.
РОСТОПЧИН. Я не сомневаюсь.
НАРЫШКИН. Справиться-то справимся, только сколько крови за то прольем!
ЕКАТЕРИНА. Фуй, какой вы, право! Замолчите немедля.
НАРЫШКИН. Нем, как рыба. Просто я с чего начал? Позавидовал Бецкому.
ЕКАТЕРИНА. Грех так говорить. Только Бог решает, чей когда черед.
3
Перед картами снова пригласила Протасову. И велела, как вчера, приказать Кузьме быть с коляской наготове у заднего крыльца.
– Все-таки решили поехать, – с сожалением произнесла Королева.
– Окончательно еще нет. Будет зависеть от самочувствия, настроения. Выиграю ли в пикет. Мы сегодня будем играть в пикет, потому что в бостон одолеть Пассека и Черткова невозможно.
– Дуракам везет.
– Больно ты сурова сегодня, мать моя.
– Голова тяжелая – видимо, к дождю.
Собрались сегодня той же компанией, но разбились на пары, так как в пикет принято играть по двое. Зубов оказался с Чертковым, а Екатерина с Пассеком. Он сдавал, ибо вытянул младшую карту.
– Ну-с, посмотрим, посмотрим, что ты мне подсунул, – вытянула руки со сдачей царица (при игре она очков не носила), а потом взяла прикуп. – Я готова начать хвалёж. У меня двадцать.
Пассек ответил:
– У меня двадцать два.
– Покажи.
– Да извольте: шесть равных карт за шесть и шестнадцать – двадцать два.
– Годится.
Далее шло ведение счета, капот и леза, окончательный расчет. У Екатерины оказалось 54 очка, у ее противника – 21. Разницу – 33 – самодержица записала у себя на столе.
После второй игры Пассек записал у себя сбоку: «120». Это был первый королик.
Во втором имели равный счет – рефет, а последующий королик шел с двойным счетом. И так далее.
В результате выиграла матушка-императрица.
Облегченно откинувшись на спинку дивана (а сражение происходило в Диванном зале), обмахнулась веером, выпила бокал зельтерской и произнесла, поблескивая глазами:
– Да-с, Петр Богданыч, нынче Фортуна вам не улыбнулась.
Тот ответил льстиво:
– О, сам факт, что сражаюсь с вашим величеством – счастье есть. Проиграть великой императрице – лучший выигрыш.
– Это правда.
Во второй паре победил Чертков. Зубов был слегка раздосадован, но пытался свести ситуацию к шутке:
– Ничего страшного: не везет в картах – повезет в любви!
Все многозначительно улыбнулись.
Самодержица поднялась:
– Господа, время позднее, я порядком устала. Всех благодарю за милейший вечер. До свиданья, до завтра.
Кавалеры раскланялись.
В галерее ее догнал Зубов. Заглянул в лицо:
– Ваше величество, я могу ли рассчитывать?..
Государыня вяло отмахнулась сложенным веером:
– Не сегодня, голубчик, только не сегодня.
– Как, опять? – удивился он. – Я горю желанием…
– Ничего, потерпишь. Мне не до тебя нынче.
– Что-нибудь случилось?
– После расскажу.
У Платона заострился нос вопросительно:
– Это не опала ли?
Самодержица подняла руку и уперлась веером в шею фаворита:
– Не тревожься, глупый. Я тебя никогда не брошу. Ты – моя последняя молодость.
Тот склонился для поцелуя, но она и это не разрешила:
– Полно, полно, а не то моту распалиться и забыть о делах. Прочь ступай. Завтра приходи.
– Я ловлю вас на слове, матушка-царица.
– Ишь какой! Ловит он меня! Я ужо поймаю тебя в Петропавловку! Ну, шучу, шучу, ты не бойся. Будь здоров, и спокойной ночи.
Оказавшись у себя в будуаре, тяжело повалилась в мягкое кресло.
Или же не ехать? Попрощалась вчера – и баста. Все довольны: я исполнила свой долг и ничем ему больше не обязана. Он прожил безбедную жизнь, мною был обласкан, делал, что хотел. Я лишь иногда подправляла его порывы. В частности, с Алымовой… Ну, слегка поссорились под конец – вот и помирились. Для чего ж еще? А отец ли, нет ли, помогал меня вытащить из Германии иль не помогал – Бог весть. Думать о сем боле не желаю. Лучше полежу, отдохну. От него, от Тоши, ото всех. Так намучилась в эту жару – силы все утрачены…
Заглянула Протасова – в том же темном плаще с капюшоном.
– Едем, ваше величество?
– Я не знаю, право. Что-то подустала.
Та помедлила, а потом спросила:
– Ну, так распорядиться, чтоб Кузьма распрягал?
– Погоди пока.
– Что ж годить, государыня-матушка? Или ехать, или не ехать. Скоро уж одиннадцать. Да и дождь, не ровен час, пойдет.
– Дождик – хорошо. От него легче дышится.
– Значит, не поедем?
– Да, пожалуй, останусь. Ноженьки гудут.
– Я велю Кузьме распрягать.
– Да, вели, пожалуй. Видно, не судьба. – Но когда Королева выходила, крикнула ей вслед: – Стой, не надо. Я решилась ехать!
– Господи, помилуй!
– Совесть загрызет после. Надобно поехать.
– Как желает ваше величество.
– Помоги надеть плащ. И набрось накидку. Ну, пошли, пошли. Ах, зачем я делаю это? Видно, все-таки во мне есть частица русской крови. Или окончательно обрусела тут. Поступаю не по уму, а по веленью сердца…
Вышли, как вчера, по крутой потаенной винтовой лестнице. На дворе, в саду было даже зябко. Ветерок от пруда раздувал легкие полы их плащей. Влажность воздуха явно возросла, как перед дождем.
Сели в коляску. Кучер не спеша тронул.
Я вчера волновалась меньше – ехала для выполнения человеческого и державного долга. А сегодня отчего-то сильно переживаю. Сердце бьется. Может, оттого что предчувствую: вероятно, нынче я в последний раз увижу Бецкого? Не потянет ли он меня за собой в могилу? Нет, Иван Иванович – человек не роковой, глаз его не тяжелый. Жалкий, исхудавший старик – я же видела. И бояться его не след. Раз на похороны решила не ехать, так хотя бы так побуду с ним накануне смертного часа. Главное, что никто не узнает. Или тайное всегда делается явным? Только кто расскажет? В Королеве уверена, как в себе самой, а возница нем.
Де Рибасы тоже будут молчать. Разве кто из слуг? Надо наказать Насте, чтобы сделала им внушение. Коль распустят язык – могут оказаться в местах не столь отдаленных. За распространение ложных слухов о ее величестве.
Вот ужо и Фонтанка. Кажется, доехали. А дождя-то нет. Зря Протасова беспокоилась. Не успеем вымокнуть.
Чуть ли не в дверях их встречала мадам Де Рибас с заплаканными глазами.
– Что, Bibi?
– Очень худо, матушка-императрица. Счет уже идет на минуты.
– Он в беспамятстве?
– В основном.
– Надо поспешать.
Сбросив плащ на руки Протасовой, устремилась вслед за Анастасией. В спальне генерала был такой же гнетущий полумрак. Пахло какими-то лекарствами и как будто бы уже тленом. Бецкий с желтым, безжизненным лицом, с резкими от свечки чертами, утопал в подушках и, пожалуй, спал. Государыня села рядом в кресло. Тихо проговорила:
– Спите, Иван Иваныч?
Умирающий не пошевелился.
– Господи, неужто? – обернулась она к сопровождавшим ее дамам. – Дайте зеркало!
Побежали, принесли – в золоченой оправе с ручкой, атрибут будуара. И приблизили к носу и губам старика. Зеркало слегка запотело.
– Дышит!
– Слава Богу, дышит!
Облегченно перекрестились.
Самодержица распорядилась негромко:
– Можете идти. Я хочу побыть с ним одна.
Поклонившись, обе удалились, затворив за собою двери.
Наступила полная, гробовая тишина. Приглядевшись, Екатерина увидела: в вырезе рубашки Бецкого бьется жилка. Значит, был еще действительно жив.
Помню, он явился разгневанный:
– Что вы делаете, мадам? Как ни относиться к Петру Федоровичу, он есть император российский.
– Коронации его еще не было.
– Не имеет значения. Перестанет быть императором, только если сам подпишет акт отречения.
– Вот и убедите его.
– Я? Но он меня может не послушать.
– Убедите, как сможете. Коль подпишет акт, беспрепятственно выедет в Голштинию. А иначе никто здесь не поручится за его безопасность.
Бецкий поразился:
– Вы способны на физическое устранение мужа?!
– Я-то нет, но кругом меня слишком уж горячие головы…
– Вы обязаны их остановить.
– Я? Кому-то что-то обязана? Ne vous oubliez pas, monsieur Betzky![55]55
Не забывайтесь, мсье Бецкий! (фр.)
[Закрыть]
– Извините, ваше величество. Но мой долг был предупредить. И мой долг – находиться рядом с императором.
– Значит, не поможете мне?
– Я попробую убедить его отречься. Это максимум, что в моих силах.
– Ина том спасибо.
Император отрекся… Я назначила Бецкого личным секретарем…
Генерал закашлялся и открыл глаза. Пожевав губами, еле слышно спросил:
– Кто здесь?
– Я, Екатерина.
– Катя… – улыбнувшись, обмяк. – А какое нынче число?
– Тридцать первое августа на исходе.
– Значит, завтра осень?
– Получается, так.
– Лето кончилось… Всё кончается… Вот и жизнь моя тоже… – Он вздохнул. – Но не жалуюсь, нет. Старики должны умирать, молодые должны заступать их место. А иначе мир остановится. Остановка – гибель. – Помолчал. – Ты меня похоронишь в Невской лавре?
– Ах, не будем об этом, Иван Иваныч!..
– Отчего ж не будем? Дело житейское. Я хотел бы знать.
– В Невской лавре, возле Благовещенской церкви.
– Это хорошо. Там уютное место. – Опустив веки, он слегка захрапел.
Накануне его 75-летия распорядилась отчеканить большую золотую медаль с профилем Бецкого. И еще с надписью: «За любовь к Отечеству». Кое-кто в Сенате вздумал возражать – мол, беспрецедентный случай, на монетах, медалях принято чеканить профили царей. Я уперлась. Те подумали: кто ее знает, может, он действительно ей отец? И, ворча, согласились. Что ж, медаль была вручена на торжественном заседании Сената…
Неожиданно генерал спросил:
– Отчего пахнет курагой?
– Курагой? – вздрогнула императрица. – Я не слышу никакой кураги.
Умирающий приподнялся на локтях, и его лицо исказила злость:
– Не обманывайте меня! Я же ясно чую: тут стоит ящик с курагой!
– Уверяю, Иван Иваныч…
– Унесите, унесите его! – Он затрясся.
– Хорошо, успокойтесь, лягте.
– Распорядитесь немедля!
Государыня крикнула:
– Bibi, Королева, где вы там?
Обе женщины с округлившимися от страха глазами появились в дверях.
– Вынесите отсюда ящик с курагой.
– С курагой?! – обомлели те.
Самодержица подмигнула, сделала кивок – дескать, это прихоть больного:
– Делайте как велено.
Дамы повиновались, нарочито затопали, заходя в спальню, и таким же образом вышли.
– Всё в порядке, Иван Иваныч.
Он упал на подушки:
– Точно унесли? Не обманываете меня?
– Унесли, правда, правда.
– Вот и хорошо, слава Богу: легче задышалось. – И опять забылся.
Помню, он пришел ко мне с планом путешествия Леши Бобринского после выпуска из Кадетского корпуса. Я хотела показать сыну мир – и Россию, и великие зарубежные страны. Я еще надеялась, что удастся женить его на одной из принцесс Европы… Бецкий написал целый план. Как всегда, скрупулезно и обстоятельно. Вся поездка была рассчитана на три года. Должен был посетить Москву, Нижний Новгород, Астрахань, Таганрог, Херсон, Киев… Что-то там еще. А затем из Варшавы – Вена, Венеция, Рим, Неаполь, Женева, Париж… Я вначале спросила Бецкого, не поедет ли с Лешей сам. Генерал ответил, что поехал бы с удовольствием, но не больше чем на три, на четыре месяца. А три года для него – слишком долгий срок. Очень много дел. Я не возражала, и совместно мы выбрали главным сопровождающим полковника Бушуева, а его помощником по научной части – академика Озерецковского. Бецкий же им перечислял деньги – что-то около 5 тысяч рублей в месяц. Сумма вполне приличная. И ее хватало в первый год их поездки по России. Но когда попали в Париж… О, Париж, этот роковой для нашей семьи Париж! Не в Париже ли генерал Бецкий стал моим отцом? Ха-ха! В общем, Париж их рассорил, я велела им вернуться домой, только Бобринский отказался – у него вспыхнула первая любовь… И к тому же просадил в картах тысяч 75… Он остался, а другие вернулись. Бецкий был вне себя – понимал, что не смог воспитать из Леши человека будущего – в духе идей Руссо и Дидро. Деньги ему отныне посылал Завадовский. Мальчик тяжело пережил смерть своего отца – графа Орлова. И хотя они в Питере мало общались, сохраняли добрые отношения. Одинокий Бобринский – без отца, без матери, у чужих людей, столько лет в кадетской казарме… Чем я могла скрасить его жизнь? Только разрешила остаться в Париже. Но потом денежные траты сделались столь большими, что пришлось возвращать его прямо силой… За плохое поведение запретила приезжать в Петербург. Поселила в Ревеле…
Бецкий закашлялся. Тяжело, болезненно. Вроде бы хотел вырвать из груди легкие и выплюнуть. На губах появилась красная слюна. Прибежала Bibi, прихватив служанку. Обе кое-как успокоили больного. Он обмяк и упал на спину. Громко прошептал:
– Принесите света. Требую принести лампы!
Настя деликатно сказала:
– Просто вы незрячи, Иван Иваныч, и не видите свеч… Генерал фыркнул:
– Господи, что за дураки! Жить среди дураков так скверно!
У него в груди что-то засвистело. Он проговорил:
– Ничего, ничего, скоро всё устроится. Каждый получит по делам его. – И забылся вновь.
Государыня встретилась глазами с Анастасией. Та пожала плечами: это бред нездорового человека. И спросила:
– Мне остаться?
– Нет, пока иди.
Там, тогда, в Сан-Суси, 55 лет назад, Бецкий выглядел жуиром, светским львом, соблазнителем дам. Говорил легко и свободно, сыпал анекдотами, шаркал ножкой. И неподражаемо танцевал, несмотря на легкую хромоту. А потом оказалось: он не вертопрах, а серьезный, вдумчивый, дельный господин и достаточно замкнутый в личной жизни. Не любил гостей, шумных сборищ, не устраивал на дому балы. Книги, книги, древние манускрипты были лучшим ему досугом. Получал до десятка писем в день. И на все, на каждое отвечал. Тратил на эпистолы несколько часов кряду. Так руководил московским воспитательным дамам – по переписке. Не курил, а к вину и вовсе был равнодушен. Может быть бокал бордо в вечер, не более. И при этом в свете слыл гордецом. Мол, к нему не подступишься: или промолчит, или же съязвит по-французски. А на самом деле был наивный добряк и слегка сентиментальный, как и все мы, люди нашего века. Приходил на помощь. Даже скорее к бедным, нежели к богатым, власть имущим. Мол, богатые сами выплывут, а вот бедным надо помогать… Славный, замечательный Бецкий. Пусть мы ссорились, жизнь бросала нас друг от друга в разные стороны, но всегда, но везде он был близким, очень близким, родным… До своей болезни, конечно. А потом превратился в пустое место. Мы бываем черствы с немощными старцами. И воспринимаем их как обузу. Забывая всё то, что они сделали для нас в прошлом. Никогда не следует ожидать благодарности от нового поколения. Новое поколение самоуверенно полагает, что явилось на свет само и гораздо лучше понимает ценности жизни, чем проклятые старики…
Государыня заметила, что из левой ноздри у больного побежала красная кровяная струйка, потекла по впалой щеке к подушке. Чертыхнувшись, самодержица вытащила платок, наклонилась, вытерла испачканную бледную щеку. Повторила несколько раз и подумала: это хорошо, что наружу, а не внутрь – в голову, в мозг. Самокровопускание. Ручеек утих.
Он любил сестру по отцу – Анастасию Трубецкую. Та по первому браку была Кантемир (замужем за князем Дмитрием Кантемиром), по второму – ландграфиня Гессен-Гомбургская (за наследным принцем, фельдмаршалом Людвигом Бруно). Но пережила обоих супругов. Два ее сына умерли младенцами, только дочка Екатерина Кантемир выросла в прелестную барышню, поражавшую всех не только красотой, но и эрудицией. Бецкий обожал единственную племянницу, показал ей Европу, и она подружилась с Bibi, Настей (кстати, думаю, что Иван Иванович дал ей имя Анастасия в честь своей сестры…) К сожалению, век Кати Кантемир оказался недолог: умерла от чахотки сорока лет от роду. Не оставив наследников… Словом, из родичей у Ивана Ивановича есть одна Bibi. Ну, и, может, я… Если приглядеться, мы с ней очень похожи. Тот же тип лица. Но ведь это бывает чистым совпадением?..
Бецкий открыл глаза и довольно внятно сказал:
– Я хочу на горшок.
Государыня крикнула:
– Эй, сюда. Где вы там? – А потом, когда прибежали, распорядилась.
Кликнули лакея, помогавшего барину в этих делах. Тот поднял генерала на руки, как пушинку, перенес за ширму, установленную сбоку от ложа. И Екатерина услышала, как звенит в большом металлическом горшке тоненькая струйка. Вскоре крепостной вынес господина в ночной рубашке из-за ширмы и хотел уложить обратно в постель. Вдруг больной вздрогнул и осел, голова свесилась назад, как у битой птицы. Из раскрытого рта вывалился язык.
– Господи! Господи! – вскрикнула царица, бросившись к нему. – Что ты, Иван Иваныч? Ну, очнись, очнись!
Бецкий не отвечал. Шея была еще теплая, но заметная прежде жилка возле ключицы уже не билась.
– Слышишь меня, очнись! – продолжала теребить его государыня. – Ну, очнись, пожалуйста!
Странный хрип прозвучал у старика глубоко в груди.
– Жив, курилка! – обрадовалась она.
Но лакей только покачал головой:
– Не, преставился, ваше императорское величество. То душа его выходила из тела.
Он устроил барина на кровати и укрыл ноги простыней. Ловко вправил язык. А Екатерина смежила Бецкому веки. Села и расплакалась. Тихо, не навзрыд. Только тут почувствовав со всей остротой свое одиночество. Кто опустит ей веки? И когда? Неужели скоро?
Прибежали Bibi, Осип Де Рибас и Протасова. Начали кудахтать, креститься. Самодержица попросила:
– Дайте мне платок. Свой испачкала его кровью.
А потом обнялась с Анастасией, и они заплакали вместе. Может, две сестры?..
Вице-адмиралу передали два медных пятака, он их положил на веки покойному. И пробормотал что-то по-испански – видно, из молитвы.
Долго стояли молча. Свечка догорала в подсвечнике. Тикали часы где-то через комнату.
Наконец, они пробили два раза.
– Неужели два? – спохватилась императрица. – Надо ехать.
– Два часа осени, – вдруг сказал по-русски Де Рибас.
А его жена продолжила элегически:
– Да, Иван Иваныч ушел, и как раз лето кончилось. Лето нашей жизни…
Молча обнялась с Екатериной и Королевой. Вице-адмирал поцеловал гостьям руки. Проводил до дверей. И спросил по-французски:
– Ждать ли ваше величество на похоронах?
Та ответила, сидя уже в коляске:
– Нет, не думаю. Впрочем, посмотрю. Но в любом случае говорить о моих ночных визитах в ваш дом никому не следует.
– Понимаю. И повинуюсь.
Вот и всё, отмучился. И его душе стало и легко, и безоблачно. Царствие тебе небесное, отче… Я подумала «отче»? Вот ведь – ненароком… Может, правда? Неужели? Это теперь не важно. Он и сам не знал точно. Главное, что гордился мною. Не всегда, конечно, иногда ругал… По-отечески… Ну, так кто дочек не ругает?.. В основном гордился. Неу каждого дочка – императрица! Или, скажем, не дочка, а падчерица. Тут уж ошибки быть не может. Спи спокойно, любезный Иван Иваныч. Я тебя никогда не забуду.
– Дождик начался, – в темноте сказала Протасова.
– Это хорошо – дождик. Для земли хорошо и для людей. И для Бецкого хорошо: уезжать в дождь – добрая примета.
Были у Таврического дворца в половине третьего. Обратила внимание, что у Зубова свет в окошке. Да неужто Платон изменяет ей с кем-нибудь из фрейлин? Взволновавшись, необычно быстро для своей грузности поспешила в его покои. Даже запыхалась на лестнице. Резко открыла дверь в его спальню.
Фаворит лежал на кровати под балдахином и при свете канделябра увлеченно читал какую-то книжку. Даже не заметил в первый момент появления государыни. Но потом вздрогнул и невольно сел.
– Боже мой! – воскликнул. – Это вы?! – протянул руку за халатом, чтобы встать.
– Ах, лежи, лежи, не тревожься. – Подошла, села с краешка. – Что за книга? Что нас так собой поглотило?
Он слегка скривился:
– Англичанка, Ann Radcliffe. «The mysteries of Udolpho»[56]56
Анна Радклиф «Удольфские тайны» (англ.).
[Закрыть]. Приключения, мистика. Ерунда, конечно, но немало занимательно.
– Ты известный англоман. Это правда, что твоя сестренка Оленька – полюбовница английского посланника в России Уитворда?
Зубов сморщил нос:
– Вам и это известно, ваше величество? Что ж, скрывать не стану – есть у них амуры… Но понять Ольгу можно: даме двадцать девять, а ее супруг Жеребцов ни на что уже не способен!
– Я не осуждаю, голубчик, просто интересуюсь.
– Книжка эта от посланника тоже. Ольга передала. Вся Европа читает эту Radcliffe. У нее еще несколько романов в таком же духе.
– Как закончишь – дай.
– Господи, берите теперь же, я потом дочту.
– Нет, такие жертвы мне не нужны. – Провела ладонью в перчатке по его щеке. – Но не стоит читать так поздно. Ты мне нужен свеженьким и бодреньким.
У Платона загорелись глаза:
– Вы… желаете?.. – Он подался вперед.
– Ш-ш, дурашка. Не теперь, сказала. Я не в настроении нынче и хочу прилечь в одиночестве.
– Вы куда-то ездили? Неужели к Бецкому?
Государыня погрустнела. Помолчав, сказала:
– Бецкий умер три часа назад…
Зубов перекрестился:
– Царствие небесное!..
–.. на моих глазах…
– Свят, свят, свят!
– Тяжело!.. Тоскливо!.. Близкие уходят… И друзей всё меньше!..
Он воскликнул пылко:
– Я ваш лучший друг! Преданный до гроба!
Самодержица встала:
– Гроба? Твоего или моего? – Улыбнулась грустно. – Ладно, не оправдывайся: шучу. Будь здоров, и спокойной ночи.
– Вам спокойной ночи, ваше величество!
Уходя, она проворчала:
– Да какая уж спокойная ночь! Бецкий пред глазами…
Медленно отправилась на свою половину.
Да, неплохо бы принять валерьянки и успокоиться. А потом, завтра, например, уступить настояниям Роджерсона и пойти на кровопускание. Не ровён час, удар хватит. Или, как говорят в народе, Кондратий. Я еще не готова уйти к праотцам. Слишком много незавершенных дел…







