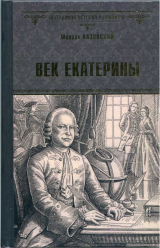
Текст книги "Век Екатерины"
Автор книги: Михаил Казовский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 25 страниц)
Академия наук находилась тогда в здании Кунсткамеры, что на стрелке Васильевского острова, и идти профессору от дома было около четверти часа – по Большой Морской, до Дворцового моста, ну а там – рядышком. Увидав знакомую башенку, даже улыбнулся. Вот сейчас он скажет все что думает, ничего не боясь, – да и раньше ничего не боялся, но теперь, уходя, громко хлопнет, дверью. Завернул в переулок направо и прошел ко входу. Поздоровался с привратником:
– Здравствуй, Алексей. Как живешь-можешь?
– Здравия желаю, ваше высокородие. Да какая жисть, коли честно: жалованье не плотют третий месяц.
– Отчего ж не платят?
– Говорят, денег нетути. Сами же в каретах золотых разъезжают.
– Да уж, дело известное… Я как раз пришел, чтобы вывести эту шушеру на чистую воду.
– Ох, Михайло Василич, многоуважаемый благодетель наш! Окажите милость, заступитесь и поспособствуйте – ведь не токмо простым слугам не плотют, а ишо профессорам и адъюнктам!
– Знаю, разберемся.
Начал подниматься по лестнице – левая рука по перилам. Ноги чуть покалывали, но несильно, нестрашно.
Перед залом заседаний встретил давнего своего приятеля – астронома Никиту Попова. Вместе они когда-то учились в Москве в Славяно-греко-латинской академии, а потом поехали завоевывать Петербург. Человек был скромный, приятный, звезд с неба не хватал (и в прямом, и в переносном смысле), но служил науке и преподавал в университете честно.
– Здравствуй, Мишенька.
– И тебе здравия, Никитушка. Что невесел будто сегодня?
– Что же веселиться, коль мои наблюдения по Венере не включили в Академический сборник?
– Кто ж посмел?
– Степка наш Румовский. Обзавидовался весь, придирается к моим выводам. Сам-то ни черта не увидел в тот момент наблюдений, а к другим цепляется.
– Вечная история.
Подошел поздороваться Алексей Протасов, знаменитый медик, справился о болезни Ломоносова и, узнав о картофельных компрессах, только покачал головой:
– Ох, гляди, как бы боком тебе не вышло. Мы не знаем в точности, в чем источник боли. Коль суставы – да, Ганнибал тогда верно присоветовал. Ну а коль сосуды? Им тепло противопоказано.
– Но ведь помогло же!
– Хорошо б – надолго, ну а если временно?
Михаил Васильевич помахал рукой своему ученику Сёме Красильникову, видному математику, занимавшему, кроме прочего, пост инспектора гимназии при Академии. Обнялись и расцеловались.
– Дорогой Семен Кириллович, у меня к тебе нижайшая просьба.
– Слушаю, весь внимание.
– Ты возьми, голубчик, под свою опеку моего родного племянника. Он мальчонка славный, головастый – даром что Головин – арифметику оченно уважает!
– Да какие ж вопросы, дорогой Михайло Василич, я не вижу трудностей.
– Нет, увы, трудности прибудут – прежде всего в лице инспектора Модераха. Он ведь ратует за набор ограниченный, малый, не берет детей из сословий, облагаемых подушным налогом.
– Вы-то здесь при чем?
– Я-то ни при чем, я теперь дворянин жалованный, а сестра моя с шурином – именно такие, черносошные крестьяне-поморы. Я зачислю племянника, а потом пойдут кляузы, наветы, будто злоупотребляю своим положением ректора университета и директора гимназии.
– Ясно, ясно. Но я думаю, Модерах не посмеет выступить против вас. Ваш авторитет – лучшая порука вашему племяннику.
– Дал бы Бог, дал бы Бог.
Коротко раскланялся и с другими профессорами – более тепло с Эпинусом и Брауном, величинами в физике, и прохладно – с Миллером и Штрубе де Пирмоном. Тем не менее толстый Миллер подошел сам и сказал по-немецки, тяжело дыша:
– Слышали про нашего маленького Шлёцера? Тауберт при посредстве Теплова и Козлова обратился к императрице, и теперь не вы и не я, а Шлёцер – самый обласканный историк империи! Ну, не наглость ли? Если б знал, что гаденыш этот так себя поведет, ни за что бы не выписал его из Германии и не делал своим помощником!
Ломоносов хмыкнул:
– Да, пригрели вы змею на груди, Федор Иванович!
– Ох, не говорите. – Вытерся платком. – В Петербурге становится слишком душно. Я подумываю об отъезде в Москву – там, пожалуй, воздух чище.
– Да, Москва… мой любимый университет… Вы мне подали неплохую мысль: уж не перебраться ли и мне в Первопрестольную? Климат поменять… Может, и душе, и моим костям сделается лучше?
Выдающийся историк оживился:
– Несомненно, лучше! Вместе бы поехали – было бы чудесно! Прежние разногласия наши с вами по боку – общего у нас больше, и могли бы, если не дружить, то приятельствовать как минимум.
– Дельная идея. Обещаю подумать.
Появилась неразлучная троица – Фишер, Теплов и Тауберт. Брали они не ученостью, не научными трудами, а сугубо деловой хваткой и умением втереться в доверие к начальству – Разумовскому, Дашковой и самой императрице. В результате, как сказали бы сегодня, «контролировали денежные потоки». Ну а кто распоряжается финансами, тот и кум королю.
Все прошли в зал собрания. За центральным столом расположились два советника канцелярии – Ломоносов и Тауберт. Прямо напротив них высилась трибуна для выступающих. А полукольцом по периметру зала, справа и слева, восседали профессора, члены Академии. Неизменно, обыденно, как всегда, заседание открыл Тауберт – произнес вступительное слово, огласил повестку дня, в том числе в конце – «обсуждение прошения его высокородия статского советника профессора Ломоносова об отставке». Многие из присутствовавших оживились – кто-то удивленно, кто-то возмущенно. Даже раздались реплики: «Как же так?», «Да неужто, Михайло Василич?» Тауберт позвонил в колокольчик, призывая слушателей к спокойствию:
– Господа, господа, просьба придерживаться порядка. К этому пункту мы приступим позже. А пока попросим уважаемого профессора Модераха доложить о переезде университета и гимназии в новое здание, на Тучкову набережную. Наконец-то сбудется наша с вами мечта, и ученики, и студенты будут заниматься в сносных условиях, обитать в теплом общежитии, меньше простужаться и не говорить, будто пьют водку, чтоб согреться!
По аудитории прокатился смешок.
Карл Фридрих Модерах был историк, но не самый видный, больше уважения приобретший на ниве просвещения – занимался гимназией дельно, неусыпно и порой даже слишком строго. Был противником расширения числа гимназистов, полагая вместе с Фишером и Тепловым, что «пусть их будет меньше, да качество лучше». Говорил он по-русски, но с довольно сильным акцентом.
Ломоносов слушал его не слишком внимательно. Переезд на Тучкову набережную – дело решенное, что тут рассуждать? Это он отбил помещение у Тауберта, где сначалатот предполагал разместить свою типографию. А теперь вот делает вид, будто новое здание университета и гимназии – в том числе и его заслуга. Ну, да Бог с ним вообще. Главное, чтоб Мишенька, будучи зачисленным, не ютился в прежних развалюхах, где того и гляди обрушится потолок. В будни – в общежитии, а по праздничным и воскресным дням станет приходить в гости к дяде. Это хорошо еще и по той причине, что разгул и выпивка в общежитиях – именно в выходные, надо дорогого племянника от этого оградить.
По второму вопросу – о переговорах с Эйлером, чтоб опять заманить его в Петербург (выдающийся швейцарский математик, астроном и механик около пятнадцати лет до этого жил в России и преподавал, а когда контракт закончился, возвратился в Берлин), доложил Теплов. Он сказал, что надежда есть и, возможно, в будущем году состоится подписание нового контракта. Ломоносов подумал: «Было бы чудесно, чтобы Мишка учился у Леонарда – Эйлер гений, а при гении сам становишься талантом. Только бы дожить и успеть обнять моего старинного друга – столько вместе прожито, столько пережито!»
Неожиданно остро закололо в левой голени – так, что Михаил Васильевич чуть не вскрикнул. Начал под столом торопливо гладить левую икру – боль не утихала, а как будто бы даже разливалась по всей ноге. «Господи, что же это? – судорожно думал профессор. – Не хватало еще оскандалиться на глазах у всех, потерять сознание или умереть. Вот нелегкая! Черт бы мою хворобу побрал!»
Тауберт, находившийся рядом, повернул голову и спросил вполголоса:
– Что с вами, ваше высокородие? Вам нехорошо?
– Да с чего вы взяли, Иван Андреевич? – недовольно засопел Ломоносов.
– Побледнели и вроде как поникли. Может, дать воды?
– Обойдусь. Спасибо.
Из-за боли он прослушал выступление двух других докладчиков. Наконец, перешли к дебатам по его вопросу. Левая нога полыхала, вроде бы ее поджаривали на углях. Чтобы не стонать, Михаил Васильевич стискивал зубы. Между тем Тауберт зачитал его заявление, и со всех сторон посыпались реплики: отчего, почему и как. Зная это, он заранее обдумал свой ответ: и по поводу бездарного руководства Академии, и по поводу не случившегося вице-президентства, и по поводу оскорбительного назначения Шлёцера профессором. Речь предстояла резкая, злая – ну и пусть, как сказал Ганнибал: на краю могилы смелым быть легко. Даже если потом доложат императрице (а доложат точно), не боится ни капли – хватит льстивых од и подобострастных улыбок, он созрел, чтобы говорить правду. Так бы оно и было, если бы не боль. Ломоносов понял, что не сможет устоять на трибуне и спокойным тоном изложить все, что накипело. А кряхтеть да охать – хуже некуда. Все поймут его немочь. И показывать слабость – не в его характере.
Опустив глаза, глухо произнес:
– Слишком я устал, господа… и достаточно нездоров в последнее время… должен отдохнуть…
Все наперебой бросились его отговаривать: можно отпуск взять, съездить за границу на воды, отойти от дел на три месяца, на полгода, но зачем же уходить вовсе?
Слово взял Котельников: долговязый, выйдя на трибуну, он почти что свесился с нее, как с балкона, и взволнованным голосом начал говорить, помогая себе жестикуляцией:
– Драгоценнейший Михайло Василич, вы один из главных наших столпов Академии, слава русской науки, вас избрали почетным членом академии в Стокгольме…
– …и в Болонье, – добавил Тауберт.
– И в Болонье! Что подумают о нас за границей, если вы уйдете? Понимаю: прихворнули немного, с кем не бывает. Можем вас освободить от части обязанностей – скажем, оставить в вашем ведении только гимназию и университет, Но не покидайте Академию вовсе!
Вслед за ним поднялся на трибуну физик Франц Эпи-нус – он преподавал точные науки самому наследнику, десятилетнему Павлу Петровичу, был со всеми холоден и от этого слыл в научных кругах гордецом и зазнайкой. Немец заговорил, по обыкновению, на латыни:
– Господа, мы переживаем переломный момент в истории государства Российского. Новая императрица, новые подходы к политике внутренней и внешней. Все мы знаем, что у нас в Академии далеко не всё благополучно. И теперь появляется шанс кое-что исправить. И внедрить в жизнь многое из того, что не раз оглашал прежде господин Ломоносов. И его мнение, и его авторитет очень нужны сегодня. Выражу всеобщее мнение, если попрошу господина Ломоносова разорвать свое заявление. Человек он неоднозначный, это правда, как это по-русски? – ершистый, да? Кое-кто его недолюбливает, тоже правда, спорит с ним, ругается… Но когда нет полемики, нет борьбы точек зрения, жизнь замирает, превращаясь в болото. Только в споре рождается истина. Вы должны остаться, Михайло Васильевич. Не спешите, обдумайте свой шаг.
Эпинуса поддержали и другие ораторы. Наконец, Тауберт закруглил дискуссию и подвел черту:
– Думаю, господа, всё уже понятно: наше Академическое собрание высказалось против отставки статского советника Ломоносова. Что вы скажете сами, ваше высокородие?
Боль слегка утихла, и профессор с трудом, но поднялся. Он обвел глазами коллег и проговорил мягко:
– Искренне благодарю за такие лестные слова обо мне… Не всегда подобное услышишь при жизни: чаще хвалят на похоронах… – Улыбнулся грустно. – Впрочем, шутки в сторону. Я, внимая вашим речам, изъявляю желание не давать ход моему прошению. Но не забираю его назад. Коли отдохну и приду в себя, то вернусь к работе. Коли не почувствую в себе новых сил, все-таки уйду. И тогда не взыщите, господа. Видит Бог, поступаю так не по собственной воле, а под гнетом давящих на меня обстоятельств… объективного и субъективного свойства. И поставим на этом точку. – Поклонившись, сел.
– Что же, лучше так, – отозвался из зала Никита Попов.
– Перемелется – мука будет, – поддержал его Алексей Протасов.
Расходились академики возбужденные, продолжая обмениваться репликами, Ломоносов даже услышал краем уха, как несносный Фишер уверял кого-то по-немецки вполголоса: «Это всё игра, господа, он не так прост, как кажется, – хочет нас держать на крючке своего заявления об отставке; я не верю в его искренность». Ладно, пусть считает как хочет.
Подошел толстяк Миллер и пожал ему руку:
– Не переживайте, мой друг, это всё суета сует и всяческая суета. Вот отправимся в Москву – там и отдохнем от столичных дрязг. Вы домой в собственной коляске?
– Нет, пешком.
– Вот чего придумали! Разделите со мной мою.
– Не обременю?
– Полно, Ломоносов, я же сам предложил.
– Коли так – спасибо. Я действительно что-то подустал…
Оказавшись дома, еле вполз к себе в спальню и колодой свалился на кровать. Даже не смог сам раздеться – помогала Елизавета Андреевна.
5
Константинов сделался своим человеком в доме у возможной невесты, приходил обедать каждое воскресенье и уже слыл среди знакомых женихом Елены Михайловны, несмотря на то что официальной помолвки еще не было. Девушка принимала его внимание с благосклонностью, радовалась приходу, занимала беседами и пением под аккомпанемент клавесина. Но в душе слегка сомневалась, выходить ли за Алексея, – впереди же целая жизнь, ей шестнадцать будет только через три месяца – 21 февраля, вдруг еще появится какой-нибудь высоченный розовощекий голубоглазый гренадер, сильный в бою и умелый в разговорах и танцах, жизнелюб и сорвиголова, без труда носящий ее на руках, как пушинку, пахнущий английским трубочным табаком, дорогим шампанским, конским потом, – словом, всем, чем должен пахнуть Настоящий Мужчина? А библиотекарь ее величества, безусловно, порядочный, скромный, умный, никогда не предаст, не изменит, не напьется в стельку, не поднимет на нее руку и не обзовет бранным словом, их семейная жизнь будет безмятежна; но в пятнадцать лет хочется безумств и романтики – чтоб ее украли из дома, чтобы были скачки в пургу, поцелуи на трескучем морозе, постоялый двор с жареным каплуном и глиняной кружкой бургундского, жар натопленного алькова, сброшенные в порыве страсти одежды, буря и натиск в постели… Словом, то, что обычно пишут во французских и английских любовных романах. С Константиновым же ничего такого близко не будет. Только праведное, тихое совместное проживание – честное, но скучное. Для Матрены – да, это идеал, только и бубнит, как она выйдет за Федора Лопаткина, справного хозяина, домоседа и скопидома. А она, Елена? Для чего родилась на свет? Что потом вспомнит в старости?
И тянула, тянула с помолвкой, а тем более с обручением (в те далекие времена брачный обряд распадался на несколько стадий: первая – сватовство, или первый пропой; далее – помолвка, рукобитье, сговор, или второй пропой; третья – обручение, обмен кольцами, или третий пропой; и в конце – уже венчание в церкви, свадьба; выбор был на стадии сватовства, но разрыв помолвки почитался большой обидой, оскорблением другой стороны, за него полагался денежный штраф).
Неопределенность в их отношениях так бы и тянулась, если бы не случай. В воскресенье, 21 ноября, Константинов неожиданно не пришел к Ломоносовым на обед. Снарядили Митьку с запиской от главы семейства: «Милостивый государь Алексей Алексеевич, мы встревожены вашим отсутствием, не случилось ли что, уж не захворали ли? Разъясните, сделайте одолжение, сударь, и развейте наши сумнения. Заверяем, что всегда рады вас принять у себя. Ломоносов». Митька побежал на Воскресенский проспект и вернулся через три четверти часа; запыхавшись, сказал:
– Так что нет их дома. А лакей поведал, будто барин получил приглашение отобедать у Григория Николаевича Теплова, с тем и убыл.
– У Теплова! – передернуло Михаила Васильевича. – Ну, тогда понятно: у него же младшая дочка на выданье, Лизонька. Вознамерился увести у нас женишка!
Изменившись в лице, Лена тем не менее попыталась защитить Алексея:
– Отчего сразу «увести»? И при чем тут Лизонька? Может, у мужчин деловая встреча?
Но отец заверил:
– Деловые встречи не проводят по воскресным дням за обеденным столом. Явно что-то частное. Ну а что у Теплова с Константиновым может быть такого? Только сватовство.
– Короша ли она сопой, эта Лизхен? – задала вопрос мадам Ломоносова. – Я ее помнить ошень плёх, когда быть em kleines Kind, крошка.
– Я ее тоже видел год назад, мельком, – неопределенно пожал плечами профессор. – Видимо, похожа на мать, шведку, – круглое плоское лицо и бесцветные глазки. Нет, не хороша. Наша девка лучше.
– Ах, папа, что ты говоришь!
– Говорю, что, может, проворонили женишка, слишком затянули с помолвкой-то.
– Нет, не верю. Алексей Алексеевич не поступит со мной так подло. Уверял в нежных чувствах и стихи даже сочинял. Человек он порядочный, чистый.
– Так ведь обязательств никаких не давал. По рукам не били, брачных договоров не заключали. И, уйдя к другой, ничего не нарушит, не покроет себя позором.
– А слова нежные, заверенья в амурах – разве не считаются? – Губы девушки от обиды дрогнули.
– И-и, слова к делу не пришьешь… Человека можно понять: он не так уж молод и мечтает поскорей свить семейное гнездышко; а надежды с мадемуазель Ломоносовой неопределенны… Вот и мог отчаяться. И переметнуться.
– Нет, не верю, не верю, – снова повторила она. – Обещал дождаться моего шешнадцатилетия.
– Значит, не дождался. Так бывает, дочурка, люди непостоянны порой в своих взглядах…
– Нет, не верю! – Леночка вскочила и, почти что рыдая, выбежала вон из гостиной.
– Да, бедняжка, – покачал головой отец. – Первые разочарования больно ранят… Я ведь тоже надеялся дожить до их свадьбы.
А Елизавета Андреевна нежно сжала его запястье:
– Не грустиль, мой Михель. Всё устроилься, alles wird sich geben, mein liber Mannchen![27]27
Всё устроится, мой любимый муженек! (нем.)
[Закрыть]
Между тем Матрена заглянула в Леночкину спальню и увидела, что двоюродная сестра, повалившись на кровать вниз лицом и зарывшись в подушки, безутешно рыдает. Подошла, погладила ее по плечу:
– Будет, будет Ленуся. Глупая какая. Ты ж его не любишь. Отчего убиваешься тогда?
Девушка притихла, подняла голову с растрепанными волосами, посмотрела на кузину и села:
– Я сама не знаю, Матреша… Вроде не люблю, правда. Но когда узнала, что, возможно, не быть нашей свадьбе, почему-то расстроилась. – Вытерла со щек слезы. – Наваждение просто. Нешто он мне дорог?
– Получается, дорог. Как в народе бают: что имеем – не храним, потерявши – плачем…
Дочка Ломоносова шмыгнула носом:
– Ну, еще не потерявши – это токмо предположения.
– Но скажи честно – будет жалко, если Константинов женится на другой?
Та задумалась. Прошептала испуганно:
– Вероятно, будет. Я к нему привыкла. Он, конечно, страшненький и немолодой, и не Геркулес, но каким-то сделался родным, близким… Мне с ним интересно.
– A-а, вот видишь.
– Нешто это любовь, Матреша?
– Я не ведаю, как там в ваших книжках пишут, токмо не сумлеваюся, что люблю Федечку Лопаткина. Как подумаю об нем – вспыхиваю вся.
– В том-то все и дело: я как думаю о Константинове, совершенно не вспыхиваю.
– Отчего же плакала?
– Бог весть. Вроде бы игрушку захотели отнять.
– Человек не игрушка-то. И грешно так играть людьми. Коль не полюбила – так скажи ему, дабы не надеялся зряшно. И сыскал невесту на стороне. Или соглашайся на обручение.
– Надо еще подумать.
– Слишком много думок у тебя в голове. Надо не думки думать, а прислушаться к собственному сердцу. Это же не думки твои только что расплакались – это сердце твое расплакалось. Сердцу-то видней.
– Нешто полюбила?
– А то.
– Да, а вдруг всамделишно полюбила – а его и след простыл, он уже с другой сговорился?
– Тьфу ты, Господи! Всё не слава Богу.
– Что же делать теперь, Матреш?
– Ждать вестей – сговорился, нет? Раньше времени слезыньки не лить. А там видно будет.
Лена уткнула нос в платочек:
– Вот несчастная я, несчастная! Вроде не люблю, вроде отпускать не хочу – и куда ни кинь, всюду клин! – И опять разрыдалась в голос.
Так она промучилась вечер, ночь, утро и почти целый понедельник. Даже не пошла завтракать и обедать, отменила уроки с Мишей, объяснив свое состояние нездоровьем. Не дождавшись от Константинова никакой весточки, вознамерилась написать ему сама. Будь что будет. Или пан, или пропал. Лучше горькая правда, чем томление в неопределенности. Вот что у нее получилось (сочинила по-русски):
«Милостивый государь Алексей Алексеевич! Наше семейство продолжает пребывать в изумлении от поступков Ваших. Не пришли к нам обедать в прошлое воскресенье, хоть и обещали давеча принести мне ноты господина Гайдна из его оперы “Ацис и Галатея ”, а от Ваших людей известно, что обед у нас предпочли обеду в семье Тепловых. И теперь молчите, не появляетесь и не пишете. Нашей дружбе конец? Коли так, то скажите прямо. Остаюсь в неизменном уважении к Вам Е.Л.»
Митька отнес письмо и, вернувшись, сказал, что опять-таки не застал Константинова дома, а письмо у привратника оставил с просьбой передать барину. Поздно вечером, около восьми, человек Константиновых притащил ответ, адресованный лично Леночке. Обмирая и нервничая, девушка дрожащими пальцами вскрыла конверт. И прочла по-русски:
«Драгоценная мадемуазель Елена, не сердитесь на меня, видит Бог: я невинен перед Вами. Не пришел к Вам обедать в самом деле по причине приглашения от Теплова – я отвез ему книгу Дэвида Юма “Очерки о человеческом познании” из библиотеки Е.И. В.[28]28
Ее Императорского Величества.
[Закрыть] Заодно был представлен его семейству – прежде всего, супруге, Матрене Герасимовне, дочери Анне и ея мужу Семену Александровичу Неплюеву, младшей дочери Елизавете и ея жениху Демидову. Сыну Алексею представлен быть не мог по причине его малолетства (он родился год назад). На обеде было довольно скучно, разговоры токмо о погоде, о нарядах дам на балах и интригах при дворе. Сам Теплое попытался выведать у меня, каковы мои отношения с Вашим семейством, состоится ли наша с Вами свадьба и насколько сурьезно болен М.В. Я геройски уходил от прямых ответов, изворачивался как мог (потому как не его это дело), и в конце концов он отстал от меня. Но, как говорится, не приходит беда одна: после заливной курицы я почувствовал в животе нечто ни с чем не сообразное – видимо, какие-то яства не пошли мне впрок, – и был вынужден, извинившись, экстренно покинуть тепловских пенатов. Еле сумел добраться до дома! Опущу малоприятные подробности моего толи отравления, толи несварения и скажу токмо, что промаялся я весь вечер и всю ночь, не сомкнув совершенно глаз, а с утра пришлось отправляться в присутствие. Так что встать за бюро и составить хотя бы крохотную записку Вам не имел решительно никаких желаний и сил. Не сердитесь, пожалуйста. Как могли Вы подумать, что дерзну добровольно пренебречь нашей дружбою? Токмо и мечтаю о 21 февраля, дабы снова попросить у Вашего папеньки Вашу руку и сердце. В чувствах моих не сумневайтесь, ведь они сильны, как и прежде.
Искренне и всецело Ваш – Алексей Константинов».
Прослезившись от счастья, Леночка встала на колени перед образом Девы Марии с Младенцем, поклонилась, перекрестилась и прошептала:
– Господи, спасибо. Слава Тебе, Господи. Я так счастлива теперь. Я не знаю, но кажется, я его люблю.
6
Ломоносов известил письменно генерал-поручика Бецкого (и через него – самодержицу), что работа над «Полтавской битвой» успешно завершена и панно можно перенести в храм Петра и Павла в Петропавловкой крепости. И тогда он примется за следующую по плану мозаику – «Взятие Азова». Ждал ответа несколько недель, чем испортил себе именины 8 ноября, не дождался и хотел было лично посетить дом Ивана Ивановича, чтобы получить разъяснение, как внезапно секретарь ее величества написал, что приедет к Ломоносову для серьезного разговора в понедельник, 22 ноября. Но напрасно ждали его визита – не приехал, а прислал записку, что поспешно вызван в Зимний дворец и заедет позже. В результате встреча состоялась только 26-го, в пятницу.
Бецкий оказался грустен, хмур и немного нервен. Не пошел смотреть на готовую «Полтаву», отмахнувшись с гримаской: «Ах, не сомневаюсь, что сие всё прекрасно!» – И сказал печально:
– Принято решение стены храма не украшать панно.
Михаил Васильевич даже пошатнулся:
– То есть почему?!
– Храм не для батальных мозаик.
– Дело не в баталиях, а в изображении славных дел Великого Петра, коего могила находится в храме.
Бецкий покачал головой:
– Бесполезно полемизировать. Я тут ничего не решаю. Так велела императрица.
– Но ведь можно ея переубедить…
Генерал-поручик насупился:
– Кто сие дерзнет? Вы? Попробуйте. Я не стану, ибо многие мои предложения натыкаются на стену непонимания..
– Убедить Орлова, а уж он – царицу…
– Я с Орловым в сложных отношениях, и тем более ниже его по званию теперь… Нет, и думать нечего.
Совершенно убитый, Ломоносов сгорбился, как столетний старик. Произнес трагически:
– Столько лет работы… псу под хвост…
– Отчего же псу? – возразил Иван Иванович более напористо (справившись с неприятной частью разговора, он повеселел). – Мы найдем мозаике более достойное место.
В Зимнем, например. Не отчаивайтесь, ваше высокородие, не останется втуне ваш великий труд.
– Благодарствую, коли так. Но уж за «Азов» я браться пока не стану. Да и творческого задора нет. Силы на исходе.
Секретарь государыни сжал его плечо:
– Полно, полно плакаться, дорогой Михайло Василич. Вы слегка нездоровы и рисуете обстоятельства черными тонами. Как бы ни было тяжело, мы своего добьемся. Я не оставляю идеи сделать вас вице-президентом.
– Я сию идею уж похоронил.
– Не спешите. Матушка-императрица изучила ваши пожелания по реформе Академии. Заодно мы подкинули ей несколько бумажек, раскрывающих лихоимство Тауберта. Больше ему не доверяют. Более того: не сегодня-завтра будет объявлено о закрытии канцелярии, как вы предлагали. Тауберт останется только со своей типографией. Шлёцер уедет – по решению Сената, вскорости он получит пашпорт. И на фоне этих двух побед мы поставим вас во главе Академии.
Ломоносов слабо улыбнулся:
– Был бы рад весьма. Лишь бы мое здоровье не подкачало.
– Я уверен, что вы справитесь со своими недугами. Молодой, сильный, устремленный к цели. Ваш порыв одолеет хвори.
– Уповаю на это. – Он привстал. – Не побрезгуйте откушать чаю, кофею или что существенней.
– Благодарен, но не могу: очень тороплюсь. – И пожал профессору на прощанье руку: – Поправляйтесь быстрее. Мы еще поборемся. Мы еще устроим все, как задумали.
После его отъезда автору мозаики «Полтавская битва» стало вовсе худо, начался жар, он метался в постели и бредил. У его изголовья целую ночь дежурили, подменяя друг друга, Леночка, Матрена и Елизавета Андреевна. Вызванный наутро доктор Протасов осмотрел больного, выслушал, обстукал и сказал невесело:
– Состояние средней тяжести. Лихорадка-то пройдет, это нервное, и здоровью пациента не угрожает. А вот вены ножные мне его не нравятся. Опасаюсь закупорки. Что рискует повлечь за собою гангрену. – Он перекрестился. – Господи, не допусти!
И внимавшие ему женщины, испугавшись, перекрестились тоже.
Врач составил рецепт микстур – жаропонижающей и успокоительной, объяснил, как их принимать, и добавил, прощаясь:
– Главное – покой, никаких волнений. Встряски нервные для него губительны.
А жена вздохнула:
– Ах, не говориль, он такой ist empfanglich fur Eindriicke[29]29
Впечатлительный (нем.).
[Закрыть].
До начала декабря Ломоносов не вставал, но лекарства сделали свое дело, лихорадка ушла, он очнулся, рассуждал здраво, начал пить куриный бульон и жевать отварную курятину. Забегавшему Мише говорил:
– Ничего, ничего, дружок, скоро я поправлюсь, и продолжим уроки наши. Надо, чтобы сдал экзамен в гимназию без сучка без задоринки. Модерах может придираться, но уж мы его сборем, будь уверен. – И еще просил: – Спой-ка мне опять из Акафиста Святому Архангелу Михаилу, заступнику моему и твоему.
И мальчонка затягивал на высокой ноте:
Бури искушений и бед избави нас, Ангелов первопрестольниче-е,
С любовию и радостию пресветлое торжество свое, совершаю щи-их,
Ты бо еси в бедах великий помощник и в час смерти от злых духов храните-ель
И заступник всех,
вопиющих Твоему и Нашему Владыце и Богу-у.
Аллилуиа!
– Избави нас, избави нас… – повторял Михаил Васильевич проникновенно. – Аллилуиа!..
В первых числах декабря начал подниматься с постели и ходить сначала по спальне, а затем и по дому. В эти дни посетил его капитан первого ранга Чичагов – по указу императрицы он готовил экспедицию из Архангельска на Камчатку и Аляску. О возможности Северного морского пути в навигацию (с мая по сентябрь) Ломоносов говорил уже давно, и его словам наконец-то вняли. Будучи еще здоровым, по весне 1764 года, сделал он доклад на специальном заседании Адмиралтейской коллегии, разъясняя пользу похода и предостерегая от трудностей. Именно тогда Чичагова и назначили, а отплыть было решено в мае 1765-го. Сам профессор брался изложить все свои наставления на бумаге – от необходимого списка инструментов и оборудования до воззрений на матросскую дисциплину. Вот за этой рукописью и явился командир будущего похода.
Был он худощав, но крепок, с узким, улыбчивым лицом и смеющимися голубыми глазами. Больше походил не на моряка, а на светского жуира, музыканта или философа. Говорил немного, вроде каждое слово взвешивал. Ломоносов, напротив, поучал охотно и рьяно. Он еще подростком с отцом ходил по Белому морю, знал и обстановку, и все порядки на корабле, северную фауну.
– Как дойдете до Шпицбергена, – развивал ученый свои мысли, – отловите на каждое судно по ворону или же другой какой птице, токмо не водоплавающей. Будучи во льдах, выпускайте пернатых на волю: ежели земля близко – к ней и полетят, вы за ними; ежели земля далеко – покружатся и возвратятся назад. Или если чайку заметите с рыбой в клюве – знайте: полетит она тоже к берегу, дабы птенчиков своих покормить.
А насчет дисциплины был неумолим:
– Не давайте послаблений команде никаких. Как почуют нерешительность капитана – всё, пиши пропало. Гибель предприятию. Недовольство, ропот пресекать в корне. А зачинщиков сразу ковать в железо. Коли не раскаются – выдворять с корабля в первом же увиденном местном поселении. А особо упорных предавать смерти без пощады, по Морскому уставу.
Чичагов сомневался:
– Но со строгостью тоже палку перегибать опасно.
– Так само собою. Тех, кто спор в работе и со рвением исполняет приказы – поощрять всенепременно. Порции прибавлять. И хвалить пред строем. Люди это ценят.







