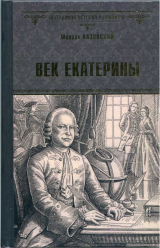
Текст книги "Век Екатерины"
Автор книги: Михаил Казовский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 25 страниц)
Отобедали вместе. Пропустив по рюмочке за успех похода, перешли на «ты».
– На великое дело ты идешь, Василий Яковлевич, – уверял Ломоносов, – вся Россия на тебя смотрит.
– Не, не смотрит, – возражал капитан, – бо моя экспедиция держится в секрете от иностранцев. Мы должны их поставить перед фактом: северные моря с островами вплоть до Аляски – наши.
– Это правильно. Но когда раскроетесь – славу обретете и войдете в историю как первопроходцы Северного морского пути.
– Первооткрыватель – ты, Михайло Василич, мы лишь исполнители.
– Я – ваш вдохновитель и научный глава, вы же – воплотители в жизнь, что намного более значимо.
Эта встреча воодушевила профессора, он ободрился и порозовел, без усилий ходил по комнатам, восхищаясь затеянным делом и самим Чичаговым. Восклицал с улыбкой:
– Всё теперь получится! Вот увидите. Экспедиция – только лишь начало. Я поправлюсь и возглавлю нашу Академию. Мы там заведем все свои порядки!
Снова начались уроки с племянником, дядя написал письмо в Матигоры его матери, собственной сестре – Марии Головиной, и хвалил мальчика изрядно. А закончил так: «Он смышлен и хватает науки на лету, так что и в гимназии будет лучшим учеником, я уверен. Главное, что тягу к знаниям имеет, подлинный интерес. Не лентяй, не лодырь и не проказник, а сие означает, что добьется в жизни, несомненно, многого».
Неожиданно Ломоносову доложили, что в прихожей дожидается некто Шлёцер Август Людвиг с просьбой его принять.
– Шлёцер? – ошеломленно спросил ученый. – Что сие такое? Вот еще принесла нелегкая! Без предупреждения, без уведомления, точно снег на голову. Ладно, объяви, что сейчас приму, токмо переоденусь.
Гостя проводили к Михаилу Васильевичу в кабинет. Тот вошел, поклонился коротко и заговорил по-немецки:
– Тысяча извинений, герр профессор, за внезапный визит. До последнего не был я уверен, что такая встреча нужна, и сымпровизировал, по наитию. Понял, что нельзя просто так уехать, не попрощавшись.
Ломоносов, привстав, указал ладонью на кресло, призывая сесть. Холодно кивнул:
– Слушаю вас внимательно, герр адъюнкт.
– С вашего позволения, ординарный профессор, ибо мой указ был намедни подписан. Но такие формальности не имеют никакого значения: для меня важны не чины, а дело. Послезавтра уезжаю из Петербурга. Разрешенный отпуск – на два месяца, но боюсь, обстоятельства не позволят мне вернуться назад – может, никогда, может быть, в ближайшее время, я сейчас не знаю. Значит, неизвестно, как и когда мы еще увидимся с вами и увидимся ли вообще. Посему мне бы не хотелось оставлять недомолвок в наших отношениях.
Собеседник молчал, глядя отчужденно. Август Людвиг продолжил:
– Я хочу лишний раз уверить ваше высокородие в совершеннейшем моем уважении к вам. Вы светило русской и европейской науки, это несомненно, и никто не оспаривает ваших заслуг. Прежде всего – в точных и естественных науках, плюс в языкознании и истории. В первых я не специалист и сужу с чужих слов, коим доверяю, а в последних двух разбираюсь достаточно, чтобы констатировать. Да, имеем в наших с вами подходах и взглядах ряд существенных разногласий. Вы критиковали мои работы, я усматривал неточности в ваших. Это закономерная вещь в науке: именно в полемике рождается истина. Извините, если был я порой не очень почтителен и в пылу дискуссии забывал, что вы мэтр, ну а я еще на подступах к вашим вершинам. Впрочем, в науке не должно быть авторитетов, каждый имеет право на ошибку, ученик и мэтр в равной степени, так же, как и каждый может сделать открытие, будучи уже мэтром или еще учеником. Истина – всё, а подходы к ней – только тактика.
Ломоносов по-прежнему сохранял молчание, ничего не выражая ни лицом, ни словом. Немец завершил монолог:
– В общем, уезжая, я прошу не держать на меня обид. Находясь в России более трех лет, я успел привязаться к этому краю и открыть для себя его историю. Целый пласт истории, не известный на Западе. Наша цель – поскорее заполнить этот вакуум. Петр Великий проложил для России дорогу на Запад. Мы должны проложить дорогу для Запада в Россию. Слить культуры обоих воедино. Ибо мы – представители одной цивилизации. И объединение наше лишь обогатит всех.
Михаил Васильевич поднял глаза и уставился на Шлёцера, не мигая. Вдруг спросил:
– Вас ко мне прислал Тауберт?
– Почему Тауберт? – потрясенно пробормотал визитер. – Он здесь ни при чем.
– Тауберт всегда при чем, если речь идет об обогащении. Только вот не всех, как вы рассуждали, а его самого.
– Уверяю, Тауберт не знает о моем посещении. И никто не знает. Я же объяснил: всё произошло по наитию.
– Ну, допустим. А ценнейшие рукописи вы вывозите из России тоже по наитию?
– Да Господь с вами, Михайло Васильевич! Ни одну ценнейшую рукопись я не вывожу.
– Хорошо, не оригиналы, а копии. От Баркова знаю доподлинно, он их переписывал специально для вас.
– Что же в том дурного? Подлинники остаются в России, и Россия вольна распоряжаться ими, как пожелает: изучать, сохранять, печатать. А копировать никому не запрещено, даже иностранцам. Вы, к примеру, захотите приехать в Гёттинген или Потсдам и работать в библиотеках, делать выписки, разные пометки – разве кто-нибудь воспрепятствует вам их вывезти? Совершенно нет. Отчего же в России надо поступать по-иному?
– Оттого что вы хотите себе присвоить славу первого публикатора.
– И опять не вижу в том ничего дурного. Повторяю: истина – всё, а подходы к ней – только тактика. Главное – вытащить неизвестные манускрипты на свет Божий и обнародовать, сделать достоянием всех, прежде всего – историков. А уж кто это сделает: русский или немец – так ли важно? Вот профессор Миллер выступил публикатором стольких хроник – вы же не чинили ему препятствий.
Ломоносов ответил грубовато:
– Не равняйте себя с Миллером, молодой человек! Он живет в России сорок лет, принял наше подданство и печатает все свои труды первым делом в Петербурге. Мы с ним тоже спорим, часто обижаемся друг на друга, но профессор Миллер наш, русский, несмотря на немецкие корни. И давно уже не Герард Фридрих, а Федор Иванович. Вы же, извините, человек тут заезжий и случайный: прилетели, поклевали наши зернышки и теперь улетаете с гусеницей в клюве. Соответственно к вам и отношение. Как могу я сурьезно относиться к вашей «Русской грамматике», коли вы по-русски говорите с трудом, половину этимологий перевираете и имеете наглость критиковать мою «Грамматику»? Смех и грех какой-то!
Шлёцер изменился в лице и встал:
– Вижу, примирение наше не выходит. Я пришел, чтобы протянуть руку дружбы, предложил забыть прежние обиды и хотел уехать из Петербурга с легким сердцем. Вместо этого слышу оскорбления и наветы. Очень сожалею. Вы не толе-рантны, герр профессор. Не умеете вести себя, как положено в европейских странах.
Михаил Васильевич тоже встал и, взглянув на него по-бычьи, исподлобья, с гневом бросил по-русски:
– Ты учить меня вздумал политесам, мальчишка? Сукин сын! Прочь ступай подобру-поздорову, а не то прикажу с лестницы спустить!
Людвиг Август даже передернулся, словно от лимона на языке. Прохрипел:
– Sie sind rechter Ваг! Em russisches Schwein![30]30
Вы настоящий медведь! Русская свинья! (нем.)
[Закрыть] – И поспешно вышел вон.
– Сам говнюк, – процедил сквозь зубы профессор, тяжело опускаясь в кресло. – Вот ведь разозлил… вывел из себя… Он мириться, видите ли, пришел! Столько здесь напакостил – и теперь мириться! – И, не видя Шлёцера, прокричал в пространство: – Чтобы духу твоего не было в России! Засранец!
7
Рождество встретили отменно, по церковным и светским правилам, в тесном кругу семьи, а на встречу Нового, 1765 года пригласили гостей, в том числе Константинова и Баркова. Правда, Елизавета Андреевна сильно возражала против последнего, опасаясь, что переписчик, как обычно, напьется и испортит Ломоносовым праздник, но супруг уверял, что сумеет держать Ивана в узде и не даст принять лишнего, – а вот если того не позвать, отпустить в кабак и бордель, предоставить собственной персоне, непременно переберет и, чего доброго, впадет в белую горячку. Женщина скрепя сердце согласилась.
Но на деле вышло наоборот: шалопай Барков вел себя прилично, только раз ущипнул проходившую мимо Матрену за филейную часть и за это получил полотенцем по шее; а зато сам глава семейства злоупотребил водочкой, начал петь немецкие и русские кабацкие песни с матерными словами и, пустившись в пляс, едва не упал. Константинов и Барков вместе с Леночкой, Матреной и Елизаветой Андреевной отвели его в спальню, уложили в постель и едва утихомирили. Вскоре он уснул.
Провожая Константинова до крыльца под утро, Леночка не утерпела и тайком в передней поцеловала его в щеку. Алексей расцвел и с жаром облобызал ее пальчики. А подняв голову, радостно спросил:
– Значит, вы согласны? -
– Да, – ответила она с пышущими румянцем щеками. – Смело просите у папеньки моей руки; по весне поженимся.
И они опять страстно расцеловались.
К сожалению, после новогоднего инцидента самочувствие Ломоносова сильно пошатнулось, он провел в кровати чуть не весь январь, начал подниматься только в двадцатых числах и оправился более-менее ближе к февралю.
Университет и гимназия после зимних каникул заработали в понедельник, 7 февраля, и тогда же Михаил Васильевич посетил их в новом здании на Тучковой набережной[31]31
Ныне это Набережная Макарова, 2 (дом не сохранился, и теперь на этом месте новый особняк, где находится Институт геологии и геохронологии докембрия (ИГГД) и другие учреждения).
[Закрыть]. Помещение действительно было превосходным —= чистые, светлые, просторные классы, комнаты для лабораторий и хранения учебных пособий, теплый туалет и приличное общежитие. Печи топились исправно, и студенты с учениками, несмотря на мороз на улице, занимались без шуб и шапок. Заглянул Ломоносов и на кухню, посмотрел, как варится для ребят еда, кое-что отведал и остался доволен. Похвалил инспекторов, в том числе Модераха и Котельникова, а затем оставил у себя в кабинете первого и сказал доброжелательно:
– Молодец, Карл Фридрихович, поработал ты со всеми отменно, но тебя хвалю прежде остальных, ибо знаю, как проворно командовал переездом. Я болел, и сие мероприятие не прошло бы столь гладко.
Немец поклонился признательно.
– Токмо есть у меня до тебя одно дельце… понимаешь, личного свойства… Слышал ужо, наверное?
Тот кивнул:
– Как не слышать, коли все без конца толкуют о приезде вашего племянника.
– Догадался верно. Возражать не станешь? Несмотря на его плебейство?
Модерах с улыбкой развел руками:
– Я давно, будучи в России, выучил закон – из любых правил много исключений. Так мы и поступим. Главное, что это ваш племянник. Ваш! И не потому что вы директор гимназии, ректор университета. А за вклад в науку, в множество наук, коих вы коснулись. Вы светило, а светилам надо идти навстречу.
– Ох, наговорил сорок бочек арестантов, ей-Богу! Ладно, не сержусь. Рад, что ты меня понимаешь. Больно уж мальчонка хороший – утверждаю не как родственник, а доподлинно. Сам увидишь. Приведу на днях. Он слегка простужен – я уж побоялся везти его сегодня в мороз. Но когда окрепнет – сразу же представлю.
– С нетерпением ждем-с!
Ломоносов подумал: «Лесть твоя, конечно, противна – вижу, как заискиваешь, улыбаешься приторно. Ну да Бог с тобою, лишь бы принял Мишеньку и не стал шпынять за его низкородство. При моем присутствии не посмеешь, ну а как помру? Значит, помирать рано. Надо постараться протянуть лет хотя бы пять – Мишу выучить и увидеть внуков. Больше ничего в жизни не желаю».
Их визит с племянником состоялся только 28 февраля: то парнишка болел, то потом снова сам профессор. Но в последний день зимы, в понедельник, солнце жарило по-весеннему, на Неве ждали ледохода, а сугробы замерли в ожидании таяния; так что ехать было в самый раз. Заложили коляску с закрытым верхом, сели, укутались медвежьими шкурами, двинулись. Миша-маленький щурился от яркого света и глазел с любопытством на плывущие мимо здания, совершенно иные, чем зимой, – вроде бы проснулись от спячки и открыли очи-окна, чувствуя ноздрями-парадными скорое тепло. По Дворцовому мосту пересекли Неву: Академия и Кунсткамера слева, университет с гимназией справа. Ломоносов попросил возницу остановить на мосту, слез с подножки, подошел к парапету. Голову откинул, подставляя солнцу лицо. И со вкусом, глубоко вдохнул чистый, еще морозный воздух. Прошептал:
– Хорошо!
Приоткрыл глаза:
– Нешто последняя весна моя? Нет, не может быть…
– Что ты, дядюшка? – крикнул в спину ему племянник. – Отчего не едем?
– Едем, едем. Я ужо возвращаюсь.
Встретили их обоих в гимназии с неизменной подобострастной суетой, как встречают начальство на Руси и вообще в Азии: улыбаясь, кланяясь и произнося благодарности за оказанную честь. Оба разделись в кабинете директора, и профессор сам причесал Мишины вихры, вставшие дыбом после шапки. Похвалил:
– Вот теперь красиво. И не стыдно показаться на людях.
Сам он был, как положено, в белом парике.
Вышли из кабинета и пошли по длинному коридору-галерее: справа – окна, выходящие на Неву, слева – двери в классы. За дверями происходили уроки и лекции. Чуть поскрипывал паркет под ногами. Стукала палка Ломоносова. От столовой тянуло запахом свежесваренных щей.
– Нравится тебе? – наклонил голову Михаил Васильевич. – Тут учиться станешь.
– Да уж как не нравиться! – отозвался мальчик. – И во храме в Матигорах так не благоговеешь, как здеся. Настоящий царский дворец. Ты не сумневайся, дядюшка, я не опозорю тебя. И учиться стану изо всех сил, чтоб никто не посмел сказать, что племянник Ломоносова – дурень.
Усмехнувшись, дядя покивал:
– Я в тебе и не сумневаюсь, родимый.
В конференц-зале собрались инспекторы и учителя, дабы выслушать директора, появлявшегося нечасто, и к тому же познакомиться с новым учеником – Михаилом Головиным. Ломоносов усадил мальчика на стул в самом конце стола, сам же вышел к трибуне и обвел присутствующих глазами:
– Господа! Рад вас видеть всех в добром здравии. По отчетам и по бумагам знаю, что дела в гимназии и университете обстоят неплохо, вижу это воочию и весьма благодарен вам за такую работу. Что скрывать, недочеты есть, но не генерального свойства, их легко исправить. Следующим этапом будет расширение состава учеников и студентов. Велика Россия, а специалистов, грамотных людей – кот наплакал. По сравнению с Европой – просто смех. Да и то: их университетам – лет по триста-пятьсот! Нашему же – пятьдесят, а Московскому и вовсе нет еще десяти. Надо догонять, становиться вровень… Но, конечно, увеличивая число учащихся, не должны мы снижать качества учебы. Это тоже важная задача. И вполне решаемая. Наши ученики подрастают и становятся адъюнктами и профессорами. Нам за них не стыдно.
Говорил он не менее получаса, говорил бы и дольше, если б не почувствовал боль в ногах, и пришлось присесть. После небольшого обмена мнениями обратили взоры на мальчика. Он вскочил со стула взволнованный, поклонился и сказал, как ему велели:
– Есмь Михайло Евсеев сын Головин, об осьми лет, знаю письмо и счет и могу также рисовать и петь.
Все заулыбались приязненно, видя милого и смышленого паренька, смуглого, чернявого, чисто убранного, вежливого, с правильной речью. Тот добавил:
– А ишо умею спрягать латинские глаголы.
Модерах предложил:
– Вот и проспрягайте глагол esse[32]32
Быть (лат.).
[Закрыть].
Миша набрал в грудь побольше воздуха и скороговоркой выпалил:
– Ego sum, tu es, nos summus, vos estis. А ишо est и sunt.
Конференц-зал дружно зааплодировал, а спросивший Карл Фридрихович похвалил:
– Браво, браво, молодой человек. Сразу видна рука выдающегося учителя.
Ломоносов не возражал, чувствуя гордость за племянника. Кто-то высказал пожелание, чтобы Головин прочитал какие-нибудь стихи наизусть. Паренек ответил:
– Я люблю произведения дядюшки.
Все заулыбались опять, но экзаменуемый не смутился, а довольно твердо продекламировал:
Неправо о вещах те думают, Шувалов,
Которые Стекло чтут ниже минералов,
Приманчивым лучом блистающих в глаза:
Не меньше польза в нем, не меньше в нем краса.
Нередко я для той с Парнасских гор спускаюсь;
И ныне от нея наверх их возвращаюсь,
Пою перед тобой в восторге похвалу
Не камням дорогим, не злату, но Стеклу!
Тут уж конференц-зал разразился такой овацией, о которой могли мечтать именитые театральные артисты. Ломоносов сидел довольный, благодушный и смотрел на маленького родственника с одобрением. Реплику бросил Семен Котельников:
– Лично у меня нет сумнений: мсье Головин может быть зачислен в нашу гимназию.
И вокруг загудели: «Да, да, достоин!»
Михаил Васильевич всех поблагодарил за поддержку и закрыл собрание. Возле его стола собрались преподаватели, поздравляли мальчика с выдержанным экзаменом, в том числе и Константинов. Он сказал будущему тестю:
– У меня была лекция, и не смог поздороваться с вашим высокородием раньше. От души рад за Мишу.
– Миша молодец. Не ударил в грязь лицом. Ну, пойдемте все вместе – поглядим на комнатку, где ему предстоит обосноваться.
Не спеша поднялись на третий этаж. Ломоносов переставлял ноги тяжело, останавливаясь время от времени, чтоб передохнуть. Отдувался с шумом. Все почтительно шли за ним, отставая из деликатности на полшага.
Комната оказалась скромная, но с высоким потолком и большим окном, выходящим во двор. Три кровати, три тумбочки, стол и стул, на стене – крюки для одежды. Комендант общежития – хромоногий дядька с красноватым лицом поклонника Бахуса – говорил, слегка заикаясь, но внятно:
– Трое в комнате, как положено. Свечи выдаем раз в неделю да велим экономить, допоздна не жечь, а учиться в светлое время суток. Раз в неделю в баню. Чистоту инспектируем легулярно, вшей не допускаем. – Помолчал и добавил, обращаясь уже непосредственно к Мише: – Брать посуду, ложки-вилки из столовой запрещено. Ежели увидим – накажем. Вечером можно чаю попить – самовар ставим в ко-лидоре, сахар свой у кажного. Со своей кружкой приходить, ясно?
– Ясно, – прошептал Головин; он весьма оробел при визите в общежитие, осознав с определенностью, что не далее, как завтра дом покинет дядюшки и тетушки, заживет взрослой жизнью – с новыми, не домашними порядками, с новыми друзьями (или недругами?), с мальчиками-соседями по комнате (будут ли добры или злы, может быть, драчливы?), с коллективной едой в столовой, строгими учителями, строгой дисциплиной… Да, по выходным – посещать Ломоносова, ну а в будни, будни? Их-то много больше! Сможет ли привыкнуть, не сломаться, выдюжить? От подобных мыслей Миша пригорюнился, чуть ли не расплакался, неожиданно пожалев о родных Матигорах, отчем дворе, маменьке… Как они теперь далеко! Не помогут, не защитят, ничего не узнают о его печалях… И зачем он вообще приехал в этот Петербург?
Михаил Васильевич обратил внимание на его подавленность и спросил с улыбкой:
– Ну, чего нос повесил, гимназист? Не понравилось, что ли?
– Оченно понравилось, – без особой радости произнес парнишка, – лучше и придумать нельзя. Токмо отчего-то душа теснится, ибо никогда мы не ведаем, что нам предстоит.
Дядя взъерошил волосы на его макушке:
– Ничего, ничего, голубчик. Все устроится хорошо, уж не сумневайся. Опасаться глупо. Я-то для чего? Если что не так, сразу сообщи – мне ли, Константинову ли, мы вмешаемся и поможем.
Головин с чувством поклонился:
– Непременно, дядюшка. Благодарен тебе за всё. Ты ко мне несравненно добр.
– Ну а как иначе? Ведь родная кровь.
Возвратясь домой, оба долго и шумно делились с дамами впечатлениями о гимназии, общежитии и экзамене. Дамы поздравляли мальчика и желали ему успешной учебы, твердости характера, послушания и прилежности. Миша обещал. Вечер прошел в сборах к завтрашнему дню.
Ломоносов же, отправившись спать, долго не мог уснуть, все ворочаясь с боку на бок, вспоминал прошлые события – и недавние, и далекие, как он сам когда-то с обозом рыбы убежал из Матигор, чтоб учиться в Москве, как питался только хлебом и квасом в Славяно-греко-латинской академии (денег ни на что не хватало), а потом отправился в Петербург… Правильно ли сделал – и тогда, и после? Удалась ли жизнь?
Да, побед было много. Достижений немало. Только поражений, разочарований еще больше. Если б не болезнь, столько бы успел еще совершить! Доживи он хотя бы до семидесяти… Отчего Господь так наказывает его?
Дома – тоже. Он любимый и любящий супруг и отец замечательной дочери. Но другие дети умерли, в том числе единственный сын – Ваня, Ванечка. Он родился еще в Германии, в декабре 1741 года, и прожил на свете только месяц. Окрещен в лютеранской церкви Иоганном. В православной покрестить не успели. Погребли там же, в Марбурге…
Столько испытаний! Столько горя и обид на его жизненном пути! В чем их смысл? Испытания даются, дабы искупить прегрешения – прошлые и будущие. Сам Христос принял мученическую смерть на кресте за грехи всех людей. Значит, испытания и наши не напрасны? Он, Михаил Васильевич, пострадает за всех своих потомков. За детей Елены, внуков, правнуков. Ведь недаром ему дано имя Михаил! Михаил архистратиг побеждает зло.
Ночью ему привиделся старец Никодим из его родных Матигор. Правда, не совсем он – в красных сияющих одеждах, с огненным мечом в крепкой длани. То есть на лицо – Никодим, а одежды самого архангела Михаила.
Никодим-Михаил сказал:
– Не тревожься, Миша, всё с тобой будет хорошо. Не ропщи и не сетуй на судьбу. Главное – ты исполнил Завет Предвечного. И тебе уготовано место на Небесах.
Чувствуя, как колотится в груди сердце, Ломоносов спросил:
– Скоро ли предстану пред очами Его?
Старец улыбнулся:
– В срок.
– А не пропадет ли после меня дело мое? В Академии, университете, в гимназии, в Усть-Рудице и в науках, литературе?
– Бог не даст пропасть. Обретешь учеников и потомков. Ты войдешь в анналы. – И Посланец, с легкостью воздев страшный огненный меч, приложил его плашмя к затылку своего подопечного, осеняя тем самым. И с огнем меча в естество Ломоносова снизошло спокойствие. Значит, Бог с ним. А когда Бог с тобой, ничего не страшно.







