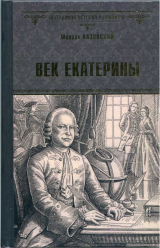
Текст книги "Век Екатерины"
Автор книги: Михаил Казовский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 25 страниц)
Глава вторая
1
Ну-с, пришла пора познакомить читателя еще с одним персонажем нашего повествования – тридцатидвухлетним Иваном Семеновичем Барковым. Именно, именно, тем Барковым, неприличные вирши которого вскоре разлетятся по всей Руси великой, превратив их автора в нарицательное лицо, зачинателя «охальной» поэзии, приписав ему в дальнейшем целый ряд сочинений, созданных другими весельчаками.
Был он тоже попович и вначале учился в духовной семинарии, а в шестнадцать лет через Константинова передал Ломоносову несколько собственных переводов из Горация и Вергилия для оценки. Михаил Васильевич восхитился поэтическим талантом Ивана. Познакомился с ним и уговорил перейти в университетскую гимназию, где, с его точки зрения, стихотворный дар юноши мог был расцвести ярче. Но, лишенный строгих запретов семинарии, молодой человек неожиданно пустился во все тяжкие – пил, курил, сквернословил и особенно пристрастился к обществу срамных девок. Гимназические взыскания (вплоть до порок) помогали временно. Кончилось тем, что Баркова изгнали из учебного заведения и его подобрал Тауберт – сделал наборщиком в своей типографии. Подрабатывал парень и у Ломоносова: переписывал набело его рукописи. Вскоре, по протекции того же Михаила Васильевича, получил в Академии должность штатного писца-копииста: занимался историей, переписывая древние русские летописи, подготавливая их к печати. Тут-то его и нашел молодой немецкий ученый Шлёцер, о котором уже шла речь: предложил копировать больше, чем заказывали другие историки, а за дополнительные списки вызывался платить из собственного кармана. Поначалу Барков работал на Шлёцера с удовольствием, липшие деньги пропивал и тратил на баб, но потом задумался и пришел к неутешительным выводам. И решил поделиться ими со своим учителем Ломоносовым. А поскольку Ломоносов находился вне Петербурга, в собственном имении, то поехал туда, под Ораниенбаум.
Земли эти вместе с двумя сотнями крестьян были пожалованы профессору десять лет назад Елизаветой Петровной для устройства там фабрики стекла. Всем строительством тогда занимался лично Михаил Васильевич при подмоге шурина – Иоганна Цильха. Фабрику возвели на реке Рудице, параллельно обустраивая барскую усадьбу – двухэтажный дом с мезонином, погреб, баню и конюшню с хозяйственными постройками. Рядом разместили лабораторию, а напротив – водяную мельницу в три колеса (первое – пилить доски для строительства, от второго приходил в движение механизм, делавший смеси материалов для выпуска стекла и шлифовки мозаик, третье – собственно, молоть рожь и пшеницу для еды фабричных людей). К дому примыкал сад, ближе к реке располагалась кузня. Ниже по течению Рудицы поднялась фабричная слобода.
Господин профессор приезжал в деревню на лето. Но не столько отдыхал от академических дрязг, сколько занимался делами своего производства. А зато семейство вело праздный образ жизни: женщины собирали цветы и ягоды, на лужайке играли в мяч, карты и лото, плавали на лодке и купались в речке. В среду, 30 июня 1764 года, к ним пожаловал Константинов, отпросившись у Тауберта на недельку, и присутствие молодого мужчины, вероятного жениха Леночки, побуждало дам подниматься засветло и следить за своим внешним видом более тщательно.
А в разгар этого веселья, 1 июля, неожиданно появился Иван Барков. Шел он, как обычно, без парика, волосы немыты, нестрижены, распадались на отдельные сальные прядки, морда одутловатая после перепоя и сорочка давно не стирана, на штанах – пятна от чернил. Словом, ничего нового, и к нему такому давно привыкли. Разница состояла в настроении копииста: от его всегдашней дурашливости не было и следа – в облике царила сугубая озабоченность, перемешанная с тревогой.
– О, Майн Готт! – воскликнула Елизавета Андреевна, увидав Ивана в таком состоянии, и спросила так же по-немецки: – Что-нибудь стряслось?
Молодой человек взглянул на нее бледно-голубыми отсутствующими глазами и пробормотал:
– Надо… надо… повидаться с Михайло Василичем…
– Он с утра на фабрике, должен возвратиться к обеду. Подожди его. Хочешь рюмочку?
Оживившись, переписчик ответил:
– Был бы вам чувствительно благодарен. – Выпил водки, закусил черным хлебом с соленым грибочком и захорошел. – А у вас тут в деревне такая благодать! Прям бальзам на душу. Точно вырвался из темницы на волю.
– Нешто в Петербурге – темница? – обратилась к нему Матрена, помогавшая тетушке накрывать на стол.
У Ивана сузились губы:
– О, еще какая! Натуральная каторга. Душно, смрадно, а особливо в стенах Академии наук. Что ни человек – тот свинья, и что ни свинья – тот немец.
– Те-те-те, – упрекнула его хозяйка. – Я федь тоше немка. Осторошно, зударь, на разгофор.
Но Барков совершенно не смутился:
– Я ж не говорю, что все немцы – свиньи, и наоборот, что все свиньи – немцы. В каждом народе поровну праведников и свиней. Удивляет другое: отчего в Академии собрались только немцы-свиньи, а не праведники?
– Ты гораст больтать, как я поглядеть. Про таких гофорить, што язик бес костей.
– А пожалте еще рюмочку на предмет вдохновения?
– Вот негодник! Латно, пей, токмо ты закусыфай, ирод!
Вскоре появился профессор, гулко ставя палку на ступени крыльца и платком утирая пот на лбу. Обнаружив Баркова, удивился:
– Ты, Иван? Да какими ж судьбами?
Тот вскочил, поклонился и затараторил:
– Оченно тревожные вести, ваше высокородие… Надо обсудить как положено, с глазу на глаз…
Ломоносов принюхался:
– Да никак ты пьян? Еле на ногах держишься.
– Пропустил две рюмочки, ожидаючи ваше высокородие, с позволения любезной Елизаветы Андреевны.
– Лизхен, Лизхен, – покачал головой ученый. – Я ж тебя просил не наливать Ваньке – ведь сопьется дурень и загубит свой великий талант.
– Фуй, два рюмочка – это есть пустяк, – только отмахнулась жена. – Мойте, мойте рук и садилься за стол.
Муж остановил:
– Погоди чуток. Должен выслушать сначала его. Он не станет ехать в такую даль по такой жаре без сурьезного на то повода.
– Точно, точно так, – подтвердил Иван.
– Ну, пошли ко мне в кабинет. Там расскажешь.
В кабинете было душновато от июльского пекла, Ломоносов отстранил занавеску, распахнул окно, выходящее в сад. Тяжело опустился в кожаное кресло, усадил Баркова напротив и разрешил:
– Ну, вещай, голубчик.
Поморгав, переписчик начал:
– Ваше высокородие знают, что снимаю копии с древних манускриптов, в том числе по заказу Шлёцера.
– Знаю, знаю, – проворчал профессор. – Человек он не без способностей, зря хулить не стану, но таланту – на пятак медный, а амбиций – на серебряный рубль!
– То-то и оно. Стало мне известно, что им подано Тауберту прошение – разрешить ему отпуск на три месяца для поездки в Германию. Мол, семейные дела заставляют, и всё такое. Это ладно, Бог с ним, токмо я подумал: увезет чертяка копии мои за границу, там издаст и тем самым присвоит себе славу первооткрывателя. Оченно обидно!
Михаил Васильевич помрачнел. Волком посмотрел исподлобья:
– Увезет, мерзавец, увезет, как пить дать. Напечатает там с огрехами да еще и истолкует превратно. Знаем мы этих толкователей! Я писал отзыв на его «Русскую грамматику» – там такие толкования русских слов, что в глазах темнеет!
– Помню, как не помнить, – отозвался Иван подобострастно, – я ж перебелял ваш отзыв по вашей просьбе.
– Ах, ну да, ну да… Я сегодня же еду в Петербург. И подам реляцию, чтоб не выпускать Шлёцера с бумагами. Это дело чести всей российской науки, нашей Академии и Отечества в целом!
– Так об том и речь. Потому и примчался к вашему высокородию..
– Молодец, Иван! Я ценю твой порыв. Отобедаем сейчас вместе и поедем резво. Надо не допустить исторического разору. Зададим немцам перцу!
Переписчик, хлопнув себя по ляжкам, пьяно расхохотался:
– Зададим, Михайло Василич, истинно зададим! С вами завсегда в этом. Ну, держись, немчура поганая! Уе… тебя в задницу!
– Тихо, Ваня, что ты! Не ровен час кто услышит, как ты выражаешься по-срамному.
– А пущай слышат! Говорю, как думаю.
2
К счастью Ломоносова, в эти дни в Петербурге находился президент Академии наук Кирилл Григорьевич Разумовский. Будучи еще и гетманом войска Запорожского, жил он в основном в городке Глухове (севернее Конотопа) и в столицы наведывался нечасто.
Брат его, Алексей Разумовский (оба – казаки, и с рождения носили украинскую фамилию Розум), пел в церковном хоре и однажды приглянулся императрице Елизавете Петровне; сделался ее фаворитом, а по слухам – даже тайно венчанным мужем, от которого государыня якобы родила дочку, прозывавшуюся княжной Таракановой. Самодержица дала ему графский титул и присвоила звание генерал-фельдмаршала.
Младший брат Кирилл за границей окончил два университета – Гёттингенский и Берлинский, а когда возвратился в Россию, был поставлен, при протекции Алексея, возглавлять Академию. Но, конечно, только числился президентом, в основном занимаясь на Украине (Малороссии) местными делами. С Ломоносовым поддерживал хорошие отношения и не раз его выручал в кознях академической бюрократии.
После смерти Елизаветы братья Разумовские вместе с братьями Орловыми помогли Екатерине свергнуть мужа, императора Петра III. Новая государыня это помнила и ценила, но, конечно, прежнего фавора уже не было. Алексей удалился к себе в имение и уже не служил, а Кирилл оставался президентом, в основном обретаясь в Глухове. До него долетела весть, что ее величество собирается упразднить гетманство, и примчался в Петербург, чтобы прояснить ситуацию.
Тут-то, во дворце на Мойке, Разумовского и поймал взволнованный Михаил Васильевич. Расписал ему живо, в красках происки Шлёцера и Тауберта (то, что Тауберт помогает Шлёцеру, знали все) и просил оказать помощь русской исторической науке, помешать увезти бесценные списки за рубеж.
А Кирилл Григорьевич слушал его в пол-уха. Думал о превратностях человеческих судеб. Вот стоит перед ним русский гений – номинально профессор химии, но открытия делающий в физике, ботанике, астрономии, горном деле, производстве металлов и стекла, сочинивший учебник русской грамматики, пишущий статьи по истории, уж не говоря о стихах – лучше профессиональных поэтов Сумарокова с Тредиаковским, вместе взятых, а еще художник и мозаист… Все равно что Петер Великий: тот в политике, этот в науках и искусствах. Значит, место его – в руководстве Академии. Совершенно. Почему же на деле Академией правит Разумовский, вся заслуга которого – кровное родство с фаворитом бывшей императрицы? Отчего взволнованный потный Ломоносов перед ним стоит, Разумовский же вальяжно сидит? Отчего Ломоносов – проситель, Разумовский – вершитель? Объяснений нет…
А с другой стороны, что ему, Разумовскому, до Ломоносова? До каких-то копий манускриптов, интересных всего лишь трем-четырем яйцеголовым профессорам в мире? Есть дела поважнее: если Екатерина отменит гетманство, Запорожская Сечь и вся Малороссия полностью лишатся крох автономии, а губернии, на которые будет она поделена, станут ничем не отличимы от других губерний России. Украина окончательно растворится в империи. Пропадут язык, наряды, обряды… Вот за что ноет сердце. За свою нэньку Украину, а не за дурацкого Шлёцера, хай ему грец!
Ломоносов пафосно закончил свою речь и уставился на именитого собеседника. Тяжело дышал, опираясь на палку.
Выглядел неважно: вздувшиеся мешки под глазами, бледность щек и болезненный блеск в зрачках. Говорили, что сильно нездоров. Вероятно, правда.
– Что же делать будем, ваше сиятельство? – прогудел ученый.
Разумовский встал и прошелся по кабинету, думая, как проще и необиднее отвязаться от этого надоеды. Стройный тридцатишестилетний вельможа против пятидесятитрехлетнего грузного профессора. Расфуфыренный и изящный против грубоватого и нелепого. Две вселенные, два не сообщающихся сосуда…
– Будем действовать заодно, – быстро сымпровизировал президент. – Вы, Михайло Василич, сочините прошение в Сенат, отнесите лично, я договорюсь, чтобы, несмотря на пятницу, приняли без проволочек и решили не давать Шлёцеру выездного пашпорта. Со своей стороны, завтра в Сарском селе стану говорить с матушкой-императрицей. Сообча утрясем недоразумение.
Посетитель расцвел:
– Рад, что вы меня поняли, драгоценный Кирилла Григорьевич. Русские историки вас не забудут.
Гетман Запорожского войска грустно усмехнулся:
– Если и не забудут, то благодаря вам. Это вы – гений земли Русской, а без вас я и все тауберты – ноль, пустое место. Просто так сложилась судьба, и никто тут не виноват.
Ломоносов ответил:
– Коли Бог определил вам руководить, а мне подчиняться, значит, в том имеется некий тайный замысел, не доступный нам. Каждый служит Отечеству на своем месте.
– Да, и то правда.
Окрыленный чудак-ученый торопливо откланялся, чтоб успеть к обеду отнести нужную бумагу в Сенат. Проводив его до дверей кабинета, Разумовский остался наедине с самим собой, подошел к зеркалу, врезанному в стену, оттянул веко, посмотрел на глазное яблоко, высунул язык, убедился, что тот обложен. То-то с утра в животе бурчало. Снова несварение…
Позвонил в колокольчик, вызвал секретаря и велел немедля отправиться в первый департамент Сената с письмом к тамошнему секретарю. Взял перо и небрежно написал: «Сударь мой, милейший Тимофей Павлович! У тебя сего дня будет академик, профессор химии Ломоносов М.В. с важным документом. Не сочти за труд и пусти его в дело без заминок. Буду твой должник». И размашисто подписал. Высушил чернила песком, запечатал конверт именной печаткой. И сказал секретарю:
– С Богом!
Посмотрел ему вслед задумчиво. «Русские историки вас не забудут!» Ну-ну. Может, надо было поддержать как раз Шлёцера, дабы познакомил он с русской историей всю Европу? Может, догнать секретаря, задержать письмо? Э-э, да лень шевелиться. И не всё ль равно, чей приоритет выйдет? Сделано и сделано. Есть дела поважнее.
3
А означенный Тимофей Павлович был готов служить не только Разумовскому, но и Тауберту, ибо Тауберт неизменно платил ему за услуги по добыче разрешений Сената на беспошлинный вывоз книг за границу. И поэтому чиновник, благосклонно приняв прошение Ломоносова и внеся рассмотрение сего дела в распорядок дня на вторую половину этой пятницы (как хотел Разумовский), тут же написал письмо Тауберту с предостережением об угрозе Шлёцеру и его бумагам.
Но письмо, принесенное в дом Тауберта вечером 2 июля, не застало хозяина – был с женой на поминках своего старинного друга-мануфактурщика, возвратился поздно и в таком состоянии, что не мог читать. Но, проспав, как обычно, не больше пяти часов и поднявшись в субботу засветло, начал разбирать почту. Сообщение Тимофея Павловича обожгло его, точно молнией: если принято Сенатом решение задержать Шлёцера в России и изъять у него бумаги, дело их пропало! Мало того, что упустят выгоду, так еще и будут отвечать по закону за попытку вывоза ценных документов. Господи Иисусе! Надо срочно действовать!
Растолкал кучера и велел закладывать дрожки. Через четверть часа он уже скакал к дому на Фонтанке, где снимал жилье Шлёцер. Потревожил дворника, тот открыл ворота. Забежал по ступенькам на второй этаж и столкнулся с Гансом, что прислуживал молодому ученому. Крикнул по-немецки:
– Август спит? Разбуди сейчас же! Да живее же, поворачивайся, урод!
Ганс спросонья беспрерывно икал и чесался. Говорил обиженно:
– Отчего урод? Этак не положено. Я не крепостной. Оскорблять нельзя.
– Замолчи, скотина. Исполняй, что велено.
– То, что вами велено, для меня не указ. Я служу господину Августу. Он мне приказал рано не будить, оттого что работал до второго часа пополуночи.
– Да пойми, осел: дело не терпит отлагательств. Через час-другой, несмотря на субботу, могут появиться приставы, и тогда твой Август будет отвечать по закону. Или ты враг ему?
– Я не враг, но ослушаться тоже не могу. Он мне приказал его не будить.
Тауберт попробовал отпихнуть Ганса:
– Ну, так я его сам сейчас подниму.
Но громоздкий слуга не пошевелился:
– Этак не положено – в бок меня пихать. Я не крепостной. И насилья над собой не позволю.
– Отойди, дурак!
– Отчего дурак? Я не посмотрю, что вы из ученых, и за дурака могу так отделать, что потом не соберете костей.
Неизвестно, чем бы закончилось это препирательство, если бы в дверях не возник разбуженный криками Шлёцер – был он в колпаке и ночной рубашке до пят. С любопытством смотрел на происходящее.
– Август, дорогой! – бросился к нему Тауберт. – Слава Богу, что ты проснулся. Представляешь, твой кретин был готов меня отдубасить, не давая проходу.
– Отчего кретин? – снова заворчал Ганс. – Этак не положено. Я не крепостной. Оскорблять нельзя.
– Господи, да что же произошло? – отвернувшись от слуги, попытался прояснить ситуацию молодой историк. – Почему в субботу утром такое волнение?
– Ты сейчас поймешь и взволнуешься сам. – Тауберт увлек его в комнату и закрыл за собою дверь. – Ломоносов обратился в Сенат… – Изложив обстоятельства дела, секретарь канцелярии Академии резюмировал: – Срочно собирай все свои бумаги, я их увезу и спрячу у себя в доме. А ко мне уже приставы не сунутся.
Удивленный услышанным, Шлёцер пребывал в замешательстве. Только повторял:
– Вот ведь Ломоносов, каналья… Говорили, будто дышит на ладан, а на самом деле…
– Август, Август, некогда болтать! Складывай бумаги!
Рукописей оказалось немало, и в дорожный сундучок, привезенный Таубертом, все они не влезли, так что часть пришлось завязать бечевкой и нести отдельно. Торопливо погрузили эти сокровища в дрожки хозяина типографии, тот махнул рукой, и коляска выкатилась со двора на набережную Фонтанки. Шлёцер перекрестился. Даже если его отъезд за границу будет теперь отложен, ничего страшного: документы спасли, он их сможет вывезти чуть позднее.
Приставы пришли только в понедельник. Разумеется, никаких ценных рукописей в доме не нашли, задали несколько вопросов о его пребывании в России и велели ответить письменно. С тем и убыли.
Шлёцер ликовал, Тауберт вслед за ним.
Ломоносов, узнав о провале своего предприятия, вновь помчался к Разумовскому и застал его в подавленном состоянии духа после визита в Сарское село: принял профессора не в кабинете, а в библиотеке, полулежа на оттоманке с книгой в руке. Посмотрел невесело:
– Знаю, знаю, что у вашего немца ничего не нашли. Думаю, успели предупредить, чтобы спрятать… У меня тоже полное фиаско: матушка-императрица упраздняет гетманство.
Михаил Васильевич ахнул:
– Как же ваше сиятельство теперь будут?
– В виде сатисфакции мне присваивает звание генерал-фельдмаршала. Оставляет президентом Академии наук… А про Малороссию говорит: ничего с ней не станет без гетмана, хватит вольницы запорожской, никаких привилегий для казаков… Худо, худо! – Отшвырнул книжку, сел. – Коли б знать, что оно так выйдет, мы два года тому назад с братом не помогали бы… – Он осекся, испугавшись, и замолчал.
А ученый попытался свернуть с опасной темы:
– Про мое вице-президентство речи не было?
– Что? Про ваше? A-а, не помню… Вероятно, не было. Нет, не помню.
– Ну и хорошо. Я пока что не в силах этот пост принять. Подустал немного. Надо отлежаться.
– Надо отлежаться… – механически повторил Разумовский, продолжая переживать за свое. – Отлежаться надо… А насчет Шлёцера не тревожьтесь: он останется в России до особых распоряжений Сената и не сможет вывезти копии манускриптов, где бы они ни находились.
– Что ж, хотя бы так…
Вместе с тем не дремал и Тауберт. Кой-кого подмазав, он нашел способ встретиться с фаворитом Орловым и вручил ему план дальнейших исторических изысканий Шлёцера, чтобы передать для ознакомления ее величеству. Цель была одна: снять с ученого подозрения в алчности и завоевать доверие государыни, сделать Августа Людвига ординарным профессором истории, для которого откроются двери всех российских архивов…
4
Эта неделя, проведенная Константиновым в имении Ломоносовых, помогла ему пробудить в Леночке некое взаимное чувство. Утром все встречались за завтраком, переодевались и шли купаться в Рудице. Вместе ловили бабочек сачком. Собирали грибы в лесу и однажды принесли домой маленького ежика. Он лакал молоко из блюдца и забавно фыркал. Девушки покатывались со смеху. Собранные грибы чистили и резали для супа, Алексей помогал, совершенно не чураясь «немужской» работы. Как-то перед ужином провели вечер немецкой поэзии и по очереди читали стихи «трех G» – Гюнтера, Галлера, Геллерта, а еще Бодмера и Клопштока. Леночка и Елизавета Андреевна спели несколько песен на немецком, чем сорвали бурные аплодисменты Михаила Васильевича, Алексея и Матрены.
Накануне возвращения Константинова в Петербург между ним и Леночкой состоялся важный разговор. Было это 6 июля, на закате солнца, под аккомпанемент квакающих лягушек, доносившийся с речки, и при яростных налетах местных комаров, жадных до крови, как вампиры. Девушка отмахивалась от них веером, а библиотекарь просто бил – у себя на шее и лбу. Романтизм явно разрушался.
– Может быть, еще погостите? – спрашивала она, глядя на бордовые от закатного солнца облака.
– Вы не возражаете? Я вам не наскучил? – интересовался библиотекарь.
– Нет, напротив, было интересно.
– Да, и мне понравилось. С удовольствием бы остался, да дела зовут. Был отпущен начальством только на неделю-с.
– Ну, так отпроситесь еще: мы в деревне будем до середины августа.
– Я попробую, но не обещаю. Есть и матерьяльная составляющая: коли не являюсь в присутствие, у меня удерживают из жалованья… Впрочем, счастье быть рядом с вами не оценишь никакими деньгами. Вы позволите написать вам письмо?
– Хорошо, пишите.
– Лучше по-французски, по-немецки или по-русски?
– Как желаете. Я отвечу по-русски – надо практиковаться в письменной речи на родном языке, да и папенька требует, чтобы говорили и писали дома по-русски.
– Ну, тогда и я напишу по-русски. Вероятно, стихами. Посмотрела на него с удивлением:
– О, да вы стихи пишете?
– Иногда, просто для себя, не для публикации. Публикую только переводы с немецкого.
– Так прочтите что-нибудь из своих.
– Не решаюсь, право. Никому еще до этого не читал-с.
– Я хочу быть первой.
– Вы заставили меня покраснеть.
– Не ребячьтесь, Алексей Алексеич! Что вы, как дитя? Я велю вам читать теперь же.
– Да не помню целиком наизусть.
– Прочитайте отрывок. Это все равно.
Константинов запыхтел, заморгал, замахал руками, отгоняя комаров, и, решившись, продекламировал:
Я говорить с тобой не смею,
Лишь образ твой в душе лелею,
Моя любовь, о Евридика!
Сладкоголосому Орфею
Уподобляюсь я, робея,
И стих мой сладок, как музы’ка!
Тебя пою, любовь мою,
И благосклонной быть молю.
Замолчал и сидел, ссутулившись. Леночка похлопала сложенным веером по ладошке:
– Браво, браво. Оченно чувствительные стихи. Мне понравились. Огорчает токмо один пассаж.
Молодой мужчина перепугался:
– Да? Который?
– То, что ваша любимая уподоблена Евридике. Ведь гречанка умерла до срока от укуса змеи. Эти аллюзии вызывают грустные предчувствия. Вдруг я тоже, выйдя за Орфея, отчего-то вскоре погибну?
Константинов взмолился:
– Я перепишу, не сердитесь!
– Я и не сержусь. – В доказательство чего вновь взяла его за руку – как тогда, в саду, возле отчего дома в Петербурге. – Я привыкла к вам за эту неделю… Буду, вероятно, скучать…
Он взглянул ей в глаза:
– Правда?
– Честно.
Переполненный радостью, личный библиотекарь императрицы страстно поцеловал ее кисть. А подняв лицо, получил с размаху по щеке веером. Отшатнувшись, в ужасе воскликнул:
– Вы обиделись?!
Ломоносова рассмеялась:
– Нет, комар. – И сняла убитое насекомое с середины веера.
Утирая кровь со щеки, Алексей Алексеевич ответил:
– Да, комар… да, конечно… спасибо… – и не смел сказать больше.
На другое утро уехал, а Матрена и Леночка долго обсуждали его: младшая допытывалась, поменяла ли старшая отношение к Константинову. Та смеялась преувеличенно громко и уклончиво отвечала: «Может быть…» Но когда кузина неожиданно задала вопрос:
– Нет, скажи, душенька моя, вот случись теперь, что тебе расскажут, будто он взял назад слово о женитьбе и к другой просватался, ты бы огорчилась?
Дочь профессора посерьезнела и задумалась. А потом правдиво проговорила:
– Вероятно бы, огорчилась…
– И-и, вот видишь! А почему?
– Ну, не знаю… Все же в Алексей Алексеиче больше хорошего, нежели дурного.
– Что же в нем дурного?
– Ты сама видишь: внешность нимало не авантажная. Да и скромный донельзя. Мямля, в обчем.
– Но зато учён да умён.
– Это правда. Рассуждал с папенькой о немецкой литературе на равных. – Замолчала и, как будто бы что-то вспомнив, вновь заулыбалась.
У Матрены вырвалось:
– Так пошла бы за него или нет?
Леночка смотрела на нее молча, чуть раскачиваясь на стуле. Наконец, произнесла:
– Окончательно пока не решила…
5
Время проводили в Сарском селе тоже весело, с той лишь разницей, что забавы были иные: карты, маскарады, оперы и балеты, танцы и альковное баловство. О делах говорили мало. Лишь приезд Разумовского ненадолго отвлек императрицу от обычной праздности, но испортил настроение не слишком. После его отъезда государыня откровенно сказала Бецкому:
– Знаешь, Иван Иваныч, я переменила взгляд мой на Шлёцера. Мне тут передали план его работ. Оченно впечатляет! Настоящая революция в исторической науке. Надо сделать его профессором и попробовать удержать в России.
Секретарь заметил:
– Шлёцеру не ужиться с Ломоносовым. Ведь за Шлёцером стоит Тауберт – главный неприятель Михайло Василича.
– Чепуха. Коли прикажу – уживутся как миленькие.
– Ломоносову приказывать трудно… А когда вы подпишете указ о его вице-президентстве, он вообче почувствует силу…
– Так не подпишу.
Генерал-поручик вперился в нее с изумлением:
– То есть почему не подпишете?
– Ай, не знаю – расхотелось. – Отвела глаза. – Я решила: нам не нужен пост вице-президента. Должен быть директор-распорядитель при президенте. Им я сделаю Володю Орлова, как вернется с учебы из-за границы.
– Только потому, что он младший брат вашего любимца?! – вспыхнул Бецкий. – Господи, когда это кончится в России?! Разумовский – младший брат одного фаворита, этот же – другого…
Рассердившись, Екатерина сказала зло:
– Забываетесь, сударь. Переходите рамки допустимого. – Дернула плечом. – Вы ведь тоже оказались у трона, потому что нечужой государыне человек…
Он склонился в подобострастном поклоне:
– Извините, мадам… Был излишне дерзок…
– То-то же. Молчите, коли в ваших словах государыня вовсе не нуждается.
Но Иван Иванович был не тем человеком, кто привык сдаваться без боя. Действовать он решил через Дашкову: та терпеть не могла Орловых (и особенно самого фаворита, Григория), а зато к Разумовскому с Ломоносовым относилась с большой симпатией. Вот на этих чувствах и решил сыграть Бецкий. Разговор происходил на балу, оба вышли в сад и уселись на одну из резных скамеек в потаенной аллее, в стороне от ненужных глаз. Генерал-поручик сразу приступил к делу (диалог происходил на французском):
– Я прошу вас о помощи, Екатерина Романовна. Наша правящая мадам пребывает ныне в несерьезном состоянии духа и нимало не слушается советов. Из-за этого Академии наук угрожает опасность. – Раскрывая карты, он поведал о ситуации вокруг вице-президентства, Шлёцера и директора-распорядителя. – Надо что-то делать.
Дашкова, в легком бальном платье с глубоким декольте и в роскошном парике, украшенном цветами, сразу не ответила. Продолжала обмахиваться веером и смотрела куда-то в сторону. Наконец, сказала:
– Я, конечно, попробую, но боюсь, не выйдет. Наши отношения с государыней напряглись в последнее время. А виной всему – этот прощелыга из ее спальни. Я однажды высмеяла его неотесанность, он злопамятен и теперь накручивает Катьку против меня. Мерзкий солдафон. Ненавижу.
– Нет, но променять Ломоносова во главе Академии на мальчишку Орлова! Вся Европа будет смеяться над нами.
– Только ли из-за этого? – хмыкнула она. – Поводов даем много.
– Умоляю, вмешайтесь, ваше сиятельство.
– Приложу старания.
– Уповаю только на вас.
Дашкова исполнила его просьбу на другое утро: будучи вдвоем с государыней у нее в будуаре и расчесывая ей волосы после сна, обсуждая вчерашний бал и последние сплетни, вроде невзначай брякнула:
– Правду ли я слышала, будто Ломоносов отказался от должности вице-президента?
У царицы вытянулись губы:
– Ничего подобного. Это я передумала его назначать.
– Вот те раз! Чем он провинился?
– Да ничем, честно говоря. Слишком уж упрям. Да и староват. Будет тут ходить и стучать своей палкой, действовать на нервы.
– Но зато ведь авторитет. Он почетный профессор нескольких европейских университетов.
– Вот и пусть копается у себя в лаборатории.
– А кого тогда в вице-президенты?
Но Екатерина II знала нелюбовь Дашковой к Орловым и сказала уклончиво:
– Думаю пока.
– У меня есть кандидатура, – улыбнулась княгиня.
– Интересно, какая же? Кто таков?
– Не «таков», а «такая».
– Кто же?!
– Я.
Развернувшись, императрица посмотрела на нее пристально:
– Шутишь?
– Нет, сурьезно. Я сумею навести в Академии порядок.
– Уж не сомневаюсь. – Государыня погрузилась в раздумья. – Неожиданный вариант. Очень любопытный!..
Но судьба распорядилась иначе: вскоре Дашковой сообщили, что ее супруг, Михаил Иванович Дашков, князь, вицеполковник, будучи с отрядом в Польше, тяжело заболел и при смерти. Перепуганная Екатерина Романовна поскакала его спасать, и дальнейшие события в Петербурге разворачивались уже без нее. Впрочем, идею фрейлины самодержица не забыла и назначила-таки Дашкову директором Академии (при Кирилле Разумовском – президенте), но уже много-много позже…
6
Михаил Васильевич обратил внимание: ноги у него после треволнений ноют больше, мочи нет терпеть, а в спокойные, счастливые дни боль стихает. Именно такое умиротворение чувствовал профессор после переезда в деревню – свежий воздух, тишина, покой и парное молоко с плюшками успокаивали, бодрили, он ходил, будто молодой, пропадая на своем заводике, увлеченно работая со стеклом, а по вечерам, сидя на крыльце, положив ступни на маленькую скамеечку, отдыхал, расслаблялся, получал удовольствие. Но приезд Баркова и последующие события привнесли смятение в его душу, вся эта беготня по инстанциям, козни Тауберта обостряли болезнь, совершенно изматывали. Было не до наук, не до творчества. Между тем «Полтавская битва» продвигалась без него медленно – мастера набирали мозаику, Ломоносов наезжал из деревни в Петербург, забраковывал, приходилось отколупывать, набирать заново.
Больше остального его волновала фигура Петра на переднем плане: царь все время выходил какой-то ненатуральный, кукольный – не хватало живости во взоре, одухотворенности. Это огорчало ученого, обессиленный, он валился с ног и лежал, одинокий, у себя в петербургской спальне, с грустью думая о своей судьбе. Сколько ему еще осталось? Десять лет? Пять? Или даже меньше? Вот отца не стало в шестьдесят. Но отец погиб, а не умер от старости, и его пример не годится. Да и дедушка тоже не указ: умер он задолго до рождения внука, будучи еще молодым. И со стороны матери тоже аналогий не сыщешь: все родные уходили из жизни, редко дотянув до пятидесяти. А ему в ноябре исполнится пятьдесят три. Сделано хотя и немало, но задумок намного больше. Так печально их не осуществить! Боже правый, чем я провинится перед Тобой?







