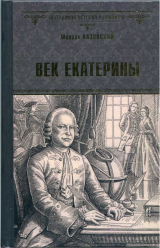
Текст книги "Век Екатерины"
Автор книги: Михаил Казовский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 25 страниц)
– Ах, на всё воля Божья. Ты надолго к нам? Не присядешь, нет?
– Сяду, отчего же. – Ей подставили деревянное кресло.
– Можно попросить остальных удалиться? Я хотел бы потолковать с матушкой-царицей tête-à-tête.
– Хорошо, голубчик, все сейчас уйдут. – И кивнула дамам.
Те с поклоном оставили спальню.
– Да, теперь нам никто не помешает. – Вновь взяла его за руку. – Что-то пальцы у тебя, как ледышки. На дворе такая теплынь! Может, попросить еще одеяло?
– Нет, совсем не нужно. Это внутренний холод – коченеют ноги, руки… Видно, так положено. Ничего, не переживай.
Просто помолчали. Он опять слегка улыбнулся:
– Как я рад, что теперь мы вместе. На душе спокойнее. Благодать такая…
Чуточку помявшись, государыня задала вопрос:
– Ты хотел мне сказать что-то очень важное?
– Да, хотел… – Бецкий задышал чаще. – Я хотел сказать… я хотел сказать, что серьезно, очень серьезно любил твою мама… Да, она порой бывала нелепа – и особенно в здешнем климате… Но я помню ту юную сильфиду, что явилась предо мною в Париже, около семидесяти лет назад… То видение я люблю до сих пор… и поэтому тебя полюбил… как дочь…
– Как дочь? – повторила Екатерина, наклонившись, силясь разгадать это «как»: то ли дань вежливости, то ли истина?
– Я не слишком дерзок, ваше величество?
– Ах, оставь эти церемонии. Будучи в амурах с моей матерью, ты мне… как отец!
– Как отец? – Он переспросил, подражая ее интонации.
Оба рассмеялись. У Ивана Ивановича вырвался вздох:
– Знать никто не может доподлинно… Если дама замужем, но встречается с другим кавалером, от кого ребенок? Только предположение – не более. Кто отец Павла – ты сама-то знаешь?
Государыня фыркнула:
– Только предположение – не более… – Отсмеявшись, сказала: – Ты такой проказник, однако!
Бецкий отозвался:
– Да и ты, матушка, не меньше. Вроде бы шутя завладела троном!.. Девочка из провинциального немецкого Штеттина… подчинила себе гвардию, министров, русскую державу! И тебя уже в глаза именуют Екатериной Великой, как Петра! Ну не парадокс ли?
– …да еще, возможно, будучи твоей дочерью!
– Всё возможно, всё возможно на этом свете… – Неожиданно он довольно сильно стиснул ее ладонь. – Кем бы ни была ты по крови, я помог твоему приглашению на Русь и затем старался по мере сил, чтобы у тебя было меньше неприятностей при дворе Елизаветы Петровны…
– Знаю, дорогой.
– А затем, когда ты взошла на престол, то уже помогала мне. Так мы дополняли друг друга. И немало сделали хорошего для России. Так ведь?
– Я надеюсь…
– Ну, меня, может, и забудут со временем, но твоя слава как великой императрицы будет вечна. И поэтому я горжусь, что в твоем ореоле славы есть и моя маленькая искорка…
– Уж не скромничай, сделай милость: искорка твоя не одна! – начала перечислять все заслуги Бецкого на стезе воспитания юной поросли, а еще градостроительства, просвещения в целом…
Не дождавшись окончания этого панегирика, он воскликнул:
– Но еще больше не успел! Не сумел наладить порядок в воспитательных всех домах, в Академии художеств и Кадетском корпусе. Всюду козни, интриги, воровство. И преподаватели пьют, и порой вовлекают в это учеников. О разврате я уж не говорю!.. Я считал: если вырвать ребенка из порочной среды семьи, оградить от невежественных родителей и отдать достойным учителям, из него выйдет толк. Но учителей достойных – раз, два и обчелся! И никто не служит ревностно… – Он вздохнул со стоном. – Главное не удалось: я не воспитал новое сословье – то, которое будоражит умы Европы и стремится усовершенствовать мир!
Самодержица тактично покашляла:
– Может, и хорошо, что не удалось?..
Бецкий поразился:
– Ты считаешь?!
– Это сословье во Франции свергло короля и теперь угрожает королям всей Европы. Слава Богу, в России такого нет. Пугачев не в счет: это бунт, а не революция. И Радищев не в счет: одиночка с нелепой книжицей…
Генерал ответил, насупившись:
– Только глупые, бездарные короли дело доводят до революции. С новым сословьем надо договориться и направить его энергию в нужное русло. Вот как в Англии. Конституционная монархия и парламент. Там, где есть действенный парламент, люди не выходят на улицы.
Но Екатерине сделалось смешно:
– Что, в России парламент? Это нонсенс. Будет много хуже – все передерутся.
– Оттого что культуры нет. Я и говорю: надо воспитать. Первое поколение, и второе, и третье… Там, глядишь, к середине будущего века что-то и получится…
– Мы сего, к счастью, не увидим.
– Отчего же «к счастью»?
– Слишком много свобод – тоже плохо. Я согласна: рабство в России надо упразднять. Это дурно, коль одни люди покупают других людей. Но с другой стороны – вековой уклад, ковырнешь – и всё рухнет! Столько помещиков пойдут по миру, а голодные, неприкаянные крестьяне выйдут на большие дороги грабить… Рухнет, рухнет держава! Исторический тупик.
Бецкий повторил:
– Вот и надо воспитывать, просвещать народ. Выводить из дикости. Прививать желание думать и работать самостоятельно. Мне не удалось. Нам не удалось. Не удастся ни Павлу, ни Александру… Но потом, надеюсь…
– А потом хоть потоп! – провела ладонью по его руке. – Я шучу, конечно. Будь что будет. Нешто нам с тобой и поговорить больше не о чем, кроме как о высокой политике?
Он обмяк, снова провалился в подушки и прикрыл глаза. Прошептал:
– Что-то утомился я нынче. Хочется вздремнуть. Ты ведь не уедешь пока?
– Я сижу, сижу.
– Выпейте чайку с Настей и Анютой. Заходи через час, и продолжим разговор.
– Ладно, так и сделаю.
Вышла из дверей спальни и взглянувшим на нее Де Рибас и Протасовой мягко покивала:
– Ничего, уснул. И просил заглянуть попозже. Может, выпьем чаю?
– Да, конечно, я сейчас распоряжусь. – А потом спросила: – Муж велел узнать, пожелает ли ваше величество видеть и его? Если да, то в каком обличье – при параде или в партикулярном?
Улыбнувшись, Екатерина ответила:
– Разумеется, пусть приходит. И по-свойски. По-домашнему, по-семейному, без чинов.
По пути в столовую государыня поделилась мыслями:
– Он, конечно, плох, но, с другой стороны, не настолько, чтобы ожидать худшего исхода нынче ночью.
– Вы считаете? – удивилась Протасова. – А мне кажется, обольщаться на сей предмет вряд ли следует. И конец может наступить в любую минуту.
– Ах, Господь милостив: подождем.
Вышел Де Рибас: полноватый, розовощекий и с мясистыми икрами в белых чулках. Несмотря на то, что прожил в России четверть века, говорил с довольно сильным испанским акцентом («басе белисестбо» – ваше величество) и предпочитал изъясняться со всеми только по-французски. Августейшая гостья не возражала и охотно перешла на язык Вольтера. Перевод их беседы был таков:
– Вице-адмирал!
– Ваше величество! Счастлив видеть вас у меня в дому.
– У тебя, да не у тебя: этот дом перейдет к Bibi только по завещанию.
– Хорошо, согласен: в нашем с генералом дому. Да продлятся дни его, елико возможно!
– Да, мы молимся о его здравии.
Слуги принесли самовар, угощение. Господа расселись за накрытым столом.
Промочив горло, государыня вновь заговорила:
– Что там в Хаджибее, Осип Михайлович? Близится ли к концу наша черноморская одиссея?
Де Рибас ухмыльнулся:
– Все-таки Одесса? Ваше величество приняли такое решение?
– Почему бы нет? Местные греки, я знаю, до сих пор так зовут эту местность, названную турками Хаджибеем.
– По моим сведениям, греческая колония Одессос находилась южнее.
– Это не имеет значения. В переводе с греческого означает «Приморье». Очень хорошо.
– Мы с Платоном Александровичем предлагаем назвать иначе – Константинополь-на-Днестре.
Но царица поморщилась:
– Слишком выспренне. И потом, Константинополь должен быть один – на Босфоре.
– Стало быть, Одесса?
– Стало быть.
Осип Михайлович рассказал о строительстве главных сооружений города, возведении верфи, порта и парных дамб (жете). А закончил так:
– Через месяц, не позже, мы поднимем над новой крепостью императорский штандарт!
– Дай-то Бог, голубчик, – с удовольствием сказала императрица и с не меньшим удовольствием поднесла ко рту чайную ложечку с земляничным вареньем.
Разговор опять перешел на Бецкого.
– Если б не эта глупая история с Глашкой Алымовой, все могло бы сложиться иначе, – заявила Bibi.
– Нет, а я его понимаю, – проворчал вице-адмирал. – Старый холостяк вырастил для себя в Смольном институте жену. Только о ней и думал. Пестовал, заботился. И она, в сущности, относилась к нему с любовью. Несмотря на разницу в возрасте. Да, их счастье было бы краткосрочным, конечно. Но оно бы было, было! Если бы не ты…
– Значит, я, по-твоему, виновата? – возмутилась Анастасия.
– Ну а кто? Поносила Алымову в глазах генерала, а его же – в глазах Алымовой. Перессорила всех и подсунула ее Ржевскому.
– Между прочим, Глашка с ним живет душа в душу. Значит, всё во благо.
– А старик ослеп и свалился после удара. Десять лет прожил в немочи. Это, по-твоему, благо?
Попыхтев, красная, как рак, Соколова-Де Рибас огрызнулась:
– Не тебе судить, дорогой.
– Это почему же?
– Потому что все вы, мужчины, одинаковы. И скажи спасибо, что я закрываю глаза на твои измены супружескому ложу.
Тут пришла очередь покраснеть испанцу. Он пробормотал:
– Я?.. Да как же?..
В разговор вступила императрица и сказала примирительным тоном:
– Будет, будет, не петушитесь. Все мы знаем, Осип Михайлович: у тебя сын на стороне. И фамилию дал ему свою, задом наперед: Осип Сабир.
Помолчав, Де Рибас заметил:
– А «сабир» по-турецки значит «терпеливый».
– Это я – терпеливая, – не замедлила подколоть его супруга.
– Вот и молодец, дорогая, – поддержала Екатерина, – ибо понимаешь: все мы не без греха. А насчет Алымки – что ж теперь судить да рядить? Мы хотели, как лучше. Думали, старик перебесится и остынет. И желали ему только благоденствия.
Вице-адмирал с сожалением крякнул:
– Коли двое любят, третьим вмешиваться не след.
– Даже если она ему во внучки годится? – сузила таза его благоверная.
– Для любви нет возраста, для любви нет правил.
– Даже правил приличия?
– Никаких.
Оба готовы были снова повздорить, но императрица вмешалась и в этот раз:
– Удивляться нечему: наш Иван Иваныч – человек оригинального склада. Жил и поступал, не как прочие. Вот тебя воспитал, Bibi, и озолотил.
– Что же удивляться, коли я дочь его?
– Ты уверена в сем? Он тебе сказал?
Женщина смутилась:
– Нет, не говорил… но и так понятно! Мама была у него во служении – молодая, редкой красоты. Как в такую-то не влюбиться? Ведь ему тогда исполнилось только 38.
– Что с того? Мог влюбиться, а мог не влюбиться. Просто пожалел, видя что она в интересном положении от другого… А когда умерла при твоих родах, пожалел и малютку. Что ему мешало дать тебе фамилию Бецкая? Почему записал тогда Соколовой?
– Он всегда не любил свою фамилию – половину от Трубецкого. Не хотел и мне отдавать такую.
– Ерунда. Князь Иван Трубецкой, то есть его отец, не имел сынов от своей законной супруги, Нарышкиной, и уже под конец жизни предлагал Бецкому сделаться Трубецким законным. Но Иван Иваныч гордо отказался. Дескать, раньше надо было думать, дорогой папа; стольких я обид натерпелся от окружающих, обзывавших меня бастардом, столько должностей и чинов упустил из-за этого! А уже в зрелом возрасте не желаю сам!
Но мадам Де Рибас продолжала упорствовать:
– Разве то, что все свое завещание на меня составил, не свидетельствует о нашем родстве?
– Вероятно, да. Ты ведь самый близкий для него человек теперь. И заботилась о нем все последние годы. Но при чем тут кровное родство?
Помолчали.
– А известно ли, от кого у князя Трубецкого народился Бецкий? – задал вопрос испанец.
– От какой-то шведки. Князь во время русско-шведской войны оказался в плену. И провел в Стокгольме 18 лет! Но условия плена, судя по всему, не были суровыми – ведь туда к нему разрешили приехать его жене с дочкой из России. Вот мадам Нарышкина-Трубецкая, значит, приезжает, а у папочки сынок бегает, Ванечка-меньшой! Хо-хо-хо!
– Кто же эта шведка?
– Бог весть! Кто-то говорил, баронесса Вреде, урожденная Скарре, но доподлинно никому не известно. Князь потом привез мальчика на Русь, записал Бецким. И, по настоянию его императорского величества Петра Первого, отрока отправил учиться в Данию. В местный кадетский корпус. Не окончил, потому что свалился с лошади и сломал ногу. Вот с тех пор и прихрамывал… А закончил обучение в университете Лейпцига… Оказался в Париже, где служил в русской миссии секретарем – при посланнике, князе Долгоруком…
Самодержица, чувствуя, что невольно подобралась к факту знакомства Бецкого с ее матерью, герцогиней Иоанной-Елизаветой Ангальт-Цербской, быстро закруглила рассказ:
– Ладно, так до бесконечности можно вспоминать. Чаю мы попили и потолковали о том о сем – что ж, пора и честь знать. Я зайду к Иван Иванычу – как он там? – да и спать поеду. Завтра трудный день. Ну а вы, коли что, не дай Бог, случится с недужным – сразу сообщайте.
– Непременно, ваше величество, в тот же самый миг.
Умирающий при ее появлении приоткрыл глаза. И проговорил:
– Ты ли это, Катя?
– Я, Иван Иваныч, кто ж еще!
– Уезжаешь, да? Больше не останешься?
– Засиделась больно. Ты не огорчайся: может, загляну завтра.
Воодушевившись, старик взмолился:
– Загляни, Катюша, сделай милость! Я уж постараюсь до завтра не отойти. Столько хотел еще сказать! Приезжай, пожалуйста. Может, напоследок…
– Обещаю: приеду.
– Ручку дозволь облобызать.
Протянула ему ладонь, он приник к ней холодноватыми спекшимися тубами. Прошептал: «Доченька родная…» Или показалось?
Государыня склонилась и поцеловала его в лоб.
День второй: 31 августа 1795 года
1
Вроде полегчало: духоты прежней нет, из окна веет ветерок. Облака на небе. Хорошо бы дождик! Все соскучились по его живительной влаге – люди, зелень, земля… Полегчало-то полегчало, только голова все равно тяжелая. Удивляться нечему: задремала только под утро. Повлияли волнения ночи: умирающий Бецкий, разговоры, воспоминания… Душу разбередили. Ехала домой в угнетенных чувствах, а потом молилась под образами. Об Иван Иваныче, Сашеньке и Костике… и чуть-чуть о Тоше… и о Леше Бобринском, и о Лизе Темкиной… А о Павле пусть его жена молится, коли пожелает!.. Грустно просыпаться одной. Раньше хоть собачки-левретки веселили. И особенно – солнышко Земира, как я ее любила! А она меня. Чудные глаза. Понимала все, словно человек. Разве что могла только лаять. Так я горевала по ее смерти – только о Потемкине больше! Десять лет как она преставилась. Надо помянуть. После зареклась я иметь собачек – лишь привяжешься и полюбишь, а она уже померла. Короток век собачий. Да и человечий не намного больше. Вроде еще вчера я была молодой да сильной. А уже почти что старуха. Прожила жизнь, надеясь: завтра, завтра будет настоящее счастье. И теперь ясно понимаю: лучше уже не будет. Никогда! Только хуже, хуже, хуже. Еду с ярмарки. Впереди только одинокая старость и смерть.
Это перемена погоды действует на нервы. Видимо, быть дождю. Бецкому и тут повезло: уезжать в дождь – добрая примета. Вроде крестишься заново. А когда уезжаешь навсегда, то тем более. Бецкий вообще везунчик, баловень судьбы, хоть и сетовал на свое бастардство. Прожил долгий век – славно, мирно, без особых трагедий, но зато знал любовь красивейших женщин, совершил много добрых дел. Уготовано местечко в раю. Там и встретимся. Я надеюсь, что Господь не осудит меня на вечные муки. Смерть Петра Федоровича вовсе не на моей совести, Пугачева казнили за дело. А других тяжких прегрешений за собой я не вижу. Фаворитов меняла часто? Так ведь потому что сердце жаждало страсти и любви. Бог есть любовь. Нешто за любовь можно осуждать?
Шесть часов уже, надо подниматься. Если б кто-то знал, как не хочется! Полежать, поваляться еще немного, всех просителей погнать в шею и устроить праздник. Фейерверки, кушанья, балет… Но нельзя, нельзя: не поймут, осудят. А тем более скоро фейерверк будет – на балу в честь тезоименитства Лизоньки, юной супруги Сашеньки, там и погуляем. А сегодня рабочий день. Есть порядок. И его нарушать не след. Все-таки сильна во мне немецкая кровь. И никто не знает, есть ли еще и русская вперемешку со шведской…
Что надеть? Вот, пожалуй, этот голубой пеньюар. И такой же чепчик. В нем я буду выглядеть очень импозантно. Пусть меня такой и увидит Тоша. Может, хоть сегодня допустить его в мой альков? Фуй, да я же обещание дала Бецкому – снова заглянуть. Кто меня тянул за язык? Доброта моя иногда бывает чрезмерной. Многие этим пользуются. Или не поехать? Вновь полночи – коту под хвост. Днем-mo не поеду, чтобы не вызывать пересудов. Нет, поехать надо. Бедный Иван Иваныч будет ждать. Если не помрет. Хоть бы помер уже скорее! Господи, прости. Говорить так грех, но, с другой стороны, если разобраться – часом раньше, часом позже, для него все едино, а для нас кругом – облегчение. И особенно для меня. Сразу отпадает необходимость навещать больного. Нового ничего не скажет, а тогда зачем? Да, пожалуй, если не помрет даже, не поеду сегодня. Нервы не железные. Надо попросить у Иван Самойлыча Роджерсона капель успокоительных. Чтобы пережить столько огорчений. Или же поехать? Ладно, там посмотрим. Времени до вечера еще много.
Тюльпин, как всегда, принес кофе.
– Что толкуют в городе, Захар?
– Так ведь что толкують, ваше императорское величество? На Неве утопленницу словили. То бишь ея хладное тело. Кто такая – не знають. Да еще чреватая. Может, и сама в речку сиганула, дабы смыть позор?
– Ужасы какие!
– А еще, говорять, Бецкий скоро кончится. За священником бегали, дабы соборовать. – Камердинер перекрестился. – Успокой его душу грешную, Господи Иисусе!
Государыня тоже перекрестилась. А потом сказала:
– Если бы он кончился, мне бы доложили. Не было посыльных от Де Рибасов?
– Перед тем как зайтить к вашему величеству, не видал-с.
– Позови ко мне Королеву.
– Слушаюсь.
У Протасовой, как всегда, цвет лица был великолепный, чистый персик, вроде и не ездила полночи с государыней к отходящему генералу.
– Ты сегодня готова снова ехать?
Безразлично дернула плечиком:
– Как прикажете, матушка-государыня. Я велю немому Кузьме, чтоб сидел наготове?
– Погоди пока. Я еще не решила.
– И то верно. Для чего дважды навещать? Снизошли, простились – слава Богу, был в своем уме, осознал и смог оценить. Больше ничего и не надо.
– Ты считаешь?
– А к кому еще вы ездили дважды? Ни к кому. Что-то не припомню.
– Верно, ни к кому. Но Иван Иваныч – человек особенный. В лучшие его годы был мне близкий друг. Очень близкий друг. Фавориты менялись – Бецкий оставался. Только Глашка Алымова нас тогда рассорила. А потом он и вовсе заболел…
– Он, поди, уж в беспамятстве нынче.
– Говорят, что соборовался.
– И на похороны поедете?
– Нет, вот это уж вовсе ни к чему.
– Ну, так и сегодня побудьте дома. Не ровен час, дождик хлынет.
– Может, и останусь.
Пили кофе и болтали о пустяках.
Облачившись в утреннее платье, самодержица переместилась к себе в кабинет. Писем было много – больше двух десятков. Рассмотрев конверты, большинство из них отдала на прочтение Гавриилу Романовичу Державину, а сама вскрыла только три – от его величества короля Швеции, от сыночка – Алексея Бобринского, а еще из Парижа от Мельхиора Гримма, в переписке с которым состояла много лет.
Гримм писал ей в частности (по-французски): «Город наш бурлит, как и прежде. Невозможно понять, кто чего добивается, и порой буквально на двух соседних площадях можно услышать прямо противоположные лозунги, что нередко выливается в уличные драки. Несмотря на строгости, вплоть до смертной казни за учинение беспорядков и сопротивление властям, мало кто стесняется в действиях и словах. А принятие Конвентом новой Конституции лишь усугубило взрывоопасность ситуации: роялисты, осознав, что легально к власти они теперь не придут и монархию не вернут, судя по разговорам, начали копить силы для переворота. В город стягиваются войска во главе с небезызвестным Вам Буонапарте. Он клянется, что поддерживает Конвент, но никто не знает, что на самом деле на уме у этого маленького тщеславного корсиканца. Бедная Франция! Бедная старушка Европа! До чего докатилась ты к исходу галантного XVIII века?!»
Бобринского волновали исключительно собственные проблемы: он хотел жениться на баронессе Анне Владимировне Унгерн-Штернберг, дочери коменданта Ревельской крепости[46]46
Ныне Таллин.
[Закрыть]. Уверял, что любит ее безмерно, и она его тоже, и просил благословить и позволить приехать в Петербург, хоть на несколько дней, ибо он в дальнейшем собирался проживать с молодой супругой в замке Обер-Пален в Лифляндии.
А король Густав IV сообщал, что весьма благосклонно отнесся к предложению ее величества о возможном его бракосочетании с ее высочеством великой княжной Александрой Павловной. Но поскольку он еще не достиг совершеннолетия и такие вопросы вынужден решать, согласовывая их с регентом, герцогом Зюдерманланским, то и просит разрешения им вдвоем посетить Россию для знакомства с невестой, шведско-русских переговоров на высшем уровне, а затем, не исключено, обручения молодых.
Отложив письма и сняв очки, государыня погрузилась в раздумья. Волновал даму не король – будущая партия ее внучки, Шурочки, представлялась делом решенным; волновал не сын – кажется, проект поженить его с младшей сестрой Елизаветы Алексеевны, маркграфиней Баденской, не удался; волновал Париж. Революционная Франция представляла угрозу миропорядку. Да, конечно, в России революция невозможна – нет общественной силы для нее (третьего класса, о котором прожужжал все уши Бецкий), но идеи, идеи будут развращать умы поколений. «Конституция! Равенство! Республика!» Наши дворяне учатся в Европе. Завезут; завезут заразу. И остановить это невозможно. Если только не остановить саму Францию. И вернуть там всё на круги своя. Пусть парламентская, конституционная, но монархия. Только так, как в Англии, Швеции, Голландии. А для этого и нужен Суворов. Он одним ударом завоюет Париж. Главное – направить его полководческий гений в нужное русло. На Париж и Константинополь, а не на Москву или Петербург. Нам военный переворот ни к чему. И диктатор Суворов тоже никого не устроит.
На письме короля Густава самодержица начертала: вице-канцлеру Безбородко – подготовить ответ за моей подписью с приглашением посетить Россию в будущем году. На послании сына вывела резолюцию: Завадовскому – разрешить женитьбу, он уже взрослый человек, волен распоряжаться собственной судьбой.
Бросила перо и опять задумалась.
Хочет жениться – пусть женится. Запрещать не могу, даже на правах матери и императрицы. Может быть, со временем сделаю его наместником в Курляндии. Неплохое местечко, между прочим, и вблизи Питера. Бог с ним, с Бобринским, вообще. Что греха таить, я плохая мать. То есть никакая. Дети волновали меня всегда в последнюю очередь. Только с точки зрения престолонаследия. Павла не люблю – потому что, во-первых, слишком напоминает Петра Федоровича, во-вторых, потому что соперник, вечный мой укор, что не отдала ему власть. Бобринский мне мил, но не более того; я заботилась о его образовании, покупала ему имения и крестьян; но общение с ним мне неинтересно; в сущности, чужой – нет, скорее, чуждый человек. Я его не растила и не знаю привычек, забот, умонастроений. Переписку вела через третьих лиц – Бецкого, а потом Завадовского. Точно так же с Тёмкиной. Тоже не растила; выдала замуж – и слава Богу. Дети – побочный продукт моей жизнедеятельности. Убивать жалко, но и дело иметь с ними скучно. А порой головная боль. Внуки – совсем другое. Сашку обожаю. Костю – меньше, но все равно. Лишь на них надеюсь. Новое поколение – новые горизонты. Им ваять XIX век. Наш XVIII был галантный, гламурный. А каким будет XIX? Механический – паровые машины, новые пушки, воздушные шары? Станут ли люди такими же механическими, очерствеют, охладеют к опере, балету, любви? Будут не любить, а только совокупляться для продолжения рода? Бр-р… Я надеюсь, что нет. Люди остаются людьми при любых обстоятельствах. Бецкий, подружившись с Дидро, Руссо и Вольтером, начитавшись их книжек, был уверен, что просвещение сделает людей лучше. Безусловно, грамотный человек лучше дикаря. Больше похож на человека, чем на скотину. Но по сути – такой же. Пьет, дерется, сквернословит, тратит деньги при их наличии, отдается страстному вожделению. Человек будет человеком даже на воздушном шаре. Это хорошо и плохо одновременно. Хорошо – что не сделается сам механизмом. Плохо – что не сможет никогда вытравить из себя зверя…
Мысли ее оборвали братья Зубовы – Валериан и Платон. Младший брат был по виду намного мягче и в свои 24 года походил на 17-летнего подростка; портила его деревянная нога, на которую молодой человек наступал еще с трудом, опирался на палку. Тоша, выше Валериана на целую голову, вел себя покровительственно, словно опекун или же родитель. Поздоровались, приложились к ручке, попросили выслушать. Старший развернул географическую карту Кавказа с нарисованными синими стрелками – наступлением Ага Магомет-хана. Доложил, что еще немного, и пойдет битва за столицу – Тифлис. Если Валериан не выедет на театр военных действий немедля и не приведет на подмогу царю Ираклию русские войска, дело будет проиграно.
Самодержица, подумав, ответила:
– Я боюсь, что дело уже проиграно. – Провела ладонью по карте. – Сведения ваши двухнедельной давности. Где сегодня персы, мы теперь не знаем. Может быть, Тифлис уже пал. Или же падет за те две недели, что займет поездка Валериана Александровича. Больше, больше двух недель, ибо двинуть наши войска с ходу не получится. Словом, о подмоге Ираклию речь уже не ведем. – Тяжело вздохнула. – Но дальнейшие планы строить надо. Отогнать Ага Магомет-хана мы обязаны. Слышали о его зверствах? Мне писали доверенные лица. Чтобы овладеть целой Персией, он приказывал разрушать города противников. Умертвлять всех мужчин и глумиться над женщинами. Угонять детей в рабство. А слепого и дряхлого правителя Хорасана, сдавшегося без боя, так пытал расплавленным свинцом, чтобы выведать, где сокровища Надир-шаха, что несчастный умер. Нам такой сосед ни к чему.
Младший Зубов, взволновавшись рассказом императрицы, с пафосом воскликнул:
– Я готов исполнить волю вашего величества! Только прикажите!
– Хорошо, хорошо, голубчик. Отправляйся вскорости на Кавказ, ознакомься с состоянием нашей армии, проведи рекогносцировку и потом доложи нам во всех подробностях. С тем, чтобы будущей весной взяться за осуществление плана.
В разговор вступил и Платон:
– Я считаю, ограничиться отвоеванием одной Грузии мы не можем. Всем известно, что Ага Магомет-хан – скопец, у него нет прямых наследников. Этим надо воспользоваться, чтобы посадить на персидский трон своего человека, дружественного России. Я имею в виду племянника Магомет-хана, Баба-хана, человека образованного, умного, пишущего стихи. С ним вполне реально договориться.
Государыня кивнула с улыбкой:
– Да, скопцы долго не живут…
– Можно и помочь ему отправиться в мир иной: подослать в его окружение верного нам турка или перса…
– Было бы неплохо.
– Лишнего России не надо, но уж Грузия, Бакинское и Дербентское ханства, Карабах и Талышские горы – наши!
– Ох, уж ты замахнулся, Платон Александрович! – продолжала веселиться Екатерина.
– Надобно мечтать и стремиться к этому.
– Славно, господа. Не держу вас боле. Коли выполните задуманное, без чинов, наград и десятков новых крестьянских душ не останетесь, обещаю.
Оба, шаркнув ножкой, обнадеженные, ушли. Посмотрев им вслед, самодержица хмыкнула, что должно было означать: «Молодые, горячие. Пусть себе потешатся, коли есть охота. Может, что и выйдет хорошее. А испортить и без того плохую для России ситуацию на Кавказе вряд ли им по силам».
В кабинет зашел Гавриил Державин. Рассказал о ходе подготовки к празднованию тезоименитства и похоронам Бецкого. Так легко перешел от первого ко второму, что ее величество даже передернуло.
– Больно ты шустёр, Гаврила Романыч: рассуждаешь, о похоронах, словно Бецкий уже преставился.
Тот сказал шутливо:
– У него другого выхода нет, матушка-императрица. Должен нынче же отдать Богу душу, чтобы мы успели провести все необходимые церемонии 4 сентября. Ибо 5-го – тезоименитство и бал.
– Так-то оно так, но негоже все-таки говорить подобное о живом еще человеке…
– Понимаю, ваше величество, только обстоятельства вынуждают.
– Mais c’est cruel, vous êtes un homme sans-coeur.
– Moi? Non, je suis un homme sans larmes[47]47
– Но это ужасно, вы бессердечны.
– Я? Нет, просто не слезлив, (фр.)
[Закрыть]. Я предпочитаю смеяться, a не плакать.
– Но смеяться на похоронах – дурно.
– Ах, не более дурно, чем плакать на балах.
– Да тебя не переспоришь, друг мой.
– Слово – ремесло мое. Тем и славен.
Государыня в конце концов утвердила все произведенные им приготовления и, сказавшись усталой, удалилась из кабинета к себе в будуар.
Я Глафиру Алымову полюбила с первого взгляда: не ребенок, а сущий ангел – с чистыми, ясными, доверчивыми глазами. Мать отдала ее, шестилетнюю, в Смольный институт без особенных колебаний: их семья нуждалась, и освободиться от лишнего рта все сочли за благо. Самое удивительное, что, оторванная от дома, девочка не плакала. Видно, не скучала по заботам и ласкам близких – стало быть, забот с ласками не имела особенных. Быстро нашла подруг, и учителя не могли нахвалиться – так внимательна, аккуратна и вежлива была. И почти никогда не грустила – лишь доброжелательная улыбка на прелестных пунцовых губках. Глазки опустит долу, сделает книксен – воплощение покорности и готовности услужить. Тонкие изящные пальчики. Как они играли на арфе! Как Алымушка пела необычайно – звонким, высоким голоском! (Не чета музицированию моей матери!) Танцевала тоже неплохо. Помню ее в костюме сильфиды – легкая туника, тонкие точеные ножки, обнаженные ручки, волосы пучком на затылке. Так и хочется затискать, зацеловать!.. Госпожа де Лафон говорила о ней всегда в превосходных степенях, ставила в пример остальным «смолянкам». А уж Бецкий! Выделял всегда. И особые подарки дарил. Относился по-отечески до ее 14–15 лет. А потом, видимо, влюбился. L'âge ne Га pas rendu plus sage[48]48
Седина в бороду, бес в ребро (фр.).
[Закрыть]. Самому 70 или даже более. Не смешно ли? Предложил наградить ее золотой медалью за отличные успехи в учебе. Все, конечно же, его поддержали. Я назначила Глафиру фрейлиной. А жила она в доме Бецкого. Но не как жена или фаворитка – на правах дочери или же невесты. Бецкий намекал на возможные семейные узы, но формального предложения ей не делал. Видимо, хотел, чтоб она еще повзрослела, ждал 20-летия… Глаша мне призналась однажды: если он попросит руку и сердце, то она даст согласие. Чувствовала к нему если не любовь, так привязанность сильную.
Но Bibi не могла это вынести. Потому что тогда Бецкий завещал бы Алымке все свое состояние. Может, и не все, но большую его часть. Кто ж такое стерпит? Говорила, конечно, по-другому: чтоб спасти старика от позора, чтоб не стал посмешищем в глазах света, чтоб его здоровье не было подорвано чрезмерными физическими нагрузками. А на деле его добила: от разрыва с Алымовой с ним случился удар…







