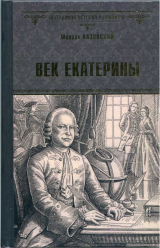
Текст книги "Век Екатерины"
Автор книги: Михаил Казовский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 25 страниц)
Ехали из Петербурга целых две недели – с остановкой в Твери, где пережидали трескучие крещенские холода и четвертование Пугачева на Болотной площади в Москве. Матушка-императрица, будучи уже на четвертом месяце, чувствовала себя сносно, но просила, чтобы санный поезд двигался неспешно, плавно, дабы не растрясти младенца. Рядом ежечасно находился Потемкин, всем командуя и всем распоряжаясь. Свиту взяли небольшую по тем временам – человек сто: в основном ближайшее окружение, слуги, медики, повара, портные, цирюльники. Пребывал в одних из саней и Апраксин. Всеми мыслями был он уже во второй столице, рядом с Лизонькой и родившимся в ноябре ребенком – сыном Сашенькой…
Он узнал о его появлении от Натальи Кирилловны. Та прислала генералу записку по-французски: «Поздравляю папочку с маленьким наследником, Александром Петровичем». Петр Федорович не выдержал и понесся к Загряжским, чтоб узнать подробности. Старшая сестра многого не знала сама, просто зачитала ему письмо от Васильчиковой Анны Кирилловны: Лизонька разрешилась от бремени в ночь на 9 ноября, осложнений не было, мальчик крепенький и сосет ретиво. А внизу приписка, сделанная рукой молодой мамаши: «Натали, сообщи, пожалуйста, ПФ. На словах передай, что его мы оба очень, очень любим». Генерал упал на одно колено и поцеловал Наталье Кирилловне руку.
Москвичи встретили императрицу хлебом-солью. Вышедший вперед генерал-губернатор Первопрестольной – генерал-аншеф Волконский – произнес приветственную речь, выдыхая воздух изо рта с паром (все-таки мороз минус двадцать по Цельсию стоял). Государыня махнула платочком:
– Будет, будет, Михайло Никитич, знаю преданность мне твою и жителей Белокаменной. Холодно стоять. Отогреемся, пообедаем, за столом ужо потолкуем.
Разместили Апраксина в дальнем левом флигеле дворца, ближе к церкви Антония и Феодосия. Из окна его комнаты различались крыши Пречистенки (в обиходе – Волхонки, называемой так по находящейся тут усадьбе Волконского), а на ними – золотой купол колокольни Ивана Великого в Кремле. Рядом был Колымажный двор – царские конюшни и площадка с каретами («колымага» изначально – крытый боярский экипаж), от которого пахло конским навозом, сеном, сбруями, так что генералу приходилось иногда выбирать: париться в жарко натопленном помещении, но не отворять фортку или открывать, но при этом обонять колымажные ароматы.
Петр Федорович сполоснулся с дороги и переоделся в чистое, надушился одеколонью. Выйдя из дворца, посетил церковь, свечки поставил за упокой родителей и за здравие двух своих сыновей и Лизы. Помолился у иконы апостола Петра, своего небесного покровителя, и архангела Михаила, покровителя всех воинов земных. Шапку нахлобучил и вышел на мороз.
Под ногами хрустел молодой снежок. Заходящее солнце бликовало в его хрусталиках. Генерал оказался на Пречистенке и свернул направо, в сторону Арбатских ворот. Из печных труб к небу поднимался белесый дым – всюду печки топились исключительно дровами. По накатанной дорожке проносились санки. На Арбатской в трактире разливалась гармошка.
От дверей до дверей было четверть часа ходьбы. В самом начале Воздвиженки, что идет от Арбата до Кремля, Петр Федорович нашел дом Васильчиковых – двухэтажный, с портиком и балконом. Позвонил в дверной колокольчик.
Появился привратник в пегом парике и с прокисшей рожей, пыхнул изо рта горячими щами. И спросил:
– Ваша светлость чего изволит?
– Доложи: генерал-адъютант Апраксин дело имеет до господ.
– Милости прошу, ваша светлость, доложу сей же час.
Вышел мажордом – тот же, что служил у хозяев в Петербурге, поклонился, приветствуя:
– Здравия желаю, Петр Федорович. Прошка, шубу прими его светлости. Господа оповещены^
Из дверей навстречу выплыл сам Василий Семенович в стеганом халате и ночном колпаке с кисточкой – явно сорванный с послеобеденного одра.
– Петр Федорович, голубчик, вы ли это? Господи, как я рад вас видеть! Разрешите обнять по-дружески?
– Окажите честь, Василий Семенович, – трижды не поцеловались, но соприкоснулись щеками. – Я прошу пардону, что невольно вас разбудил: не сообразил, что в такое время наносить в Москве визиты не стоит.
– Пустяки, пустяки, дражайший генерал, это я прошу у вас извинения, что совсем стали москвичами – завели дурную традицию отдаваться Морфею, отобедав. А животик растет от этого! Скоро панталоны придется перешивать.
Не успел Апраксин что-то ему ответить, как услышал радостный крик за спиной. Обернулся и увидел свою Лизу, весело летящую к нему, вытянув руки, даже этим жестом силясь сократить расстояние между ними.
– Золотая моя, любимая!
– Петечка, любимый!
Поцелуям, объятиям не было конца. А Василий Семенович, глядя на влюбленных, даже прослезился. Тут же из дверей вышла Анна Кирилловна, чуточку располневшая, но такая же стройная, в кружевном чепчике дормёз, юбке и кофте карако. Ласково поздравствовалась и спросила:
– Как доехали? Как ея величество?
– Слава Богу, никаких происшествий.
– Мы бы тоже вышли навстречу, но никто никого не предупреждал – мы не ведали ни дня, ни часа царского прибытия…
– Так оно задумано. Никаких ассамблей и приемов. Государыня в Москве как бы с частным визитом. Приглашает только тех, кто ей крайне нужен.
– Понимаем, да – ведь в ея положении…
– Как, и вы знаете?
– Слухами земля полнится.
Лиза повела генерала в свои комнаты – по дороге он успел поцеловать ее в шейку три раза. Заглянули в детскую – там дородная баба, выпрастав из лифа колоссальную грудь, сидя на табурете, вскармливала младенца. Разумовская улыбнулась:
– Познакомься с Сашенькой…
Умилившись, Петр Федорович ласково погладил его по головке. Мальчик бросил сосать и уставился на отца бессмысленными глазами. А потом с резким звуком срыгнул, замарав подбородок и пеленки. Баба принялась его утирать.
– Ангелочек, правда? – устремила радостный взор к неназванному супругу Лиза.
– Правда, правда, – не совсем уверенно ответил Апраксин; эти груднички, не оформившиеся еще в симпатичных бутузов, напрягали его (с Федей было точно так же – до его четырех-пяти месяцев). – Превосходный малыш. Скоро обвенчаемся и запишем его на мою фамилию.
Женщина просияла:
– Скоро? А когда?
– Думаю, что к лету. Анна Павловна к сему времени верно пострижется.
– Вот и славно выйдет.
Пили чай в столовой. Москвичи расспрашивали петербургского гостя о столичных новостях.
– Правда, что ея величество недолюбливает невестку?
– Врать не стану, не знаю. Но Наталья Кирилловна говорила, будто у великой княгини более чем дружеские связи с братцем вашим, Андреем Кирилловичем. Может быть, поэтому?
– Да, я тоже слышала, – подтвердила Анна Кирилловна. – Якобы она настраивает царевича против матери. Упрекает свекровь, что не хочет передать сыну трон. Ведь формально Екатерина править должна до совершеннолетия Павла. А ему исполняется двадцать один в этом сентябре.
– А свекровь упрекает невестку, что никак не обрадует ея внуком, – замечал Василий Семенович. – Мне мой брат рассказывал…
– Господи, о чем вы толкуете? – упрекала родичей Лизавета. – Все эти дворцовые сплетни только горечь оставляют на сердце. Пусть цари сами разбираются в своем доме. Я так рада жить в Москве, в стороне от этих интриг.
– Ты от них уехала, а они к тебе приехали нынче, – отозвался Апраксин. – Нам от них никуда не деться, душенька.
– Это-то меня и тревожит.
Вскоре генерал начал собираться обратно в Пречистенский дворец: вечером намечались карты у императрицы, и его пригласили также. Обещал заглядывать в дом к Васильчиковым каждый Божий день, про себя подумав, что, возможно, и ночь…
В первое время так и выходило.
Но уже где-то по весне государыня с глазу на глаз сообщила нашему военному:
– Разумовский мне прислал новое разгневанное письмо, знаешь?
– Нет, откуда ж знать? Чем же он теперь не доволен?
– Да все тем же. Пишет, что преступные отношения его дочери с генералом Апраксиным продолжаются по сей день как ни в чем не бывало, между тем как Анна Ягужинская до сих пор не постриглась.
– Скоро пострижется.
– Вот и нет. Ведь она возвратилась в Петербург.
Петр Федорович ахнул:
– То есть как – возвратилась?!
– Очень просто. Говорят, раздумала принимать схиму.
– Быть того не может.
– Верь – не верь, токмо у меня сведения надежные.
– Я немедля отправлюсь восвояси и узнаю сам.
– Да уж, сделай милость, голубчик, – согласилась императрица. – Как-нибудь воздействуй на свою половину. А иначе мне придется вновь тебя и Лизу силой разлучить. Я бы очень этого не хотела: я всегда на стороне любящих сердец. И тем паче у вас сынишка…
Генерал прижал руку к сердцу:
– Можете не сомневаться, ваше величество: я употреблю все мое влияние, дабы разрубить сей гордиев узел.
– Постарайся, пожалуй.
4
Северная Пальмира встретила его теплым ветерком с Финского залива, «плачущими» сосульками с крыш и подтаявшими сугробами снега. Дворники скребли тротуары, грелись на солнышке коты в окнах, а наряды петербуржцев на улицах начинали из угрюмых темных зимних тонов понемногу расцвечиваться яркими весенними.
Удивившийся негаданному приезду барина мажордом закланялся и зашаркал ножками по паркету. Не ответив на его здравицы, Петр Федорович раздраженно спросил:
– Анна Павловна у себя?
– Точно так, ваша светлость, где ж им быть, пребывают в собственном будуаре.
– Пусть Марфушка доложит: дескать, я хочу ея видеть.
– Сей момент распоряжусь, не извольте беспокоиться.
Подуставший в дороге генерал не спеша поднялся по лестнице. Прибежавшая горничная Марфушка засуетилась:
– Не прикажете чего принести – водочки, винца?
– Нет, простой воды.
– Может, квасу?
– Хорошо, квасу.
– Клюквенного, яблочного, брусничного?
Он махнул рукой:
– Да неси хоть какой-нибудь!.. Ладно, яблочного давай.
Опустился в кресло. Мягкий, прохладный квас освежил немного, умиротворил. В голове как-то прояснилось.
Медленно прикрыл веки. Вдруг почувствовал, что бессонная накануне ночь (донимали клопы на почтовой станции) начинает сказываться на нем, делая руки-ноги ватными, убаюкивая, расслабляя… Но, услышав легкую походку жены, сразу встрепенулся.
Анна Павловна в высоком чепце и бесформенном пеньюаре выглядела совсем по-домашнему. Вроде и не ездила на моленье. Все такая же гибкая, аристократичная, с ядовитоязвительным взором. Поздоровалась, чуть картавя:
– Здравствуй, Пьер. Вот не ожидала. Ты какими судьбами из Москвы?
– Догадайся с трех раз.
Усмехнулась:
– Ты примчался уговаривать меня все-таки постричься? – Села на диванчик напротив. – Ах, не утруждайся. Я решила повременить. То есть постригусь непременно, можешь не сомневаться, но, пожалуй, чуть позже. Лет, наверное, через пять-восемь…
Петр Федорович посмотрел на нее исподлобья. И проговорил холодно:
– Это невозможно, сударыня. Ты мне обещала и изволь исполнять задуманное.
– Перестань, никому ничего я не обещала. Да, в минуту душевной смуты мне хотелось тишины, чистоты и покоя… Но одиннадцать месяцев, проведенных мною в обители, быстро остудили мой пыл. Мне теперь сорок два. И подумала: до пятидесяти я вполне еще могу повращаться в свете. Если и не грешить, то хотя бы не изнурять себя монастырской аскезой. А потом, на старости лет… глядя в вечность…
– Я всегда говорил: ты фиглярка.
– Что поделаешь, уродилась такою.
– И тебе безразлично, как твое решение отразится на других людях? Где ж твое христианское милосердие?
Ягужинская надломила левую бровь.
– Это на судьбе Лизки Разумовской? – хищно расплылась. – Да с какой стати? Отчего я должна думать о твоей полюбовнице? Пусть она думает о том, что прельстила чужого мужа. За грехи – расплата.
Генерал сказал с неприязнью:
– Кто бы говорил! А давно ли ты сама кувыркалась с нам известным поручиком?
Женщина вздохнула:
– Было, каюсь. Я почти год замаливала сей грех. Наш Господь милостив, Он простит.
– Уж не думаешь, что и я прощу?
– Почему бы нет? Ты грешил – я грешила, погуляли – раскаялись. И вернулись к семейному очагу. Сын у нас.
Петр Федорович поморщился:
– Прекрати чепуху нести. Наш разбитый семейный очаг невозможно склеить. Я люблю другую. У меня от нея тоже сын. Я хочу быть с ними. А тебя прошу об одном: написать расписку, в коей обязуешься окончательно уйти в монастырь летом сего года.
– Для чего расписка?
– Дабы убедить государыню, что я не преступник, не прелюбодей.
– Глупости какие. Ничего я писать не стану. И никто меня не заставит это сделать. А тем более ты.
– Ну, посмотрим, посмотрим. – Он поднялся шумно. – После договорим. Я устал с дороги. Должен отдохнуть. – Покривившись, кивнул и вышел.
Анна Павловна посмотрела супругу вслед, растянула губы в нарочитой улыбке, пробурчала себе под нос:
– Лопушок, лопушок… Вздумал из меня вить веревки? Я сама из тебя совью, коли пожелаю.
На обед генерал не вышел, и она кушала в столовой одна. А потом ей Марфушка нашептала:
– Сказывали, барин уехали в Гатчину к цесаревичу.
– Это еще зачем?
– Не могу знать, ваша светлость. Токмо торопились вельми.
– Странно, странно. – Ягужинская была явно озадачена.
Но, конечно, Петр Федорович поскакал вовсе не к великому князю, Павлу Петровичу, а к его другу детства – Разумовскому Андрею Кирилловичу. Мысль возникла притянуть брата Лизаветы на свою сторону и через него заручиться поддержкой наследника престола. А поскольку Апраксин не был знаком с Андреем, взял рекомендательную записку от Натальи Кирилловны Загряжской, по пути в Гатчину к ней заехав.
Посетил молодого графа (по военному чину – генерал-майора, бывшего флотоводца, ныне в отставке) во второй половине дня. Тот был щегольски одет, в красном жилете под зеленым камзолом, узколицый, насмешливый, на отца не слишком похожий, но зато – вылитая Лиза, чем расположил к себе визитера сразу. Говорили исключительно по-французски (Разумовский окончил Страсбургский университет и владел языком блестяще).
– Да, я знаю вашу историю от сестры Натальи, – покивал Андрей, голова в белом парике. – И весьма вам сочувствую. Более того, говорил о ваших приключениях с Павлом. Он считает заключение в крепость верхом негуманности. И готов замолвить за Елизавету словечко перед матерью.
– Но когда, когда?
– Думаю, что летом. Малый двор его высочества собирается в августе в Москву – праздновать заключение мирного договора с Турцией. Это был бы неплохой повод.
– Только в августе! – приуныл Апраксин.
– Ну, хотите, попрошу его теперь написать матери письмо?
– Было бы отлично.
– Что ж, договорились. – Оба поднялись и пожали друг другу руку. – Коли состоится, я пришлю вам конверт с курьером.
– С нынешней минуты нахожусь в полном ожидании.
Ехал в Петербург воодушевленный. Разумеется, отношения Павла с Екатериной сложные, но поддержка великого князя явно не будет лишней. А тем более, кто знает, всякое случается – не сегодня завтра Павел может стать императором. И тогда…
Возвратился домой около полуночи. Ужинать не стал и прямым ходом отправился к себе в спальню. Отослал слугу, сам разделся и лег. Не успел погрузиться в сон, как услышал скрип половиц у своих дверей. Приподнялся на локте.
В спальне появилась жена, освещаемая оранжевым пламенем свечки в руке: чепчик и ночная рубашка до пят.
– Аня, что ты?
Мягко улыбнулась:
– Я к тебе. Допускаешь?
– Прекрати фиглярничать. Этого не может быть никогда.
– Отчего же?
– Я люблю другую.
Ягужинская согласилась:
– Именно поэтому.
– То есть? – не понял Петр Федорович.
– Я подумала и решила. Написала расписку, что уйду в монастырь этим летом. Но с условием: нынешнюю ночь, самую последнюю в нашей общей жизни, проведешь со мною.
– Ты сошла с ума!
– Нет, нисколечко. Вот читай, – протянула ему осьмушку бумаги.
Развернув, он увидел:
«Я, графиня Апраксина Анна Павловна, урожденная Ягужинская, обязуюсь уйти в Киевскую женскую обитель во имя святых Флора и Лавра не позднее 1 иуля сего года». Подпись. Личная печатка.
Генерал поднял на нее растерянные глаза. Дама забрала у него расписку:
– Будет она твоею завтра утром.
Он пролепетал:
– Я не знаю, право… это ведь неверно…
– Верно, верно, – страстно прошептала она и задула свечку.
5
День спустя получил письмо из Гатчины. А поскольку конверт не был запечатан, то прочел его содержание. Вот оно (в переводе с французского):
«Дорогая мама! Я, ты знаешь, никогда не вмешиваюсь ни в какие твои дела, а тем более в личные отношения с дворянами. И на сей раз не стану. Просто мне хотелось бы, чтоб ты знала: Петр Апраксин – друг моего друга Разумовского, стало быть, и мой друг. Будь добра к нему и к Лизе Разумовской. Больше ни о чем не прошу. Любящий тебя сын Павел».
Что ж, недурно. Это послание, плюс расписка Ягужинской – неплохой улов путешествия его в Петербург. Можно возвращаться в Москву со спокойным сердцем.
На прощанье повидал сына. Но свидание оказалось кратким – тот бежал с лекций на коллоквиум и сумел переброситься с отцом несколькими фразами. Только успел спросить:
– Значит, свадьбе твоей с Елизаветой не быть?
– Отчего не быть? Маменька твоя письменно подтвердила, что поедет в киевскую обитель не позднее иуля. Вот в иуле и обвенчаюсь.
– У меня как раз каникулярное время. Можно я приеду в Москву?
– Да об чем разговор! Приезжай, конечно. Вместе отпразднуем бракосочетание.
И они крепко обнялись.
По весенним раскисшим дорогам ехать было муторно: на санях уже поздно, а колеса то и дело увязали в грязи. Под конец путешествия голова и бока гудели от качания экипажа в разные стороны.
У Арбатских ворот вдоль деревянных мостовых весело бежали рыжие ручьи. Дети пускали по ним кораблики, сделанные из скорлупы грецкого ореха. Петр Федорович, выспавшись у себя в светелке Пречистенского дворца, а потом, сходив в баню, знатно попарившись и намывшись, посвежевший, румяный, побежал в дом Васильчиковых. Неожиданно Лизавета встретила его вся в слезах: Сашка простудился, кашляет, в жару. И врачи опасаются за его жизнь. Генерал сразу же подумал: «Это кара за мое грехопадение с Ягужинской», – но проговорил, обнимая свою возлюбленную:
– Ничего, ничего, дети все болеют. Федька мой два раза был на краю могилы – слава Богу, наша крепкая апраксинская натура не сдалась хворобам; Бог даст, Сашка тоже поправится.
Но на всякий случай поспешил обратиться к одному из придворных докторов, прибывших в свите императрицы, – Джону Роджерсону, шотландцу. Он считался в Петербурге лучшим специалистом, а когда вылечил сына княгини Дашковой от дифтерии, сделался очень популярен. Государыня, вообще скептически относившаяся к медикам, больше остальных доверяла именно ему.
Иностранец вышел к Апраксину несколько навеселе (время было послеобеденное, и, как видно, трапеза его обильно сопровождалась поглощением пива, столь любимого всеми британцами). Петр Федорович обратился к доктору по-английски. Роджерсон угрюмо покачал головой:
– Нынче я не в форме… Но попробую привести себя в порядок. Погодите, сделайте одолжение.
– Стану ждать, сколько пожелаете.
Через четверть часа Джон предстал перед генералом совершенно трезвый, строго и со вкусом одетый, в парике, с небольшим саквояжиком в руке – непременным атрибутом каждого эскулапа.
– Я готов, сэр.
– Чудеса, да и только. Как вам удалось? Не дадите рецептик? Ведь иной раз тоже бывает необходимо… быстро «подлечиться»…
Роджерсон потешно зафыркал.
– Есть одна метода… Ничего сверхъестественного… Окатиться ушатом ледяной воды из колодца и потом осушить пинту чая с имбирем, медом и лимоном. Как рукой снимает.
По дороге к Васильчиковым Петр Федорович спросил:
– Как здоровье ея величества?
Медик посмотрел на него чуть пренебрежительно:
– Вы хотите, сударь, чтобы я открыл вам врачебную тайну?
– Боже упаси! Просто мне идти к ней по делу, и хотел бы знать, как ея настрой, самочувствие…
Тот помедлил, обдумывая будущие слова, и потом изрек:
– Настроение ниже среднего. Положение, в котором она находится, действует ей на нервы. Мелочи, запахи, вкусы – вызывают сильное раздражение. Если даме сорок пять, это всегда непросто…
– Значит, лучше к государыне пока не соваться, – подытожил Апраксин.
– Да, сэр. Без особой надобности я бы повременил.
Осмотрел ребенка, выслушал его стетоскопом, заглянул в рот и измерил температуру, вдвинув градусник ему в попку. Наконец, сказал: это не ложный круп, как считали предыдущие лекари, а всего лишь простуда, осложненная кашлем; надо насыпать горчицу в шерстяные носочки и давать больше теплого питья с малиновым вареньем, а от кашля – корень солодки; через два-три дня состояние, пожалуй, улучшится; если что – зовите меня без стеснения; а от денег категорически отказался, но поужинал вместе с Апраксиным с удовольствием.
На другое утро Петр Федорович, лежа в постели у себя в комнате Пречистенского дворца, долго размышлял, как ему действовать в дальнейшем, и решил передать царице бумаги через Потемкина – тот подловит благоприятный момент и доложит о затеянном ими деле. Да, Потемкин – самый верный ход. Уж ему-то она не откажет. А тем более, по бродившим при дворе слухам, вскоре собираются они обвенчаться. Значит, ссориться со своим нареченным Екатерина не станет.
Но судьба распорядилась иначе. Не успел генерал подняться, вымыться и побриться, как вошедший нарочный объявил волю самодержицы: сей же час к ней явиться на аудиенцию.
– Сердится? – спросил Петр Федорович, обмирая.
– Никак нет, ваша светлость, но приказы отдают больно уж решительно.
– Это не к добру.
Облачившись в мундир, сапоги, натянув парик, треугольную шляпу сжав в руке, поспешил к царице.
Та сидела в кресле, будучи в просторных одеждах, совершенно скрывавших ее беременность. Посмотрела на графа сквозь лорнет насмешливо.
– Ух, какой вояка, хоть сейчас на парад.
– Рад стараться, ваше величество, – отчеканил Апраксин.
– Вот и постарайся. Послужить мне опять не хочешь?
– На войну? – удивился он. – Но ведь с турками у нас замирение?
– Да какие турки! Наши расшалились. С Пугачевым-то, слава Богу, справились, но отдельные шайки еще лютуют. Надо постращать.
Кончики его губ опустились книзу.
– Нешто без меня нет жандармов? – глухо произнес. – Вон Суворов Пугачева брал с удовольствием.
– Стало быть, не хочешь?
– Я с народом российским не воюю, ваше величество.
У нее округлились и без того круглые глаза за очками.
– Вот как заговорил! Я, получается, воюю со своим народом? Это не народ, мон шер ами, а разбойники. Но коль скоро ты сочувствуешь бунтарям, значит, сам бунтуешь и тебя в узилище надобно.
Генерал ответил:
– Бунтарям не сочувствую ни малейшим образом, но и не сражаюсь. Дело мое – сторона. Я в отставке. И желаю мирным жителем оставаться.
Государыня усмехнулась:
– Интересно, как бы ты, голубчик, запел, если бы холопы твои стали жечь и грабить твою усадьбу, а твою жену сильничать. Тоже устранился?
– Я холопов бы не довел до подобной крайности.
– Значит, я, по-твоему, довела? Уж не забываешься ли ты, Петр Федорович? Понимаешь, кому дерзишь?
– Ах, помилуйте, ваше величество, у меня…
– Хватит. Баста. Коль не хочешь служить – не надо. Что там у тебя с Ягужинской? С чем приехал из Питера?
Он достал из-за пазухи мундира две бумаги, сложенные вчетверо, протянул Екатерине с почтением. Та взяла, первым пробежала глазами обращение Павла. Бросила на столик, только промахнулась, и письмо соскользнуло на пол. Проронила с неудовольствием:
– Мой сыночек – большой добряк. Попросил его Разумовский – он и подмахнул, не подумав. Как такому доверить всю империю? – Покачала головой огорченно. – Пустит прахом страну. Вот не повезло! – развернула расписку Анны Павловны, углубилась в чтение. Подняла глаза: – Грамотка-то филькина.
– Отчего же филькина? – поразился Петр Федорович.
– Даты нет. «Не позднее первого иуля сего года». А какого года? Не указано.
– Нынешнего, ясно.
– Нет, не ясно. Вы решили меня надуть. Думаете, коли я в расслабленных чувствах, так и не замечу подлога?
– Да какого подлога, право слово! Анька число не вписала по глупости али по забывчивости. Я за нея поставлю, коль на то пошло.
– Ой, гляди, рискуешь, Апраксин. Всю ответственность берешь на себя. Коли Анька теперь нам натянет нос, я тебе тогда не спущу, так и знай. Уж тогда не сетуй.
– Не посетую, ваше величество. Знаю всю ответственность. – Обмакнул в чернила перо, взятое на столике, и поставил дату: 5 апреля 1775 года.
Самодержица забрала письмо:
– У себя оставлю. Чтоб не отпирался потом.
– Я не отопрусь, слово дворянина.
– Уж конечно, не отопрешься.
6
Точную дату бракосочетания государыни и Потемкина Петр Федорович не знал, ибо не присутствовал на этой тайной церемонии. Якобы случилось все вскоре по приезде царского двора в Белокаменную, в храме Вознесения у Никитских ворот. Совершил обряд духовник императрицы – Иван Панфилов, а венцы держали камергер Чертков и племянник Потемкина, Самойлов. Здесь же была и маменька жениха – Дарья Васильевна, жившая в Москве, возведенная августейшей невестой в статс-дамы.
Как бы там ни происходило на самом деле, но Потемкин, встретившись с Апраксиным вскоре после появления того из Петербурга, шепотом похвастался:
– Мы уже венчанные супруги.
– Поздравляю. Счастлив?
– О, не то слово. Даже не мечтал прежде.
– Ты теперь принц-консорт фактически.
Улыбнувшись, Григорий Александрович театрально воздел руки:
– О, не сыпь пышными словами. Это может не понравиться Катеньке. Я не принц и вовек им не стану, ибо благоверная моя никогда ни с кем не поделится ни титулом, ни властью. Мне сие и не нужно. Роль простого супруга исполняю с радостью.
– А родившегося ребенка как запишете?
– На мою фамилию. Токмо с усечением. Мы договорились: мальчик будет Тёмкин, девочка, соответственно, Тёмкина. Отчество – мое.
– Хорошо.
– Вы-то с Разумовской когда? Я читал расписку от Ягужинской – «не позднее первого иуля».
– Так и будет. В середине лета.
– Здесь, в Москве, хочешь?
– Нет, пожалуй: меньше глаз – меньше слухов. Под конец вёсны все семейство Васьки Васильчикова собирается перебраться в Лопасню – там имение его брата Александра. Не исключено, что и я заеду… ну и там… в деревенской церковке…
– Было бы чудесно. Свадебный подарок с меня.
– Благодарствую от души.
– Нет, заране благодарить не пристало.
Под конец июня прискакал из Питера Федя Апраксин, сдавший экзамены за второй курс. Прожужжал все уши столичными новостями, и отец, подустав от сплетен, оборвал его и нетерпеливо спросил:
– Маменька уехала в Киев?
Сын похлопал рыжими ресницами:
– Нет пока. Но к иулю вроде собиралась.
– «Вроде» или собиралась?
– Честно говоря, я почти не виделся с нею. Накануне отъезда заезжал домой, но ея не застал и оставил у мажородома на прощанье записку.
Генерал проворчал:
– Вот каналья. Что ж теперь, не венчаться мне?
– Ах, папа, не переживай. Коли обещала – уедет.
– «Не переживай»! Не хватало мне прослыть не токмо прелюбодеем, но и клятвопреступником!
Тем не менее бракосочетание у них состоялось утром 10 июля. Церковь Зачатья святой Анны, небольшая, пятиглавая, с колоколенкой рядом, выглядела уютной, без столичной помпезности. Над невестой венец держала Анна Кирилловна, а над женихом – Василий Семенович. Обменялись кольцами и скрепили союз целомудренным поцелуем. Стол накрыли в саду усадьбы. Федя выпил лишнего и назойливо кричал: «Горько! Горько!» На коленях у няньки прыгал Сашка – он благополучно поправился после правильного лечения Джона Роджерсона, а на свежем воздухе подмосковной усадьбы совершенно расцвел, превратившись в славного краснощекого карапуза. В общем, все случилось как нельзя лучше.
А 13 июля государыня разрешилась от бремени, подарив миру девочку – Лизавету Григорьевну Тёмкину. Опьяневший от счастья отец закатил у себя в покоях Пречистенского дворца мальчишник, на который позвали и Апраксина; съедено и выпито было столько, что Петра Федоровича в бессознательном состоянии унесли слуги к нему в светелку – он проспал после этого сутки, встал опухший, с головной болью, и лечился сначала методом Джона Роджерсона – чаем с имбирем, а когда не помогло – огуречным рассолом. Кончилось тем, что его стошнило – мощно, смачно, и уже потом сознание постепенно начало проясняться.
А спустя еще неделю генерала снова пригласили к Потемкину. Ожидая новые возлияния, потащился к фавориту-мужу с тяжелым сердцем. И не угадал: тот желал с ним увидеться по другому поводу. Был взволнован и как будто бы даже чем-то удручен. Так и бросил, когда приятель появился у него на пороге:
– Петя, Петя, у меня для тебя дурные вести!
– Что такое? – испугался молодожен.
– Кате принесли депешу из Петербурга. От Кириллы Разумовского. Скверное, говнистое.
– Да неужто?
– Пишет, что его дочка и Апраксин обманули императрицу. Обвенчались, не дождавшись пострига Ягужинской. А она и не думает никуда ехать. Получается, вы нарушили мирской и церковный законы. И ея величество крайне негодует, собирается вас примерно наказать.
Петр Федорович, плохо понимая, что делает, сжал ладони Потемкина:
– Гриша, помоги, заступись, Христом Богом тебя молю! Убеди царицу с расправой повременить, Ягужинская выполнит обещанное, я не сомневаюсь…
Неожиданно соратник резко отнял у него руки и ответил холодно:
– Тихо, тихо, что за амикошонство? Все ж таки не забывай, с кем имеешь дело…
– Извини, забылся… под напором чувств…
– Я и так делаю, что могу, больше, чем могу. Но мое влияние тож небезгранично. А тем более, что у Катеньки, как у многих рожениц, наступило состояние черной меланхолии. Все вокруг ей не мило. Получается, ты попал под горячую руку…
– Да неужто принято уже некое решение? – Генерал даже вздрогнул.
Отведя глаза, фаворит ответил:
– Я не ведаю… но имей в виду… и готовься к худшему…
– «К худшему» – это как? Уж не к смертной ли казни?
– Ну, до казни, я думаю, дело не дойдет… Но Сибирь – не исключено. И лишение генеральского чина…
– Бог ты мой!
Подошел к Апраксину и слегка приобнял его за плечи:
– Не тужи, дружище. Я тебя в любом случае вызволю. Подвернется счастливый случай – вызволю немедля. Но покамест готовься.
– Получается, знаешь наверняка?..
Муж Екатерины вздохнул:
– Извини. Я и так сказал тебе больше, чем положено.
7
Утром 30 июля 1775 года унтер-офицер лейб-гвардии Московского батальона Прокопий Прутков вместе с тремя солдатами объявил Апраксину приказ генерал-губернатора Москвы генерал-аншефа князя М.Н. Волконского об аресте Петра Федоровича по распоряжению ее величества. На вопрос, а куда его, собственно, везут, унтер-офицер ответил:
– Мне не велено вступать с вами в разговоры.
– Хоть дозвольте попрощаться с сыном и женою.
– Нет, не велено.
– Ну, тогда черкну письмецо.
– Нет, не велено. Живо собирайтесь. Экипаж готов у ворот. Нам предписано покинуть Москву до полудня.







