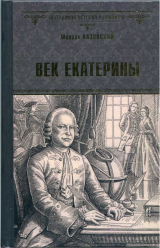
Текст книги "Век Екатерины"
Автор книги: Михаил Казовский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 25 страниц)
Был у них в деревне Матигоры старец Никодим. Многие считали его сумасшедшим. Он зимой и летом ходил в рубище и питался милостыней. Иногда с ним случались припадки – повалившись на спину, корчился в пыли, скалился, хрипел. А когда пребывал в относительном спокойствии, рассуждал вполне здраво. Будущее угадывал. Говорил, что замаливать грехи – тоже грех, ибо выпросить у Создателя жизнь вечную никому нельзя; все грехи – прошлые, настоящие и будущие – суть уже искуплены Иисусом Христом на кресте; значит, нам дарована жизнь вечная просто так, бесплатно, и, уверовав в Иисуса, мы тем самым принимаем этот дар; и от нас зависит, как им распорядиться – или же во благо себе, или же во зло, ибо геенны огненной тоже никто не отменял. Ломоносов еще ребенком думал над этими словами, но понять до конца не мог: если все грехи заранее прощены – получается, можно жить, греша напропалую? А тогда за что души грешников низвергаются в ад? В девятнадцать лет даже уходил в поисках ответов к старообрядцам, но и там не нашел искомого, возвратился в мир… А однажды старец Никодим предсказал ему будущее – дескать, славы добьешься превеликой, да не доживешь до седых волос.
Но теперь, к пятидесяти трем годам, седины у него на висках уже много. Как же так? Врал старик?
В пятницу, 16 июля, Михаил Васильевич собирался ехать из Питера в деревню к семье, как внезапно явился полупьяный Барков и поведал ему последнюю новость: в типографии Тауберта набирается книжка – свод древнерусских летописей (их Иван переписывал для набора), а на титульном листе значится: составление, предисловие и комментарии ординарного профессора Петербургской Академии наук АЛ. Шлёцера.
– Почему «ординарного профессора»? – изумленно проговорил Ломоносов. – Он ведь не назначен пока. Обсуждения не было и указа нет. Я решительно стану против.
– Коли нет, значит, скоро будет, – чуть покачиваясь, произнес копиист. – Говорят, что это дело решенное. Тауберт передал Катьке Шлёцеровы бумаги – план работ и прочее; и она от счастья писала кипятком, их узрев; вроде бы сказала, что именно такого профессора истории русской науке и не хватало.
Михаил Васильевич хмуро пошутил:
– Да уж, только Шлёцера в профессорах не хватало нам!
– Верно бают, что рыбак рыбака видит издалека, а немец немцу глаз не выклюет! – хохотнул нетрезвый. – Напустил херр Питер Алексеевич немчуры, вот и расхлебываем теперя.
– Немец немцу рознь. Вон покойный профессор Рих-ман – царство ему небесное! – что за умница был, скромник, не заноза; а каких соображений великих! И профессор Миллер, несмотря на его тщеславие, дельный человек и ученый. Уж не говоря о Бернулли! Впрочем, Бернулли – швейцарец, а не немец.
– Вовремя уехал отсюда, слава Богу.
– Для него, может, слава Богу, а для нас, для России худо, что уехал.
Помолчали.
– Что же делать будем, господин профессор? Жаловаться, нет? Но кому жаловаться, коль сама государыня-мать… ее!., к этому Шлёцеру благоволит?
Ломоносов только вздохнул:
– Надоело всё! Шлёцеры, тауберты, императрицы… Пропади они пропадом!.. Возвращаюсь к себе в деревню на Рудицу. – Посмотрел на Баркова. – Может быть, со мной?
– Не могу-с, завтра должен быть в присутствии, аки штык. А сегодни напьюся с горя. Не пожалуйте гривенник на опохмел?
Покачав головой, но достав из жилетного кармана монетку, Михаил Васильевич проворчал:
– Ох, загубишь ты себя, Ванька-недотепа!
Тот расплылся:
– А и загублю – что ж с того? Никому не нужон, и никто слезки не прольет.
– Кто же виноват? Ты и виноват.
– Не, не я. Жизнь в России такая, что таланты никому не нужны.
7
Ломоносов отлеживался в деревне, иногда по дням не выходя из своей комнаты, не спускался даже к обеду, иногда ходил, опираясь на палку, – хмурый и неразговорчивый, а домашние ступали на цыпочках, не решаясь потревожить его покой. Молча ел, половину блюда оставлял на тарелке. Молча пил – но не алкоголь, только чай и квас. Как-то раз заглянувшей к нему в кабинет дочке, чтоб убрать не доеденный отцом ужин, так сказал:
– Выходи за Константинова. Он хороший человек, хоть и старше тебя намного. Будет заботливым мужем и родителем.
Девушка ответила:
– Может быть, и выйду… Срок придет, мне шешнадцать минет, и тогда обсудим.
Михаил Василевич с болью отозвался:
– Не обсудим, дочь. Я не доживу… И тебя под венцом уж не увижу…
– Папенька! Родимый! Что ты говоришь? Не накличь на себя беду этими словами!
– У меня предчувствие.
– Ты еще поправишься, вот увидишь. И понянчишь внуков – мальчиков и девочек.
– Был бы счастлив безмерно. Токмо не уверен…
Уж родные не знали, чем его развлечь, как спасение явилось само – в виде гостей из архангелогородских земель. Как и обещал, Яков Лопаткин, возглавляя новый обоз, прибыл в Петербург с Мишей Головиным – восьмилетним племянником Ломоносова.
Небольшого росточка, худенький, пугливый, мальчик пошел не в дядю – был черняв и смугл (чем напоминал и сестру Матрену). Поклонился в пояс, как его учили, и дрожащим от волнения голосом произнес:
– Здравствуйте, ваше высокородие, господин профессор!
Тот расхохотался:
– Здравствуй, дорогой. Дай тебя обниму по-родственному. Экий ты тщедушненький, право. Мало каши ел? Ничего, мы тебя откормим.
– Кашу не люблю, – заявил малец.
– Да? Не любишь? А что любишь?
– Рыбу люблю во всех видах. Репу, квашеную капусту. Яблоки моченые.
– Этого добра у нас хватит. Ну-с, рассказывай давай о своем матигорском житье-бытье. Как там матушка твоя, а моя сестрица, живет?
– Кланяться велела. И просила не серчать, что прислала на твое попечение двух своих детишек. Ведь не оттого, что кормить нечем – тятька мой и кузнец искусный, землю пашет, рыбу ловит, и у нас коза, куры, утки. Кушаем пристойно. Токмо для учебы нет совсем никаких возможностев. В Пе-
тербурге – иное дело. Тут я выучиться смогу как следует. А в семье остались двое младшеньких – Нюшка-сестрица о шести лет да Петрушка-братец о двух годков. Будет кому родителев ублажать.
Рассуждал, как взрослый, здраво и смекалисто.
– А сейчас какие науки знаешь? – продолжал расспрос дядя. – Счет, письмо?
– Да, пишу и считаю. Рисовать могу. Пел у нас на клиросе.
– Ну, так спой, пожалуй.
– А удобно ль тут?
– Отчего же нет? Можешь Акафист Святому Архангелу Михаилу?
– Весь – не поручусь, а кусками помню.
– Так пропой, что хочешь.
Миша посерьезнел, задумался и, прикрыв глаза, затянул высоким, чистым дискантом:
Избранный Небесных сил воеводо-о
И рода человеческаго заступниче-е,
Сие Тебе, иже Тобою от скорбных избавляеми-и,
Благодарственное приносим пение-е:
Ты же, яко предстояй Престолу Царя Славы-ы,
Ото всяких нас бед освобождай, да с верою-ю
И любовью в похвалу тебе зовё-ем:
Радуйся, Михаиле, великий Архистратиже-е,
Со всеми Небесными силами-и-и!..
Ломоносов расчувствовался от такого ангельского вокала, вытер набежавшие слезы и в порыве чувств крепко обнял дорогого племянника:
– Славно, славно, Мишенька, тезка мой любезный. Мы с тобой поладим, точно знаю.
– Я стараться буду, Михайло Василич.
– Называй меня просто: дядя Миша.
Между тем Лопаткин передал Матрене письмо от его сына Федора – со словами:
– Сам-то не приехал, дел достаточно дома, но сказал, что весной непременно будет. Кажется, он к тебе присох сердцем-то.
Девушка зарделась:
– Скажете тоже, Яков Спиридонович! Мы ить просто дружим.
– И дружите, ребяты, на здоровье. А коль скоро пожелаете в будучем обручиться да обвенчаться, я не стану против.
– Благодарна вам за такое ко мне расположение.
А потом у себя в светелке распечатала конверт и с душевным трепетом вперилась в чернильные строчки:
«Здравия тебе, Матрешенъка, оченно желает Федор Яковлев сын Лопаткин с низким при том поклоном. Жаль, что не пришлось свидеться. Дядюшка Назар больно прихворнул – уж не знаем, встанет ли, – а без дяди-mo получаюсь я старшой, вот меня тятенька и оставил на хозяйстве при своем отсутствии. Дел по горло. Но тебя при этом не забываю, помню наши встречи в месяце иуне, как судили-рядили, распивали чаи при Елене Михайловне. Кланяйся ей тож. Ты-то обо мне помнишь? Оченно надеюсь, что весной предстоящего, 1765 году с первым обозом буду в Петербурге, и тогда увидимся вновь. Напиши ответ. Тем порадуешь меня несравненно. До свиданья, Матрешенъка, не хворай и знай, что на свете есть твой надежный друг, тот, что молится о тебе ежечасно».
Радостная, счастливая от таких задушевных слов, рассмеялась и расцеловала письмо. Прошептала весело:
– Феденька, хороший. Я тебе верной супругой стану, так и знай, любимый. И не променяю ни на кого. Мне другой не нужон.
Призадумалась, что ответить, и вприпрыжку понеслась посоветоваться с кузиной, вместе сочинить нежное послание.
Глава третья
1
Осень началась скверными погодами: чуть ли не с десятого сентября стало холодно, небо было в тучах, с Финского залива дул холодный ветер, и накрапывал мелкий дождь. Ждали бабьего лета, но оно все не наступало.
Тут по Петербургу поползли зловещие слухи: в Шлиссельбургской крепости тайно обезглавили подпоручика Семеновского полка Мировича. Тайно, потому что в России действовал указ прежней императрицы Елизаветы Петровны о запрете смертной казни. Получалось, Екатерина П преступила его. Но, с другой стороны, удивляться нечему: у нее на руках кровь супруга – императора Петра Ш. Кто решился на убийство единожды, перешел черту, для того уже все дозволено…
Разумеется, что в газетах никаких сообщений не было. И какие сообщения, если главный в тех событиях был не Мирович, а давным-давно свергнутый император Иоанн VI Антонович[23]23
В те времена он именовался Иоанн III, так как счет вели от Ивана Грозного; но сегодня историки первым называют Ивана Калиту, и Антонович таким образом получается шестым.
[Закрыть].
Он, двухмесячный, был провозглашен самодержцем в 1740 году (правили при нем сначала Бирон, а потом его мать – Анна Леопольдовна), а затем смещен гвардией, посадившей на трон Елизавету Петровну.
Дочь Петра приказала выслать семейство внучатого племянника вон из Петербурга (долгое время их держали в ломоносовских исконных местах – Холмогорах), а когда к власти пришла Екатерина II, двадцатидвухлетнего Иоанна бросили в Шлиссельбургскую крепость. Надо ли объяснять, как он был опасен для новой государыни? Он, прямой потомок царя Алексея Михайловича, настоящий Романов, – по сравнению с нею, немкой, самозванкой?
Содержали свергнутого монарха в одиночной камере, разговаривать с ним было строго запрещено (узнику передавали еду и средства гигиены через маленькое отверстие в железной двери), а еще имелось негласное предписание: если кто-то захочет Иоанна освободить, заключенного следует немедленно заколоть.
Так оно и произошло: Мирович, один из охранников, сделал попытку выпустить молодого человека на волю, но другие стражники выполнили приказ – умертвили ударом шпаги в сердце.
Да, в газетах осени 1764 года о случившемся ничего не упоминалось, но в домах Петербурга обсуждали и толковали. В том числе в доме Ломоносова. Говорили тихо, в узком кругу. И, как правило, не по-русски.
– Вы слыхали о казне подпоручика М.? – по-немецки спрашивала Леночка своего жениха Константинова, сидя с ним в гостиной после обеда.
– Тс-с, ни слова, – хмурил брови Алексей Алексеевич. – Это не для праздных бесед.
– Да чего ж бояться? Тут никто не услышит.
– Я не из боязни. Просто мне казалось, что политика, да еще такая, не должна волновать воображение юных дев.
– Видите – волнует. Я не про деяние совершённое – он преступник ли, нет ли – дело другое. И перипетии престолонаследия – дело не мое. Я про факт убийства. Потому как казнь есть убийство. А убийство – грех. И ничем не может быть оправдано. «Не убий» – заповедь Библейская.
Печку уже топили, несмотря на сентябрь, и в гостиной было довольно жарко. Государев библиотекарь вынул из кармана платок, промокнул с висков выступивший пот. Наконец, ответил:
– Да, убийство – грех. Что еще хотели бы от меня услышать?
– Вы – лицо из ближнего круга ея величества. Во дворце не говорят о случившемся?
– Совершенно нет. Уж по крайней мере со мною.
– Отчего же так?
– Я чиновник маленький. Книжные новинки, содержание старых фолиантов – все мои заботы. И к политике не имею касательства.
– Не обидно амплуа маленького чиновника?
– Ну, не всем же быть царями и Ломоносовыми. Кто-то должен и библиотеку обслуживать.
– А тщеславие? А амбиции? Не для вас?
– Я вполне доволен собственным общественным статусом. Правду говорю. Занимаюсь любимым делом – переводами, с удовольствием преподаю языки, радуюсь успехам учеников, с нетерпением жду нашей с вами помолвки и надеюсь на счастливую семейную жизнь. Для меня этого достаточно.
Леночка смотрела на него с интересом. И слегка помахивала кисточкой, привязанной к вееру.
– Неужели даже в юности не мечтали о подвигах, о славе?
– Я всегда ставил пред собою цели не мифические, а реальные. Переплыть океан, оказаться на Северном полюсе или покорить дикие народы – не в моей натуре. Потому как моя стихия – книги, языки, лингвистические науки и сугубо частная жизнь. Я не полководец, не землепроходец, не вершитель судеб. Вы разочарованы?
Дочка Ломоносова чуть скривила губку:
– Может быть, отчасти…
– Что ж, тогда взгляните на меня с другой точки зрения. Да, я частное лицо, отвечаю только за себя. Исполняю законы и заповеди Господни. И меня посему не свергнут с престола, не сошлют в Сибирь, не захватят в плен, не подвергнут публичной казни. Не за что. Я не стану жить в постоянном страхе за свои капиталы, место, положение. Нечего отнять. Если я никто, то и сделать со мной нельзя ничего. Значит, я свободнее них. Значит, и счастливее!
– Любопытная философия, мсье адъюнкт. Я должна подумать над нею.
– Кстати, о философии. Вы прочли Канта, взятого у меня в августе? – Он слегка улыбнулся.
– Ах, не смейтесь надо мною, пожалуйста, – покраснела она. – Да, читаю с превеликим трудом. Вы хотите меня унизить?
– Да помилуйте, Елена Михайловна, даже в мыслях не было. Я предупреждал, что знакомство с Кантом – это на любителя.
– Мне всегда было интересно в принципе – как рождаются в голове людей новые идеи: философские, как у Канта, или же естественнонаучные, как у моего папеньки? Надо самому быть гигантом, чтобы рассуждать о Природе, Космосе и Боге…
– Именно – гигантом. Ваш отец – гигант. К сожалению, не совсем оцененный в русском обществе. Гении зачастую кажутся их современникам не от мира сего. С гениями непросто. И оценку им дает только время, следующая эпоха.
– Вы считаете, моего отца в будущем все признают гением?
– Я не сомневаюсь.
– Говорите так, чтобы угодить мне?
– Полноте, сударыня, говорю, что думаю. Неужели я давал повод заподозрить меня в неискренности?
Леночка задумалась. А потом сказала:
– Не давали, нет. Я ценю вашу откровенность со мною. – Помолчав, добавила: – Отношусь к вам очень, очень тепло.
Он, упав на одно колено, взял ее руку и поцеловал пальчики. Заглянул в глаза и ответил:
– Вы моя любовь, Елена Михайловна, и надеюсь привнести в вашу жизнь лишь одно хорошее.
– Я надеюсь тоже, что с Орфеем не повторю судьбу Евридики, – усмехнулась она, совершенно пунцовая от волнительных чувств.
2
Надо отметить, происшествие с Мировичем мало повлияло на умы правящей верхушки. Главное, что не был освобожден августейший узник – это он создал бы проблемы. Ну а кто такой Мирович? Полусумасшедший поляк, ущемленный в своей национальной гордости. Недоволен, видите ли, несвободой Польши! Что такое Польша вообще? Жалкий придаток Российской империи. Так считала Екатерина, помещая на польский трон своего бывшего любовника – пана Станислава Понятовского. Пусть пока покомандует, пусть потешится – дескать, я король! А придет время – сбросим. Мановением руки русской государыни.
Да, нарушила запрет на смертную казнь. Но не отменила же! Смертной казни в России нет и не будет. Потому что Екатерина – просвещенный монарх. И гуманный монарх. Мать народа. Небольшие же исключения из правил лишь подчеркивают правило.
Гуманизм ее основан на взглядах Монтескье: надо провести государственные реформы, дабы облегчить положение простого народа, упорядочить работу судов и полиции. Но излишний либерализм тоже вреден, а особенно в такой полудикой пока стране, как Россия. И великие просторы, и суровый климат принуждают к авторитарному типу правления: да, самодержавие, да, абсолютизм, только просвещенный.
Академия наук занимала в этих планах пусть большое, но не главное место. Разумовский вполне устраивал государыню в качестве президента. Бецкий прочит на его место Ломоносова; вариант смелый, радикальный и отсюда достаточно рискованный – больно крут Михайло Василич, сразу потеснит позиции немецких ученых, а они – поддержка Екатерины. Ломоносов передал через Бецкого план преобразований в Академии – совершенно разумный, по сути, но способный вызвать распри в профессорской среде. Надо повременить.
Только выжидая, только лавируя, находя компромиссы, можно удержаться у власти. За плечами прежней императрицы – Елизаветы Петровны – был всегда ее великий отец: дщерь Петрова позволяла себе многое. У Екатерины II положение кардинально иное: немка, свергла мужа – законного наследника! – и теперь правит лишь до совершеннолетия Павла Петровича. Вынуждена взвешивать каждый шаг. Осторожничать, угождать, подкупать. А иначе может оказаться на месте шлиссельбургского узника. Или даже Мировича.
Бецкий посетил Ломоносова в конце сентября, был довольно холоден, как и вся атмосфера в Петербурге, говорил лаконично и, пожалуй, даже в чем-то с грустью:
– Назначение ваше на пост вице-президента матушкой-царицей отложено на неопределенное время. А написанный вами новый статут Академии на словах был одобрен, но пока что лежит под спудом. Остается ждать.
– Ждать! – воскликнул огорченный профессор с болью. – У меня нет времени ждать. Состояние моего здоровья не внушает больших надежд. Год-другой, не больше. Я хотел бы успеть…
Секретарь ее величества посмотрел печально:
– Что могу поделать, драгоценный Михайло Василич? Молодые часто не слушают стариков, делают по-своему. Я пытался воздействовать на Екатерину Алексеевну при посредстве Дашковой, но внезапная кончина князя Дашкова изменили планы княгини. Просит государыню отпустить за границу подлечить нервы – видимо, уедет. Больше у меня и у вас нет союзников в части Академии. Между тем Тауберт не дремлет, и уже готово решение, делающее Шлёцера ординарным профессором истории.
Ломоносов выругался йо матушке, а потом попросил прощения. Бецкий улыбнулся:
– Ничего, mon cher[24]24
Мой дорогой (фр.).
[Закрыть], наши мнения совпадают.
– Я подам прошение об уходе из Академии, – твердо заявил уязвленный ученый. – При таких обстоятельствах, при таком отношении ко мне не намерен более терпеть.
– Погодите, не спешите, пожалуйста. Есть одна лазейка…
– Да?
– Шлёцер тем не менее добивается отпуска. Сколько он пробудет в Германии – Бог весть, а тем временем надо привести в исполнение ваши предложения по реформе Академии. Если мы добьемся закрытия канцелярии – уведем у Тауберта почву из-под ног. И тогда начнем развивать успех…
Михаил Васильевич тяжело вздохнул:
– Как же это мерзко – действовать не впрямую, а искать лазейки! Прочему я, русский ученый с европейским именем (это не бахвальство, а правда), почему я должен у себя в стране, чтобы реформировать мою Академию, приспосабливаться, юлить и зависеть от настроения пигалицы Дашковой, солдафона Орлова, черт знает кого еще!
Собеседник отозвался:
– Потому что таковы правила игры. Вы историю знаете лучше меня: в Риме, в Константинополе при дворе были те же самые нравы, заговоры, интриги. Мы – как все. Мы зависим от власть имущих – в том числе от Дашковой, Орлова и прочих. В том числе и великие ученые, как вы. Никуда не деться.
– К сожалению, так. – Ломоносов поиграл желваками. – Радует одно: скоро удалюсь в мир иной – без интриг и бесчинств, отдохну от земных страстей; деток токмо жаль – им расхлебывать нашу кашу.
– Ничего: не они первые, не они последние, как-нибудь осилят.
Этот разговор долго будоражил ум нашего профессора, не давал уснуть. Все-таки решившись, сел за стол и в порыве благородного гнева написал заявление о своем уходе из Академии.
3
Миша Головин обживался в Петербурге. Он, конечно, скучал по дому, по родным Матигорам, речке, церкви, где в последнее время пел на клиросе, по собаке Жучке, неизменно приветливой, что бы с ней ни делали, по друзьям, по соседке Маше – девочка ему нравилась, по отцу с матерью (по отцу меньше – тот всегда наказывал, даже иногда устраивал порку) и по младшему брату, и по младшей сестренке, и вообще по всей деревенской жизни. Но столичные впечатления вытесняли прошлое. Вместе с тетей Лизой посетил цирюльника, и его постригли на французский манер – ровные и высокие виски, сзади снято много, и косой пробор слева (а не «под горшок», как было). У портного заказали новое платье – курточку-камзол, двое брюк – снизу до колен, а у шляпника – картуз, а еще у сапожника – новые башмаки, и у белошвеек – белые сорочки и смену белья. Как оделся в это – совершенно переменился, из типичного сельского паренька превратился в петербургскую штучку, франта, барчука. Все смеялись весело.
И кузина Леночка помогала ему освоиться – наставляла, как сидеть за обеденным столом, как держать нож и вилку, запрещала класть на скатерть рыбьи и куриные кости и пускать накопившиеся ветры.
Но, конечно, самой большой подругой, как и в Матигорах, стала сестра Матрена. Не такая светская и ученая, как Елена, говорила просто и по-свойски тискала, целовала, говорила при этом: «Ой, какой ты, Мишка, сделался хорошенький, ладненький, пригожий! Мальчик-загляденье. То-то, верно, барышням ндравиться станешь!» Он слегка конфузился, отвечал: «Скажешь тоже! Рано мне про барышень думать-то. Я учиться сюда приехал, набираться уму-разуму».
Занимались с ним Леночка и Михайло Васильевич: девушка – русским правописанием, рисованием и танцами, а профессор – арифметикой и латинским языком. Дядя Миша сильно страдал от болезни ног и по дому ходил, кряхтя, опираясь на палку, а на улице иногда не показывался неделями. У него в кабинете и происходили уроки. Мальчик появлялся, кланялся и, усевшись за стол, раскладывал письменные принадлежности. Разбирали то, что было задано накануне, повторяли, исправляли ошибки, и ученый объяснял новое. Говорил дядя басовито, иногда даже рокотал – ровным, бархатным голосом, слушать было приятно. Терпеливо втолковывал непонятные правила. И особенно из латыни.
– Ты не думай, детка, будто мучу тебя напрасно, – убеждал племянника. – Потому как латынь есть основа всех наук. Без нея не осилишь труды мудрецов прошлого и настоящего. И она ж породила европейские языки – итальянский, французский, немецкий, аглицкий. Корни сплошь у них обчие. В нашей Академии тож: кто из иноземцев русского не знает, тот читает лекции на латыни. Надо понимать.
Попытался привить племяннику интерес к мозаичному делу, но успеха, к сожалению, не добился: Головин-младший рисовал неплохо, но картинки выкладывать из кусочков смальты не мог. А зато с интересом наблюдал опыты в физической лаборатории и особые таланты проявил в математике. И вообще обладал исключительной памятью. Как-то Ломоносов зачитал свои новые стихи – как всегда, длинные, с перекрестной рифмой, так племянник тут же повторил, выучив на слух, и ошибся только в нескольких местах.
Словом, маленького Мишу полюбили в профессорском доме все. Сам он тоже полюбил всех, кроме дяди Цильха – за его вонючую трубку, а еще Баркова – за его винный перегар. А Барков обычно цеплялся к мальчику и подтрунивал над ним, выставляя нередко перед Ломоносовым дураком. Миша убегал, чтоб никто не видел, как он плачет. Даже говорил после дяде Мише:
– Отчего привечаете этого Баркова? Он такой противный, вечно выпимши, посему и развязный на язык. Тятя мой, как выпьет, придирается тож.
Но профессор только улыбался:
– То, что вечно выпивши – не вина его, а беда. Силы в нем великие и талант большой – не имеют выхода, он и подавляет их, глушит в кабаках.
– Отчего же не имеют? Отчего не применит свой талант с пользою?
– Не того душевного складу. Ерник потому что. Над другими смеется и над собою. Всё ему в жизни трын-трава.
– Нет, над вами никогда не смеется, вас он уважает.
– Разве что меня только. Я его хоть как-то держу в руках. А помру – вовсе он допьется до чертей зеленых.
– Свят, свят, свят! – перепуганно крестился малец. – Лучше не помирайте, дядюшка!
Ломоносов смеялся:
– Я и сам не больно хочу-то.
Наконец, «Полтавская битва» стала подходить к своему завершению. Михаил Васильевич был теперь доволен вышедшим на мозаике Петром. Царь сидел на коне с саблей наголо, и его открытое, ясное лицо выражало благородную одухотворенность. Вслед за самодержцем скакали его генералы: Брюс, Боур, Шереметев, Репнин и Меншиков. А за ними – трубачи, барабанщики под знаменами лейб-гвардии Преображенского полка. Ломоносов не забыл изобразить в их команде и арапа Петра Великого – темнокожего Ганнибала Абрама Петровича. В год Полтавы было тому меньше двадцати лет, а теперь, в 1764-м, семьдесят пять. Их дома находились рядом, раньше соседи неизменно общались – и не только за кружкой светлого пива: вместе выпускали «Российский Атлас», а затем генерал-аншеф в отставке помогал профессору закупать огнеупорный кирпич для его заводика в Усть-Рудице. Но уже больше четырех лет престарелый военный пребывал у себя в имении Суйда под Гатчиной, разводя на своем участке картофель. Вот бы показать ему получившуюся мозаику! Он один из немногих участников битвы, кто еще остался в живых. Мнение Абрама Петровича дорогого стоит. Но и беспокоить старика тоже совестно – разволнуется, распереживается, мало ли к чему это приведет! Разве что при случае, ненароком…
Случай представился в понедельник, 4 октября пополудни. Ломоносову принесли конвертик из соседнего дома: генерал-аншеф извещал ученого, что находится в Петербурге по делам наследства, уезжает завтра и настойчиво просит Михаила Васильевича оказать ему честь – отобедать вместе. А профессор в ответном послании предлагал Ганнибалу планы изменить: посмотреть мозаику и уже потом выпить с ним по рюмочке во славу Петра. Так и порешили.
Вскоре после назначенного времени появился арап со своим денщиком – но слуга не поддерживал под локоть пожилого хозяина, а всего лишь нес корзинку с дарами барского имения: яблоки, груши и, конечно, картофель. (Эта культура, завезенная при Петре, только еще вытесняла на Руси повсеместную репу, не была привычной, и крестьяне относились к ней настороженно; называли ее у нас по-французски – pommes de terre – «земляные яблоки».) Невысокого роста, худощавый и действительно сильно темнокожий, ветеран шел непринужденно, прямо, словно не испытывал груза лет, лишь постукивал золоченой палкой с набалдашником. На его треугольной шляпе развевался светлый плюмаж.
Троекратно поцеловавшись с Михаилом Васильевичем, вышедшим на крыльцо, произнес на чистейшем русском (правда, довольно явственно шамкая – оказалось, что во рту у него только три-четыре зуба):
– Здравия желаю, соседушка дорогой. Рад тебя увидеть. Ты-то что при палке? И не стыдно? Младше меня на двадцать лет!
– Ноги замучили, проклятущие, – извиняющимся тоном пояснил профессор. – Уж чего ни делал токмо и каких снадобий ни испробовал. Никакого спасу.
– Я вот знаю, как тебе помочь: земляные яблоки измельчить на терке вместе с кожурой, сильно разогреть в водяной бане и затем выложить на куски мешковины. Этой мешковиной обмотать ноги, сверху обернуть еще кожей и забинтовать туго. С эдаким компрессом лечь на боковую. Повторить
с недельку. Всю хворобу как рукой снимет – знаю по себе. Видишь, как скачу?
– Знатно, знатно.
– Я тебе пришлю еще pommes de terre из имения, чтоб хватило надолго.
– Уж не знаю, как и благодарить.
– Да пустое, Мишенька: свои люди – сочтемся.
Вместе прошли в мозаичную мастерскую, и глазам генерал-аншефа неожиданно открылась грандиозная панорама в два человеческих роста – смальта сверкала от солнечного света, проникавшего через окна, создавая впечатление блеска сабель, развевающихся знамен и клубящегося дыма. Старику даже показалось, что дрожит земля от топота конницы, что гремят барабаны и грохочут выстрелы. Он стоял, онемевший, ошеломленный, с широко распахнутыми глазами, а по темным морщинистым щекам его скатывались слезы.
– Что вы, что вы, Абрам Петрович? – всполошился Ломоносов. – Нешто худо?
– Миша… Мишенька… – наконец проговорил трепещущий Ганнибал, взяв профессора за руку. – Оченно прекрасно… Так прекрасно, что и передать невозможно… – Вытащил платок и утер лицо. – Господи, чудесно: словно перенесся на пятьдесят пять лет назад… Так ведь всё и было на самом деле: утро, трубы, пушки и громовый голос Петра: «Братцы, к бою!» Ах, как хорошо! Дай тебя обнять!
И они с братским чувством тесно приникли друг к другу. А старик не переставал повторять:
– Как же хорошо!.. Ты такой талант, Миша…
– Да не я один-то: цельная артель мастеров тут трудилася – по моим эскизам клали стеклышки, одному-то не одолеть и за десять лет!
– Всё одно ты главный. И тебе поклон до земли! Жаль, что Петр Алексеич не увидит сей красоты. Вот бы порадовался батюшка с нами!..
И затем пропустили по паре рюмочек – в память о великом царе и во славу выполненной мозаики. Михаил Васильевич говорил, что намечены еще такие же панорамы в Петропавловском храме – следующая «Взятие Азова». И вздохнул при этом:
– Коли сил моих на то хватит…
– Хватит, хватит, – ободрял его генерал-аншеф, – земляные яблоки, или, как немцы называют, Kartoffeln, вылечат тебя. – Он смешно жевал редкими зубами, изредка причмокивал, промокая краешки губ салфеткой; из-под темного парика выбивались седые волоски.
Плавно перешли на сегодняшнюю политику, и Абрам Петрович твердым голосом, не боясь быть услышанным посторонними, заявил:
– А от нынешней регентши ничего не жду. Вертихвостка.
– Ах, побойтесь Бога, ваша светлость!
– Говорю, что думаю. И не те у меня года, чтоб кого-то и чего-то бояться. После моего крестного отца дельных на Руси царей не было. Думал, дщерь его, Лизка-толстомяска, будет лучше – и ошибся, ибо вся пошла в мать свою – девку срамную Марту Скавронскую. А уж эта Фике – que fi![25]25
Игра слов: Фике – детское прозвище Екатерины П (ее немецкое имя – Софья Августа – уменьшительно Софихен, или Фике) и fi – выражение презрения (фр.).
[Закрыть]
Ломоносов заметил:
– Павел вступит в возраст престолонаследия токмо в 1775 году.
– Думаешь, она отдаст ему трон? Помяни мое слово – никогда и ни за что! До скончания века будем ходить под властью нуттки![26]26
От немецкого Nutte – шлюха.
[Закрыть]
– О, mon general, ваша откровенность меня фраппирует!
– Не привык лукавить. Школа Великого Петра.
Посидев еще с полчасика, Ганнибал откланялся. На прощанье погрозил узловатым черным пальцем:
– И лечись, Мишенька, лечись. Ты еще очень нужен нам, России.
– Постараюсь, Абрам Петрович.
4
А ведь правда: те картофельные компрессы сразу помогли. После их недельного курса боль намного уменьшилась, хоть не проходила совсем, но была терпимой. Ломоносов повеселел и воспрянул, самолично отправился на Академическое Собрание, где должны были рассматривать в том числе и вопрос о его отставке.







