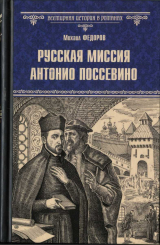
Текст книги "Русская миссия Антонио Поссевино"
Автор книги: Михаил Фёдоров
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 22 страниц)
Глава седьмая
РИМСКИЕ ЗНАКОМСТВА
Герцог Сорский, высокий узкоплечий брюнет, был разодет в пух и прах: узкие обтягивающие атласные штаны, камзол тонко выделанной кожи, плащ небесно-голубого цвета и чёрный бархатный берет с павлиньим пером. Он источал перед гостями прямо-таки медовое расположение. Посмотрев на Истому как-то странно, герцог крикнул слуг.
По его приказу вертлявый тощий молодой человек, одетый не намного хуже своего господина, отвёл Истому и Паллавичино в предназначенные им покои на втором этаже дворца. Комнаты для гонца русского царя и его переводчика располагались рядом.
Слуга оказался общительным и весёлым. Он ткнул себя пальцем в грудь и радостно представился, растянув рот до ушей:
– Люка.
– Лука, значит, – хмыкнул Истома и вошёл в услужливо открытую слугой дверь опочивальни.
Люка последовал за ним и остановился за спиной русского. Увидев, что Истома медлит, обозревая комнату, он подскочил к окну и раздвинул тяжёлые портьеры и раскрыл створки. В окно ворвались краски и гомон расцветающей римской весны. Слуга разразился длинной тирадой, из которой Истома понял, что тот готов помочь гостю в обустройстве. Очевидно, его господин ещё не был извещён, что русский не знает итальянского языка.
– Не понимаю я тебя, – громко ответил ему Истома, – понимаешь, не понимаю!
Он попытался что-то объяснить Люке на латыни, но слуга лишь морщился, вслушиваясь в отдалённо напоминающие итальянскую речь слова. Потом сказал:
– Господин герцог ждёт тебя в кабинете.
И для большей убедительности указал пальцем на дверь, а затем, повернув руку, вниз. Истома кивнул головой, что понял его слова, и Люка неслышно выскользнул из комнаты, считая свои обязанности выполненными.
Шевригин оглядел комнату: отделка помещения была богатой, даже слишком. В таких опочивальнях бывать ему ещё не доводилось, не говоря уж о том, чтобы спать. Потолок украшен лепниной, но что именно изобразил мастер, Истома понять не мог: кажется, какие-то завитушки, листья, гроздья винограда и тому подобное. Парчовые гобелены на стенах едва заметно колыхались под слабыми порывами влетающего в раскрытое окно ветра. Истома заметил, что кое-где покрывающая стены ткань тронута плесенью.
Кровать занимала центр комнаты. Она была настолько огромной – поперёк себя шире – что на ней, вероятно, уместился бы десяток стрельцов вместе с их пищалями и бердышами, если положить их не вольготно, а впритык друг к другу. Она даже стояла не на четырёх ножках, а на шести. Над ложем нависало невиданное Истомой раньше чудо: на каркасе из толстых, тщательно высушенных и отполированных брусков покоился балдахин – матерчатый навес, закрывающий ложе с боков и сверху. Из-за большого количества складок балдахин казался тяжёлым, основательным, в полной мере соответствуя богатству не только ложа, но и всей комнаты.
Истома подошёл, с интересом приподнял одну из складок и тут же в ужасе отскочил: под ней сидели не меньше нескольких десятков клопов! Такого количества он прежде тоже не встречал. Нет, конечно, постоялые дворы, где ему доводилось останавливаться в путешествии, далеко не всегда блистали чистотой, и по ночам нередко приходилось просыпаться, расчёсывая искусанные паразитами плечи и спину, но чтобы столько! Кажется, герцог Сорский не заходил в эту комнату очень давно, отсюда и плесень на стенах, и клопы.
Шевригин осторожно осмотрел другие складки балдахина: там было то же самое. Сколько тысяч клопов содержит это роскошное сооружение, было неизвестно, но теперь стало совершенно понятно, что спать на предоставленном ему ложе невозможно. "Они же ночью насмерть загрызут, – приуныл Истома, – набросятся всем скопом и на куски разорвут. Как вурдалаки. И герцогу не пожалуешься – обидится ещё. Папин сын, как-никак".
И несомненно, тюфяк на кровати не менее богат на кровососов, чем балдахин. Истома присел на корточки и помял пальцами набитый шерстью мешок из плотной ткани. Сверху клопов не было. Он понюхал: клопового духа тоже почти не ощущалось. Стало быть, надо избавиться лишь от балдахина. А потом не допустить, чтобы клопы из других частей комнаты пришли полакомиться его, Истоминой, кровью. Способность кровососов совершать путешествия, чтобы добраться до вкусно пахнущего человека, была ему прекрасно известна.
Он вышел из комнаты и заглянул в соседнюю опочивальню. Паллавичино там не было: очевидно, он уже разместился и отправился вниз, к герцогу. Истома пошёл следом.
Кабинет герцога Сорского представлял собой богато и вычурно отделанное помещение. Убранство его не уступало виденному Истомой ранее в кабинете дожа Николо да Понте. Но если в Венеции элементы убранства гармонично сочетались, создавая ощущение изысканности, то у герцога Сорского всё было хоть и ярко, и дорого, но аляповато и безвкусно.
У окна в мягком кресле сидел румяный отрок с наглыми глазами, в расшитой золотом одежде, и, болтая ногами, с интересом смотрел на вошедшего. Паллавичино, устроившись в таком же кресле напротив герцога, сидел, крепко обнимая свою сумку, плотно набитую монетами. Он явно куда-то торопился, и лишь его положение переводчика при московском госте заставляло итальянца оставаться на месте, дожидаясь Истомы. На отрока он старался не смотреть, отводя взгляд всякий раз, когда его взор случайно устремлялся в его сторону.
Истому последнее обстоятельство удивило и, очевидно, отразилось на его лице, потому что герцог сказал:
– Это Карло, мой секретарь. Карло, золото, прошу тебя, подожди за дверью. У нас будет серьёзный разговор.
Отрок послушно встал с кресла и вышел из кабинета. Его ухоженный вид, богатая одежда вкупе с манерой общения герцога со своим якобы секретарём не оставляли места для сомнений по поводу того, кем в действительности является Карло при дворе герцога Сорского и какие обязанности выполняет. Истоме оставалось только надеяться, что он сумел быстро овладеть собой и отвращение не отразилось на его лице.
– Итак, господа, как вы разместились, всё ли вас устраивает? – спросил герцог по-итальянски, жеманно ломая руки.
Паллавичино тут же услужливо перевёл, и Истома подумал, что мнимое незнание итальянского языка даёт больше времени на обдумывание ответа и позволяет избежать ненужных неловкостей.
– Благодарю, всё хорошо, – ответил он, – но у меня есть одна маленькая просьба. Я не привык к такому убранству покоев, пристойному лишь коронованным особам. Поэтому прошу убрать с моего ложа балдахин. Я приучен к другому, и, отходя ко сну, видеть над головой матерчатый свод, – Истома изобразил смущение, – для меня это непривычно.
На лице герцога отразилось искреннее удивление: очевидно, гостей с подобными просьбами у него ещё не было. Недоумённо пожав плечами, он встал со своего кресла и подошёл к Истоме, положив ему руку на плечо, отчего Шевригин едва не дёрнулся:
– Хорошо, мой друг. Я приложу все силы, чтобы вы ощущали в моём дворце подлинно домашний уют. К вечеру балдахин уберут.
Он вздохнул и вернулся на место:
– Есть ли ещё какие-то пожелания?
– Мне нужна небольшая лохань с уксусом и добрый кувшин воды. И ветошь какая-нибудь.
Паллавичино перевёл, споткнувшись на слове "лохань".
Герцог теперь на странное требование гостя не удивился, лишь кивнул головой. Затем дёрнул за шнурок, который болтался на стене рядом с его креслом. Где-то вдалеке зазвенел колокольчик. В комнату вошёл Люка.
– Уберёшь с кровати нашего русского гостя балдахин и приготовишь вечером уксус и воду, – велел он, – и да, вот ещё, принеси деньги. Те самые, что привезли утром. И ещё тряпки какие-нибудь принесёшь. Не знаю уж, для чего они ему понадобились.
Люка молча исчез, но вскоре вернулся, неся увесистый кожаный кошель. Поставив деньги перед своим господином, снова исчез. Герцог указал взглядом на кошель:
– Его святейшество дарит русскому посланнику шестьсот дукатов. Этот подарок сделает твоё пребывание в Риме светлым и радостным.
И он манерно улыбнулся Истоме, на что тот тоже растянул рот в улыбке, стараясь, чтобы она выглядела как можно более естественной.
– Мне хотелось бы познакомиться с Римом, – сказал Истома, – сегодня я успел заметить, что это очень красивый город, и было бы интересно рассмотреть его поближе.
– Ну конечно, – ответил герцог, – любуйтесь, в Риме есть на что посмотреть. А папа примет тебя через два или три дня. Сейчас он слишком занят.
Истома вежливо улыбнулся хозяину замка, забрал деньги и вышел. Вслед за ним вышел и Паллавичино.
– Сегодня вечером в честь русского гостя будет роскошный ужин, – громко сказал им в спину герцог, – не задерживайтесь в городе.
Истома не мог решить, что лучше: оставить деньги во дворце или лучше взять их с собой. Он вспомнил Венецию, заверения Альберто, что кражи на постоялых дворах там невозможны. Но здесь ведь Рим, а не Венеция. Он ещё немного подумал и решил взять кошель с собой. Для этого пришлось вернуться в свои покои, где Люка уже начал разбирать балдахин, едва уворачиваясь от сыплющихся сверху клопов, и взять сумку, потому что тащить тяжёлый кошель в руках было неудобно.
Паллавичино дожидался его во дворцовой конюшне. Он уже взнуздал своего коня и даже забрался в седло. Конь выказывал ту же нетерпеливость, что и его хозяин, и аж пританцовывал на месте.
Когда они выехали за ворота герцогова дворца, Паллавичино сказал:
– Куда думаешь ехать?
– На базар хочу. Надо здешнее платье прикупить. Не люблю, когда смотрят, как на диковину.
– Это тебе на Палатин или Эсквилин[82]82
Палатин и Эсквилин – два из семи холмов, на которых стоял Древний Рим.
[Закрыть] надо. Там много лавок, где готовым платьем торгуют.
– Ты что, со мной не пойдёшь?
Паллавичино замялся:
– В любое другое время, но сейчас мне надо передать вырученные в Дании и Любеке деньги сыну. Он ведёт наше дело здесь, в Риме, и очень ждёт, когда я приеду. Это только сегодня, но потом я буду сопровождать тебя где угодно. Может, сначала поедем со мной, а потом покупать платье?
– Ну хорошо, езжай, – к радости Паллавичино, легко согласился Истома, не ответив на его предложение, – но не забывай, что герцог ждёт нас к ужину.
Радостный купец, не дожидаясь, пока наниматель передумает, пришпорил коня и, подняв облако пыли, скрылся за поворотом неширокой римской улочки. Истома остался в незнакомом городе один. Он подумал, что без соглядатая ему будет вольготнее, едва тронул шпорами бока своего коня и направился по другой улочке. Где найти нужную ему лавку, Истома не знал, но надеялся спросить у прохожих.
Шевригин ехал по улицам Рима и с интересом крутил головой, сравнивая Первый Рим с Третьим. Дома в столице Папского государства были преимущественно каменными, в отличие от полностью деревянной застройки Москвы за пределами Кремля. Истома отметил про себя, что в случае нападения неприятеля пожар Риму не грозит. А если же и случится, то ничего подобного московским пожарам здесь не будет.
Он вспомнил, как десять лет назад сгорела вся Москва, кроме кремля, который удалось отстоять от крымских сабель. Сначала полыхнуло в одном месте, потом в другом, и вскоре весь огромный город представлял собой один большой костёр. В сплошном море огня только Кремль стоял неприступной твердыней да Москва-река, изогнутая, словно сабля, рассекающая надвое пылающий город. Истома вспомнил, как смотрел он со Свибловой башни налево, в Заречье, где вместе с другими избами полыхал и его дом, в котором осталась мать да братья с сестрой. И ничем не мог им помочь… И отец на стене погиб.
Всадники, издали выглядевшие как маленькие человечки верхом на игрушечных лошадках, сновали туда-сюда, пока огонь не выгнал всех за пределы города. Он вспомнил длинные вереницы пленённых москвичей и жителей ближайших деревень, уходящие на юг, в неволю. Были ли среди них его близкие? Неволя хуже смерти. Только ой ли? Из неволи можно выкупиться или бежать. Но многим ли удалось такое? Нет, совсем немногим. А жить всю жизнь в неволе, сохраняя в душе исчезающе малую надежду на освобождение – действительно ли это можно назвать жизнью? Истома считал, что нет. Он вспомнил, какое зрелище представлял собой город после ухода крымцев. Ни одного уцелевшего дома, лишь каменные печки, заваленные обгорелыми головешками. И вороньё… До сих пор не отстроили всё, как было до набега. Не до строительства сейчас, воюет держава. Истома иногда думал, что, если бы те силы людские да деньги, что потрачены на войну, потратили для строительства и распространения ремёсел, проку для державы было бы куда больше. Но кто послушает безродного сына боярского? Его и таких, как он, только и могут, что отправлять туда, куда родовитых отправить остерегаются.
Вокруг шумела пёстрая толпа, так не похожая на московскую. Звучала итальянская речь, хоть и чужая, но понятная. Когда Истома в Москве изучал итальянский язык, наставник его говорил медленно, размеренно, но то, что он слышал сейчас, было совсем другим. Истоме говор толпы казался похожим на звук, который издают рассыпавшиеся по деревянному полу орехи. Римляне сразу опознали во всаднике иноземца и не стесняясь обсуждали его непривычный облик и странный наряд, так не похожий на одежды жителей Вечного города.
– Смотрите, смотрите, – кричал какой-то оборванец в живописных лохмотьях, едва прикрывающих тощее тело, – это, наверное, потомок тех дикарей гуннов, что некогда разграбили Италию. Интересно, этот варвар, как и его предки, так же ест сырое мясо, которое перед этим просаливает на конских боках?[83]83
По сообщению некоторых античных историков, гунны нарезали мясо тонкими кусками и клали под седло, чтобы оно от конского пота просолилось и не испортилось. Но, по всей видимости, кочевники гунны имели избыток мяса и в действительности таким образом пытались предохранить лошадиные спины от натирания седлом во время долгих переходов.
[Закрыть]
Все вокруг смеялись и показывали на Истому пальцами. Он никак не отвечал на оскорбления, лишь улыбаясь загадочной скифской улыбкой. Никто не должен знать, что ему понятен итальянский язык!
Когда разошедшийся не на шутку оборванец спустил драные портки и со словами "поцелуй меня сюда" показал свой костлявый зад, Истома чуть тронул бока коня зубчатыми репейками шпор и заставил его приблизиться к грубияну. Склонившись, вполсилы хлестнул того по заднице нагайкой, окончание которой, на счастье оборванца, представляло собой расширенную кожаную лопатку, а не вплетённую пулю, как у Поплера. Но оказалось, что достаточно и этого.
Нищий, не ожидавший от него столь решительных действий, упал, издав громкий хриплый звук, похожий на ослиный рёв. Потом поднялся на ноги, держась за ушибленный зад и злобно рыча, посмотрел на Истому. Толпа покатывалась со смеху, раздавались аплодисменты. Её настроение сразу же переметнулось на сторону иноземца, так быстро и просто поставившего наглого нищего на место, соответствующее его положению. Затуманенный злобой взгляд оборванца казался воплощением жгучей ненависти. Не в силах совладать с собой от боли и оскорбления, он извлёк откуда-то из глубины лохмотьев длинный тонкий нож и бросился на Истому. Толпа тут же затихла. А тот, внимательно следя за нищим, наполовину вытащил из ножен шамшир, продолжая спокойно и даже насмешливо смотреть на него.
Оборванец остановился в сажени от Истомы. Он переминался с ноги на ногу, не решаясь сделать последние шаги и нанести удар. Истома извлёк саблю из ножен полностью и сделал замах, всем видом показывая, куда будет нанесён удар. Нищий испуганно дёрнулся и отскочил в сторону. В толпе снова засмеялись. Нищий злобно посмотрел вокруг.
– Ты это честно заслужил, мерзавец, – раздавалось из толпы, – будешь теперь знать, как приставать к иноземцам. И за стилет не хватайся, а то попадётся не такой добрый господин, как этот, – отрубит тебе руку.
Смешки доносились со всех сторон. Нищий, опустив голову, стал расталкивать первые ряды, чтобы скрыться от позора. Его не держали. Римляне расступались, давая ему возможность удалиться. Вперёд выступил горожанин, одетый в добротный камзол и хорошие кожаные башмаки. Он смотрел на Истому приветливо.
– Откуда ты, иноземец, и кого ищешь в Риме?
– Я не понимаю тебя, – ответил Истома на латыни.
– Кто ты и куда следуешь? – повторил горожанин по-латински.
– Я посланник русского царя к Святому престолу, – ответил Истома, – прибыл с севера. Сейчас ищу лавку, где торгуют одеждой.
– Ты заблудился в нашем городе, – улыбнулся горожанин, поняв стремление Истомы не выделяться из толпы, – я покажу тебе, где можно купить одежду.
Он указал Шевригину на улицу, по которой следует ехать русскому посланнику. Истома поблагодарил его и, засунув нагайку в сапог, тронул поводья. Обернувшись, крикнул горожанину:
– Благодарю!
Как оказалось, одного лишь направления, даже если оно указано верно, было недостаточно. Истома снова заблудился. Он плутал по лабиринту узких улочек Рима и чувствовал себя мухой, попавшей в паучьи тенёта. Теперь, на удивление, на него никто не обращал внимания, как будто он, хлестнув наглого оборванца нагайкой и не испугавшись его ножа, прошёл обряд посвящения и город теперь считает его своим. Правда, разобраться в хитросплетениях узких улочек древнего города он так и не сумел. В конце концов Истома решил следовать туда же, куда направляется большинство встречающихся ему прохожих, рассудив, что они, скорее всего, идут в сторону площади или базара. А уж там-то он наверняка найдёт то, что ему надо.
Так и оказалось. Двигаясь в плотном потоке горожан, он в конце концов выбрался на место, свободное от многоярусных каменных строений. Это действительно оказалась небольшая площадь, в центре которой располагался выложенный плотно подогнанными камнями колодец, вокруг которого толпились несколько человек с кувшинами и вёдрами. Вдоль стен зданий, окружающих площадь, стояли и сидели торговки, продающие сушёную зелень, шелушёные орехи пинии, куриные и утиные яйца, солёную и копчёную рыбу и прочую нехитрую снедь.
Чуть поодаль, перед трёхногим мольбертом с натянутым холстом стоял молодой человек в коричневом шерстяном плаще и побитом молью чёрном берете с петушиным пером. В левой руке он держал овальную деревянную палитру, на которой задумчиво смешивал кистью краски. Убедившись, что нужный цвет получен, он чуть наклонил набок голову и мазнул холст кистью, тут же отступив на полшага, оценивая верность только что совершённого действия. Заинтересованный Истома спешился и, ведя коня в поводу, приблизился к художнику. Тот, мельком взглянув на него, продолжил своё дело. К разочарованию Шевригина, картина представляла собой хаотичную мешанину разноцветных мазков. Понять, что пишет художник, было совершенно невозможно. Увидев, что иноземец заинтересовался его занятием, молодой человек сказал:
– Не правда ли, на первый взгляд ничего не понятно?
Истома улыбнулся, развёл руками, давая понять, что не понимает его, и ответил:
– Я говорю только на латыни.
– Жаль, – ответил молодой человек по-итальянски, по интонации собеседника поняв, что тот не говорит на его языке, – мне хотелось бы узнать мнение чужеземца, потому что мнение моих соотечественников мне уже известно. Но увы, я знаю только родной язык. Латынь ещё не успел изучить. Впрочем, мне надо выговориться, и не всё ли равно, понимаешь ты меня или нет?
Он снова отступил на шаг от мольберта, оценивая, насколько гармонично лёг очередной мазок, и снова принялся смешивать краски.
– Меня зовут Орацио[84]84
Орацио Джентилески – итальянский художник. Во время визита Шевригина жил в Риме, занимался созданием фресок в Ватиканской библиотеке.
[Закрыть], чужеземец. Родом я из Пизы, а в Рим пришёл в прошлом году. Пишу фрески для главной католической библиотеки при Святом престоле.
Он вздохнул:
– Получить это место было совсем непросто. Если бы не связи старшего брата и дяди, со мной никто и разговаривать бы не стал.
Истома указал на холст и спросил на латыни, надеясь, что если не слова, то жест его будет понят молодым художником:
– Что ты рисуешь? Здесь ничего нельзя разобрать.
Молодой человек сокрушённо вздохнул:
– Хоть итальянский язык и происходит от древней латыни, но их пути давно разошлись, и я не могу тебя понять. Кажется, ты хочешь знать, что я пишу?
Истома стоял, улыбаясь и ничего не отвечая.
– Это будет городской пейзаж, который я назову, – он на мгновение задумался, – ну, например, "Воскресный полдень весной у городского колодца". Знаешь, эти фрески в библиотеке мне изрядно надоели, и я хочу свободный от их написания день потратить на что-то для души. Эта площадь показалась мне интересной, и я надеюсь, что пейзаж получится неплохим. Как думаешь, его можно будет продать?
Он с надеждой посмотрел на Истому, но, спохватившись, смутился:
– Ах да. Хотя если ты не художник, то всё равно не сможешь понять, получится ли из этой заготовки настоящая, хорошая картина. Да я и сам не знаю. Хотя мне кажется, что всё же получится. Я давно заметил, что если я начинаю дрожать, как в ознобе, значит, всё идёт хорошо. Это как будто нечто божественное опускается на меня и движет моими руками, которые смешивают краски и наносят мазки на холст. Да что я говорю! Любые человеческие слова не могут передать то состояние, которое охватывает меня. Может, великий Данте смог бы описать его, но у меня слишком мало слов, а те, которые есть, я не могу расставить должным образом, поэтому любые сравнения будут слишком бледными. Я иногда думаю, что Данте, когда творил "Божественную комедию", тоже испытывал нечто подобное. Как думаешь, может, таким образом мы ощущаем присутствие музы?
Орацио поджал губы:
– Но, увы, древние почему-то не придумали музы, которая приходила бы к художникам. И у скульпторов тоже нет своей музы. Я всегда этому удивлялся, ведь мастерство древних ваятелей было столь велико, что и сейчас мы считаем их творения образцами, к которым нужно стремиться. Ну что им, трудно было, что ли, придумать муз для художников и скульпторов? Ну хотя бы одну? Несправедливо получается: у поэзии сразу три музы, у великого театрального искусства – две, есть свои музы у тех, кто танцует или пишет гимны. Музы истории и даже астрономии. А вот художникам и скульпторам наши предки музы не придумали. И это меня огорчает.
Несмотря на то что он болтал почти без умолку, Истома обратил внимание, что это никак не сказывается на его работе. Орацио, сетуя на отсутствие муз, оценивающе оглядывал свою картину с разных ракурсов и продолжал наносить мазки. Постепенно под его кистью на холсте стало что-то появляться, и Истома с удивлением смотрел, как на месте серого пятна у левого края полотна появляется каменная кладка колодца, а разноцветные мазки вокруг него превращаются в торговок и мальчишек-водоносов. Правда, разглядеть картину можно было только на расстоянии, вблизи она по-прежнему пестрела разноцветными мазками. Теперь Истома понял, почему Орацио после каждого мазка отступает на шаг от мольберта.
Конь заржал. Истома посмотрел на него. Жеребец бил копытом и кивал головой, порываясь куда-то в сторону. Истома хорошо знал повадки коня и понял, что тот чего-то требует от хозяина. Оглядевшись, он увидел, что возле колодца горожанин поит из ведра ослика, запряжённого в тяжело гружённую повозку.
– Пить хочешь? – догадался он.
Словно поняв вопрос, конь затряс гривой и стал ещё сильнее бить копытом по булыжнику площади. Из-под подковы полетели искры.
Дождавшись, когда горожанин с осликом отправятся по своим делам, Истома поднял из колодца ведро, полное чистой холодной воды, и поставил перед конём, ослабив подпругу. Когда ведро опустело и конь довольно зафыркал, Истома уже было собрался вскочить в седло, неподалёку раздались громкие возгласы.
– Иди отсюда, – говорил кто-то тонким юношеским голосом, – давай-давай, проваливай.
– Ищи другое место, маляр, – вторил ему другой голос, принадлежавший мужчине постарше, – этот колодец предназначен для иного.
Он оглянулся. Двое молодых людей, один лет семнадцати, а другой Истомин ровесник, прогоняли Орацио. Одеты они были одинаково бедно, но с претензией на роскошь. Обтягивающее трико с дырами на коленях, тёплые стёганые камзолы, потёртые на локтях, и фетровые шляпы с перьями и короткими, загнутыми вверх полями. На одной шляпе – у того, что постарше, – перо дерзко топорщилось и немного наклонилось вперёд. На шляпе же юноши перо было сломанным, но он всё равно его не снимал, очевидно, считая, что с пером, даже неполным, он выглядит внушительнее, чем без оного. На поясе у обоих висели в ножнах стилеты.
Оба молодых человека стояли вплотную к Орацио, даже нависая над ним, и для подтверждения своих слов легонько подталкивали его плечами, нагло ухмыляясь и перемигиваясь. Бедный художник под их напором смутился, съёжился и стал торопливо собирать краски. Картину, ещё сырую, он одной рукой держал на весу, не желая, чтобы написанное оказалось смазанным. А второй руки ему было явно мало, чтобы собрать все свои пожитки. Орацио торопился, роняя в пыль площади то кисть, то палитру, то опрокидывая коряво сколоченный мольберт. Молодой парень вытащил из ножен стилет и стал, смеясь, легонько тыкать им художника в бок, особо веселясь каждый раз, когда тот от боли подпрыгивал на месте. Толпа на площади как будто не замечала происходящего, лишь вокруг Орацио образовалось открытое пространство, словно все вдруг решили, что находиться рядом с ним сейчас совершенно не следует.
Истоме это наглое приставание уличных буянов к симпатичному и безобидному рисовальщику показалось настолько грубым, настолько грязным и несправедливым, что он непроизвольно крикнул мерзавцам:
– Эй, ребятки! Не трогайте этот человека и ступайте по своим делам!
Молодые люди обернулись на крик и сначала изумлённо уставились на Истому, а потом непонимающе переглянулись. Истома понял, что он, действуя по первому движению души, произнёс эти слова по-русски, и обругал себя: в этой поездке он впервые совершил необдуманный поступок. И неважно, что он сказал это по-русски: ему совершенно не следовало вмешиваться в здешние дела. Но делать нечего: он настолько проникся симпатией к художнику, что того надо было выручать. И он тут же перевёл свои слова на итальянский, произнеся их угрожающим тоном, а для большей убедительности положил руку на эфес своего шамшира. Хорошо ещё, рядом нет Паллавичино: вот ему радость была бы – сообщить герцогу, что русский умеет говорить по-итальянски.
Но наглецы не собирались уходить от колодца. Оценив Истомину саблю и не желая без необходимости вступать с ним в схватку, старший произнёс:
– Чужеземец, нам нет дела до тебя. Ступай своей дорогой. А этот человек, – он кивнул в сторону Орацио, – знает, почему ему нельзя находиться возле колодца.
Художник в подтверждение его слов быстро затряс головой. Но возбуждённый Истома уже не мог остановиться и совершил второй за сегодняшний день необдуманный поступок: он извлёк саблю из ножен. Вступать на улицах Рима в сражение с двумя явными разбойниками было бы совершенно не по чину для гончика русского царя, но Шевригин не мог с собой ничего поделать. Двое негодяев обидели человека, который открыл для него мир живописи и к тому же был совершенно беззащитным. Вступиться за него совершенно точно было богоугодным делом!
Но так считал только он, а молодые люди, очевидно, посчитали, что иноземец посягнул на их право поступать так, как они считают нужным, и, достав стилеты, направились в его сторону. Истома только усмехнулся про себя: в толпе у них, несомненно, было бы преимущество, как у обладателей более коротких клинков, но не здесь и сейчас, когда толпа отступила, освобождая достаточно пространства для сабельного замаха! Он сделал лёгкое движение, ускользнувшее от взгляда напавших, и вот уже старший из них коротко вскрикнул и выронил оружие. Его камзол был рассечён, и из неглубокого пореза выступала кровь.
– Проваливайте, дураки, – почти добродушно произнёс Истома по-итальянски, – рана неглубокая, за неделю затянется.
Младший разбойник нерешительно посмотрел на своего старшего товарища. Тот, постанывая, держался за руку, не помышляя больше о нападении. Очевидно, сабельный удар задел и мышцы плеча. Тот разбойник, что избежал удара, убрал стилет в ножны, подобрал оброненное оружие и, поддерживая раненого, удалился вместе с ним, бросая на Истому ненавидящие взгляды. Толпа вокруг них безмолвствовала.
– Нам лучше уйти, – произнёс Орацио.
– Почему? – удивился Истома. – Я их прогнал, и теперь они задумаются, прежде чем нападать вновь.
– Нам лучше уйти, – повторил Орацио, – по дороге я объясню, почему надо сделать так.
Он наконец-то собрал свои вещи, взвалил на спину, и они направились по одной из боковых улочек. Своего коня Истома вёл в поводу.
– Я сам виноват, – объяснил ему Орацио, – но вид, открывающийся от этого колодца, показался мне таким интересным, что я решил пренебречь опасностью и написать картину.
– В чём опасность? – недоумевающе спросил Истома. – Никак не могу понять.
– Колодец на площади – место, где собираются смелые[85]85
Смелые – по-итальянски bravi – так называли шайки наёмных убийц. Некоторые из них почти открыто принимали заказы на убийство прямо на улицах.
[Закрыть] в поисках работы.
– Смелые? – удивился Истома. – Какая же у них работа?
– Они убивают за деньги. И не любят, когда в то время, когда они встречаются с заказчиками, рядом находится ещё кто-то. В это время даже те, кому надо набрать воды, стараются не приближаться к этому месту. А я уже несколько дней писал у колодца свою картину. Вот они и решили меня проучить.
– Тебе всё равно не дали бы дописать картины, независимо от того, вмешался бы я или нет.
– Конечно. Допишу по памяти. А в следующий раз пойду в более безопасное место. А тебе теперь следует быть осторожнее. По выговору ты похож на уроженца Пьемонта[86]86
Пьемонт – область на севере Италии у границы с Францией. Некоторые лингвисты считают пьемонтский диалект самостоятельным языком.
[Закрыть], да и по одежде тебя легко разыскать в Риме.
– Им меня не достать, – ответил Истома, – я живу во дворце герцога Сорского.
– Так ты из этих, – разочарованно протянул Орацио, – а я уж подумал…
И он замолчал. Истома непонимающе посмотрел на него, потом рассмеялся.
– Нет, я не из них. Я – гонец русского царя ко двору папы. Во дворце мне лишь отвели покои.
– Вот и хорошо, – облегчённо вздохнул художник, – а то не нравится мне… В Послании римлянам сказано же – если мужчины разжигаются похотью друг на друга, то получат должное возмездие[87]87
Новый Завет. Послание апостола Павла к римлянам. 1, 27.
[Закрыть]. А тут сын папы грешит, и ему за это ничего. Да и сын-то незаконнорождённый.
– Слушай, Орацио, – остановился Истома, – помоги мне выбрать одежду, в которой я не буду выделяться среди римлян.
Художник поставил тяжёлый мольберт на мостовую:
– Опасаешься всё-таки.
– Не то чтобы опасаюсь, – смутился Истома, – просто не люблю, когда на меня пальцами показывают. Да ты давай, деревяшку свою клади в седло.
Шевригин помог Орацио закрепить мольберт в седле, и вскоре они, привязав коня у входа, входили в лавку, где торговали одеждой. По совету художника Истома купил себе одежду простого горожанина – так было легче затеряться в пёстрой толпе, а обувь он подобрал сам – в соседней лавке. Это были удобные коричневые башмаки из хорошо выделанной мягкой кожи. Оба лавочника с удовольствием приняли новенькие венецианские дукаты, отсчитав серебром и медяками разницу в стоимости. Теперь Истома выделялся из римской толпы лишь своей саблей: сильно изогнутый шамшир сильно контрастировал со здешними оружейными нравами. Он даже хотел, чтобы совсем уж слиться с горожанами, купить шпагу, но решил, что навыки фехтования на сабле и шпаге слишком разные и ему это оружие будет не только бесполезно, но и в тягость, как лишняя железяка. А шамшир – ну что ж, может, он из дальнего похода привёз нездешний вычурный клинок!








