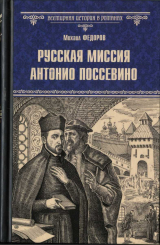
Текст книги "Русская миссия Антонио Поссевино"
Автор книги: Михаил Фёдоров
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 22 страниц)
– А ты, стрелец, к жене соседа ходишь, и младший сын его – твой! Ха-ха! А ты – кричал он другому, – два года назад купца в пути убил, да на его деньги себе избу и поставил! А ты…
Стрельцы, за которыми подобных грехов не числилось, зверели, понимая, что слушок теперь пойдёт – ой, пойдёт! Брат Гийом даже испугался, что ещё чуть-чуть – и Ласло сгоряча могут и покалечить, как поймают. Поэтому он закричал:
– Цыц, бес! Внучек, ты дайся, дайся. Превозмоги беса! Амфилохий тебе поможет!
Ласло, поняв, что перестарался, изображая бесноватого, застыл на месте и гордо поднял голову:
– Только ради тебя, добрый старик, я отдаюсь во власть этих никчёмных людишек, недостойных даже вкушать испражнения мои. Но всё равно никто ничего со мной поделать не сможет!
Стрельцы налетели на него гурьбой, повалили и начали связывать. Но даже сейчас скованный в движениях Ласло умудрился надкусить одному из них ухо. Стрелец зашипел от боли и затянул узлы изо всей своей немалой силы. Теперь уж Ласло едва не застонал от впившихся в запястья верёвок, продолжая, однако, что-то кричать – уже не по-русски, а на других языках.
– Точно бесноватый, – сказал десятник, прислушавшись, – по-немецки знает.
– И по-мадьярски, – добавил один из стрельцов и пояснил в ответ на удивлённый взгляд десятника: – Я из Пскова недавно. Там у нас два месяца несколько пленных мадьяр сидели. А мне ж любопытно, я их наречие и учил.
Брат Гийом забеспокоился: знание его мнимым внуком разных языков могло вызвать у стрельцов подозрение. Но он опять ошибся.
– Монахи говорят, бесноватые часто по-нерусски кричат, – авторитетно сказал знаток венгерского языка, – даже те, кому вроде бы другие языки и знать неоткуда. Потому как это бесы всё знают.
– Во как, – уважительно поглядел на него десятник.
Ласло отнесли на паперть Троицкого собора[182]182
Троицкий собор – самый старый храм Троице-Сергиевой лавры. Заложен в 1422 году. В описываемое время в Троице строился Успенский храм, но он был освящён позже – в 1585 году.
[Закрыть]. Он лежал на каменных ступенях и мерно бился о них затылком – впрочем, не очень сильно. Вскоре появился потревоженный Амфилохий. Это был высокий худой старик с лицом, напоминающим печёное яблоко – тёмным, испещрённым многочисленными крупными морщинами. На ветхой рясе тут и там виднелись заплаты.
– Вот, отец Амфилохий, отрок бесноватый, – сказал ему стрелецкий десятник, – дрался, Дмитрию ухо едва не откусил, и говорил всякое непотребное.
Амфилохий кивнул десятнику в знак того, что понял его, мельком взглянул на Ласло и перевёл взгляд на брата Гийома:
– Внук твой? – спросил он.
Брат Гийом поёжился под его взглядом. Острый взгляд светло-голубых глаз из-под седых бровей, казалось, протыкал его насквозь, видел самую суть коадъютора. Не то напускное, с чем он пришёл в русской одежде, а то, что в нём уже много лет, с самого детства: для торжества католической веры допускается всё! И никуда не деться от этого ощущения – ощущения маленького мальчика, застигнутого за воровством сладостей строгим и всевидящим отцом! А он-то думал, что пронять его нельзя ничем, коли столько повидал на своём веку. Выходит, можно!
– Внучок. Да.
Амфилохий кивнул.
– Буду молиться, – обернулся к застывшим стрельцам, – вносите в храм. Как звать-то?
– Я Прокопий, а внучок – Иван.
В церкви Ласло привязали к широкой скамье. Старец велел освободить руки, и Ласло облегчённо вздохнул. Он опасался, что его могут оставить в прежнем состоянии, и тогда он не сможет извлечь из-под заплаты отравленную кожу. Впрочем, даже теперь он был плотно прикручен к скамье от голеней и до груди и освободиться самостоятельно не мог.
Старец пристально посмотрел на брата Гийома, который стоял рядом со скамьёй:
– Ступай. Неча тебе. Его дело, не твоё.
Коадъютор поёжился: ему показалось, что Амфилохий обо всё догадался. Но как, как? Нет, конечно, ни о чём он не догадался, да и как, действительно, он смог бы? Нет, это не русский старец догадался, а он, брат Гийом, становится старым и мнительным. Да, это его последнее задание!
Молодой монах зажигал свечи. Когда стало достаточно светло для чтения, Амфилохий остановил его:
– Достаточно. Принеси из моей кельи тетрадь. Ту самую.
Монах молча поклонился и вышел. Дожидаясь его возвращения, Амфилохий стоял, глядя на иконостас. Губы его шевелились почти беззвучно. Наконец монах вернулся и протянул старцу тетрадь, сшитую из плотных листов желтоватой бумаги, после чего удалился, закрыв за собой дверь в храме.
Ласло всё время лежал молча, лишь следя глазами за Амфилохием. Когда тот раскрыл тетрадь, громко крикнул:
– Что, старец, хочешь меня изгнать в преисподнюю? Ничего у тебя не выйдет. Слаб ты. И глуп. А я силён!
Амфилохий, не меняя выражения лица, положил руку ему на лоб. Ласло хотел, в подтверждение своей бесноватости, укусить его, но не сумел дотянуться. И желание кричать и ругаться куда-то пропало. Старец начал читать записанные в тетрадь молитвы, держа левую руку на груди венгра.
Ласло заслушался. Он уже неплохо знал русский язык, но молитвы произносились на старом языке, который отличался от обиходного довольно сильно. Он почти не понимал, что произносит нараспев старец, слова звучали для него как странная музыка, которая сначала лишь касалась его ушей, но постепенно начала проникать в голову, опускаясь всё ниже и ниже – до самого сердца. Но что такое? Отчего у него такие мысли? Не для этого же он здесь.
Он из всех сил сжал веки и тут же раскрыл глаза. Ему показалось сначала, что изображение внутреннего убранства храма нарисовано тусклыми красками на листе бумаги, потом оно приобрело объём. Где же та заплата, под которой… Он пошарил руками по штанам: заплата находилась достаточно высоко, почти у пояса, и вынуть отравленную кожу можно было очень легко и незаметно. Какой же предусмотрительный этот брат Гийом! И место выбрал удобное. А что раньше о том не сказал – так ведь каждый должен знать лишь то, что нужно в каждый момент, и не более. Так он говорил, и венгр был с ним совершенно согласен. Очевидно, Ласло не было нужно раньше времени знать о некоторых вещах.
Ласло незаметно вытянул из-под заплаты кожу. Движения его были медленны и осторожны. Вот отравленный кожан лежит в его ладони. Остаётся малое – схватить старца за руку. Надо только выбрать подходящий момент. И такой момент вскоре представился.
Амфилохий сделал небольшую паузу, словно собирался отдохнуть от монотонного чтения, и отвёл взгляд в сторону, как будто увидел что-то в углу храма. Ласло резко вскрикнул, схватил старца за руку, которую тот держал на его груди, и крепко сжал. Амфилохий не стал вырывать руку, лишь взглянул на мнимого бесноватого и начал читать новую молитву. А Ласло вдруг неодолимо захотелось спать.
Некоторое время он сопротивлялся, пытаясь бороться со сном. Он помнил, что следовало бы незаметно убрать отравленную кожу обратно под заплату, но старец больше не отводил взгляда, и сделать это незаметно было невозможно. Наконец голова его стало как будто пустой, веки отяжелели настолько, что держать их поднятыми стало совершенно невозможно. Они поползли вниз, вздрагивая и стараясь вернуться на прежнее место, но поделать ничего уже было нельзя. Веки опустились, и Ласло заснул.
Старец ещё некоторое время читал молитвы. Наконец, перелистнув последнюю страницу, он закрыл тетрадь. Ласло крепко спал. Амфилохий поднял свободно лежащую на лавке руку, взял отравленную кожу, прищурился:
– Надо же.
Засунул кожан под заплатку и направился к выходу из храма. На паперти стоял, поёживаясь от холода, брат Гийом.
– Ну что? Как? – бросился он к Амфилохию, едва старец переступил порог и вышел на паперть.
Тот посмотрел на него сурово:
– Не беспокойся, отчитал как надо. Не будут больше бесы мучить твоего внука. Да тебя бы самого отчитать.
– Что? Почему? – растерялся брат Гийом.
– Время, видно, пришло, – непонятно ответил Амфилохий и направился в сторону трапезной, из которой доносились сытные запахи готовящейся еды. – Ты внучка не трогай, пусть поспит. И я распоряжусь, чтобы его не тревожили. Позже в келью перенесут.
Ласло проспал до вечерней службы. Монахи отвязали его, уже проснувшегося и недоумённо хлопавшего глазами, и проводили к отцу Амфилохию. Тот лежал в своей келье в выдолбленной из сосны домовине, уже многие годы служившей ему ложем. Услышав звук открывающейся двери, он повернул голову. Брат Гийом и Ласло подошли к старцу.
– Худо мне, – сказал Амфилохий, – до утра не доживу. Одно радует – бесов прогнал. Время моё пришло. Я знаю. И всё будет так, как желает Бог.
Амфилохий отвернулся от гостей. Брату Гийому его слова показались бессвязными, как бред умирающего. Он ещё не успел без свидетелей поговорить с Ласло, но теперь был уверен – у того всё получилось как надо.
На плечо брата Гийома легла чья-то рука. Он обернулся: перед ним стоял человек в монашеской рясе, но взгляд его был каким-то колючим, в нём не было ни капли благости, отличающей людей духовного звания от мирян.
– Вы утомили старца, – коротко сказал он. – Ступайте на вечерню. Где разместиться, вам укажут.
– Да-да, брат Онуфрий, проводи их, – слабо сказал Амфилохий, – а мне надо помолиться. – И он закрыл глаза.
Онуфрий, оказавшийся экономом[183]183
Эконом – должностное лицо в монастыре, ведающее хозяйственными вопросами.
[Закрыть] Сергиевой обители, повёл брата Гийома и Ласло на службу, по окончании которой им указали на места в доме для паломников.
– Отец Амфилохий велел, чтобы вы до его отпевания не покидали обитель, – сурово произнёс Онуфрий и удалился.
Старец умер под утро. То ли брат Гийом перемудрил с ядом, то ли здоровье у старца было уже слишком слабым, но отрава подействовала слишком быстро. Брат Гийом, узнав о кончине, в панике хотел бежать из обители, но Ласло остановил его:
– Не стоит. Если сбежим, на нас сразу и подумают. А зимой путников поймать легко, в лесу ведь не укроешься.
Они выстояли отпевание Амфилохия, потом задержались на девять дней. Брат Гийом снова хотел уйти раньше, но Онуфрий посматривал на них как-то нехорошо, и пришлось остаться. Через девять дней Ласло подошёл к стражникам на воротах и низко им поклонился:
– Простите, добрые люди, если обидел чем. То не я говорил, а бес во мне. Спасибо старцу Амфилохию, изгнал окаянного.
Десятник посмотрел на него сочувственно, а знаток венгерского лишь одобрительно хекнул. Остальные стрельцы скользнули взглядом равнодушно и отвернулись. Когда брат Гийом и Ласло отошли от Сергиевой обители на несколько вёрст, венгр, отвернувшись от коадъютора и глядя на склонившиеся под тяжестью снега лапы высоченных раскидистых елей, сказал:
– А ведь он обо всём догадался.
– Почему? – удивился брат Гийом.
– Я ведь заснул, а кожу отравленную так и оставил на лавке. А когда проснулся, она лежала под заплаткой.
– Так ты сам её туда и засунул, – ответил коадъютор, – так бывает, когда человек в полудрёме что-то сделает, а потом не помнит.
– Нет, не так, – уверенно ответил Ласло. – И, брат Гийом, хорошо, что ты дал мне противоядие. Я ведь мог во сне коснуться отравы.
Коадъютор посмотрел на него, прищурившись:
– Запоминай, Ласло. Все мы каждый миг рискуем своей земной жизнью ради торжества святой католической церкви и ради жизни нашей будущей. Не было никакого противоядия, простая травка это – для успокоения сердца. Поэтому я и просил тебя быть осторожнее. Говорить не хотел, потому как опасался, что испугаешься ты. А пуганый всегда делает ошибок больше, чем бесстрашный. Помни об этом.
– Буду помнить, – ответил Ласло и добавил, снова глядя на еловые лапы: – А он ведь понял.
В тот день до самого ночлега они шли молча. Путь их лежал в Москву.
Глава восемнадцатая
В МОСКВЕ
Истома Шевригин так и не дождался от Андрея Щел-калова поручения. Он несколько месяцев просидел в Старице, скучая и набирая вес от обильной пищи и малой подвижности. Чтобы не толстеть, Шевригин стал ежедневно совершать конные прогулки и драться со стрельцами – не всерьёз, а дабы кровь молодецкую взбодрить. Когда начались переговоры в Яме Запольском, Щелкалов вызвал его к себе. Дьяк сидел за столом и строчил что-то на листе бумаги, окуная изредка гусиное перо в чернильницу. На столе перед ним лежал плотно набитый кожаный кисет.
– А, Истомушка, – обрадовался Щелкалов, откладывая перо и присыпая написанное песком, – садись, родной. Стосковался, поди, по семье-то?
– Стосковался, – подтвердил Шевригин, – два года не видел. Доченьки уж и забыли, наверное, отца.
– Ну-ну, слезу-то не дави, – дьяк указал на кисет, – это тебе за верную службу. Бери, заслужил.
Истома шагнул к столу и взял приятно звякнувший кожаный мешочек.
– Сотня золотых здесь, – сказал дьяк, – расщедрился Иван Васильевич. Езжай в Москву, семью порадуй.
– В Москву! – не сдержавшись от неожиданной радости, вскрикнул Истома.
– В неё, в неё, родимую. Езжай и сиди дома, из города не отлучайся. Как переговоры в Яме закончатся, все туда переберутся – и я, и посланники папские. Духовные лица соберутся. Про унию говорить будем. Ты ведь у нас теперь знаток римских нравов. Можешь пригодиться.
Истома уехал в тот же день. Письма с оказией он жене высылал уже несколько раз – пусть сама неграмотная, но отец её, что там же, в Истомином доме, живёт на время его отлучки, читать умеет. В избе же без мужика никак нельзя. Как же Истоме хотелось домой! Истосковалась, наверное, баба, да и дочки подросли. Гостинцев ждут. И тестя он не забыл – всем припас. Пусть не из Рима, но когда деньги есть – что угодно и в Москве купишь, и в Старице. Почти всё.
В Москву шли и брат Гийом с Ласло. В пути коадъютор простыл и захворал. Пришлось им остановиться в большом селе, не доходя до Москвы вёрст тридцать. Хорошо ещё, приютившие их хозяева не испугались ни чумы, ни оспы, ни холеры с лихорадкой – отвели пустующий хлев – живите, божьи странники! Благо хлев был перестроен из старой избы – печка в нём имелась. Там самые холода и переждали.
Брат Гийом знал, к кому обратиться в Москве. Давид, хоть и отнекивался вначале, отписал всё же своим людям, которые обещали пристроить Ласло при поварне Чудова монастыря, а брата Гийома – там же в богадельню. Уже было известно, что переговоры об унии будут проходить в Кремле – где ж ещё? – а обедать переговорщики где станут? Не в Новодевичий же ехать. Вот там, в Чудовом монастыре[184]184
Чудов монастырь – кафедральный мужской монастырь в Кремле, основанный в 1365 году. В годы советской власти снесён.
[Закрыть], что прямо в Кремле и стоит, и предстоит Ласло изловчиться и подсыпать яду в еду или питьё митрополиту Московскому и всея Руси Дионисию. А уж брат Гийом подберёт такой яд, который ни запахом, ни вкусом себя не выдаст. Уже подобрал. И мучиться митрополит не будет. Просто уснёт как-то – не на первую, так на вторую ночь после отравления, – и не проснётся. Или на третью. Что ж – так порой бывает и со здоровыми людьми, пути Господни неисповедимы. А дальше пусть уж Давид Ростовский сам со своими приспешниками склоняет царя к принятию унии.
Ехал в Москву Антонио Поссевино. Не повезло ему – в самую лютую стужу довелось трястись в открытых санях по заснеженным просторам Московского царства. Любящий тепло итальянец приказал каждые три дневных перехода делать двухдневную остановку, чтобы отогреться, выспаться и отдохнуть. Оказывается, при большом холоде даже просто оставаться вне дома – большой, утомительный труд. А ему ведь через пару лет уже пятьдесят будет. Ах, как далеко ласковая солнечная Италия!
Он уже написал в Старицу Стефану Дреноцкому и Микеле Мориено, чтобы тоже ехали в Москву. Опухшие от малоподвижной жизни вкупе с пьянством, они восприняли приказ Поссевино с великой радостью. Андрей Щелкалов не возражал, выделив им в охрану два десятка стрельцов. Да и выпроводил из Старицы – ещё до Истомы, велев в пути с селянами об унии не говорить. Впрочем, стрельцам был дан указ следить за послами латинскими – не очень-то тут поговоришь!
Съезжались по распоряжению митрополита Дионисия в Москву лица духовного звания – высшие церковные иерархи. Возглавляющие епархии епископы, архиепископы, святой жизни священники рангом пониже. Приехал и Давид Ростовский – с большой свитой, вольготно разместившейся в московской своей усадьбе. Давид по праву особо приближённого в тот же день отправился к царю, уже второй месяц находившемуся в глубоком трауре по нечаянно убитому царевичу Ивану. Царь, увидев его, прослезился и, поцеловав руку, припал к груди, уткнувшись носом в правое плечо архиепископа:
– Давид! Больше месяца нет душе покоя! Сын ведь, сын. После меня на трон сел бы! Самый разумный, самый толковый! И возрастом уже вышел! Сын ведь!
– Сочувствую твоему горю, государь, – ответил Давид, – но, видно, на роду ему было так написано. Пути Господни неисповедимы. Кому сколько пройти по дороге к Господу – не нам судить. И не вини себя. Себя винить – предаваться унынию, а это смертный грех. Удел монарха таков – миллионы сыновей у тебя и миллионы дочерей. Подданные твои – суть дети. Чего не вернуть – того не вернуть. Думай о будущем. О подданных своих думай, государь.
– О чём говоришь, Давид? – Царь перестал плакать и поднял на архиепископа лицо.
– О том, ради чего мы все в Москве собрались. Редкая возможность перед нами открывается. В кои-то веки можем прекратить распри между христианскими народами и сплотиться для отпора агарянам.
– Сын у меня, – жалобно сказал царь, и Давид понял, что о сплочении христианских народов следует поговорить в другой раз.
– Я помолюсь за него, государь, – сказал он и перекрестил царя.
Иван Васильевич вздохнул и опустился на высокий резной стул.
– Прав ты, прав, Давид. О подданных надо думать. Все они – дети мои. И от меня зависит, что дальше будет.
Перемена в настроении государя была, как часто случалась и ранее, внезапна. Он вдруг перестал быть плаксивым, расслабленным. Перед Давидом сидел царь и государь всея Руси Иван Васильевич из рода Рюрика.
– Ступай, Давид, – сказал царь. – Скоро начнём с послом папы говорить об унии. Будь честен и прям. Не скрывай, что думаешь. Скоро решится судьба державы нашей. А теперь ступай.
Давид поклонился и вышел из царской светлицы, оставив своего государя сидеть на стуле…
По письменному ходатайству Давида Ласло под именем Ивана пристроился, как и предполагалось, в поварню Чудова монастыря. Венгр показал себя расторопным и сообразительным отроком. Первоначально его сажали чистить репу или перебирать крупы, частенько смешанные с мышиным навозом и другим сором. Или отправляли рубить дрова. После того как он показал, что справляется с работой вдвое-втрое быстрее, чем другие отроки, что служили при поварне, его поставили разделывать рыбу и мясо. Старший повар, заметив его рвение, взял Ласло на примету и позволял варить что-то простое – кашу или овсяный кисель.
Сотоварищи его по поварне, видя стремительный служебный рост недавнего пришельца, жутко ему завидовали и всё время норовили подгадить: то гнутый гвоздь в обувь кинут, то таракана в кашу – мол, зря ему верят. То передразнивали плохой его выговор. Только Ласло на все эти потуги задеть его отвечал лишь ехидной улыбочкой и молчанием, от чего недоброжелатели злились ещё больше.
К тому времени, как в Москву съехались все, кому предстояло участвовать в спорах о вере, Ласло выдали красную рубаху, кафтан с золотым шитьём и велели выносить кушанья гостям.
– Молодец, – сказал главный повар, ухмыляясь, – так дальше пойдёт – ты в царёвы слуги, а то и в дворяне выйдешь.
Когда Ласло рассказал о своих успехах брату Гийому, тот радостно потёр руки: всё пока шло так, как он и задумал. Осталось только дождаться, когда во время перерыва в спорах митрополит Дионисий придёт в Чудов монастырь обедать. Они беседовали за углом богадельни, где жил брат Гийом. Предусмотрительный коадъютор уже обследовал закуток, убедившись, что подслушать их невозможно: окон с этой стороны дома не было, а кремлёвская стена – слишком высока и слишком толста, чтобы кто-то, спрятавшись за нею, слушал, о чём шепчутся дед с внучком.
– Держи, – сказал коадъютор Ласло, протягивая ему маленький кожаный мешочек, – высыплешь ему в еду или питьё. Скончается от сердечного разрыва. В ту же ночь. Ветхий он совсем.
– Куда же мне это спрятать? – недоумённо спросил Ласло.
– Сам придумай.
Ласло решил пришить внутри рукава рубахи карман, чтобы туда и положить отраву. Рукава широкие, ничего и не видно. И под рукой всегда – кто знает, когда случай выпадет выполнить задуманное?
– Ступай, – произнёс брат Гийом. – Иди, не оглядывайся по сторонам.
Ласло кивнул и вприпрыжку направился к поварне Чудова монастыря. Коадъютор удовлетворённо кивнул: поведение мнимого внучка было совершенно естественным, и даже самый подозрительный человек не догадался бы, какие мысли клубятся в его голове. Впрочем, не догадывался об этом и сам брат Гийом. Хотя Ласло по-прежнему выполнял все его требования, но сейчас венгру почему-то расхотелось травить кого бы то ни было. Он, конечно, соглашался, что приказ старшего должен выполнить обязательно: иерархия – основа всего, и не должен он ни сомневаться, ни тем более оспаривать распоряжения, данные ему братом Гийомом. "Как палка, послушная любому движению руки, как восковой шар, который можно как угодно видоизменять, как распятие в руке повелевающего, которое можно поднимать или опускать, двигать им как угодно", – мысленно повторял он главный закон "Общества Иисуса".
И одновременно при одной лишь мысли об отравлении его охватывало душевное волнение, которого раньше он не ощущал никогда. Ни во время всего их кровавого пути от Равенны до Москвы, ни ранее, когда он, совсем ещё юный, вёл себя настолько безобразно, что незаконный отец его, граф Хуньяди, счёл за нужное сплавить своего непутёвого, но способного к наукам бастарда в знаменитый строгостью новициат иезуитов. Да, убивал Ласло и до Равенны – примкнув к шайке разбойников. Всех их однажды схватили и повесили, в живых остался лишь он – стараниями отца. Не из корысти убивал, а исключительно ради ощущения убийства. И не испытывал при этом ничего. Может, в этом и дело? Он не имел врождённой склонности к лишению другого человека жизни, как не имел и особого почтения к людям. А сейчас словно чаша весов качнулась, и он, пресытившись убийствами, которых другому хватило бы на десять жизней, убивать расхотел. И каким образом произошла эта метаморфоза – Ласло не понимал…
Перед Антонио Поссевино стояло две задачи. Во-первых, он должен был склонить Ивана к принятию унии с католической церковью по примеру Ферраро-Флорентийской унии – для того и привёз эту книгу в подарок. А уж после принятия унии, во-вторых, следовало позаботиться о заключении союза против турок. Поссевино помнил о цифрах, которые ему сообщил Замойский, и решил, что надо будет убедить русских в готовности Григория Тринадцатого к такому союзу. Как и в готовности Венеции, Генуи и Испании присоединиться к ним. Тогда даже Речи Посполитой деваться некуда будет, какой бы разумник Замойский ни ходил там в коронных канцлерах. Но сначала – уния!
Первая встреча папского посольства с русским царём в Москве состоялась двадцать первого февраля. Как и ожидал Поссевино, в Грановитую палату набилось много народу: не только царь с Андреем Щелкаловым и писцами, но и вся Боярская дума, и епископы всех епархий Русской православной церкви. С Поссевино были только оклемавшиеся от пьянства Стефан Дреноцкий и Микеле Мориено.
Поскольку беседа должна была стать долгой, царь велел всем сесть и первым начал разговор. Перед встречей с послами Иван Васильевич долго беседовал с Андреем Щелкаловым и митрополитом Дионисием, чтобы решить, как себя вести с папскими послами. Несмотря на то что цель, для которой приехал Поссевино, была достигнута и мир с поляками заключили, выпроводить его из русских пределов без обещанных споров о вере было бы неразумно. Пусть все формальности будут соблюдены. А если этот Поссевино вместе с его папой считают, что сумели объехать русского царя на кривой козе – то сами дураки и пусть не жалуются своему католическому лжебогу.
Царь сидел на троне из слоновой кости, украшенном тончайшей резьбой с изображением библейских сцен. Он был в полном царском облачении для торжественного приёма иноземных гостей. Скипетр и держава плотно лежали в широких ладонях Ивана Васильевича. Собравшиеся вполголоса переговаривались, но, когда появились иноземные послы, все сразу смолкли и стали рассматривать вошедших в упор. Но те, привыкшие к бесцеремонности московитов, не обращали на это внимания. Когда Поссевино, Дреноцкий и Мориено уселись на предназначенные им места, Иван Васильевич откашлялся и сказал:
– Вот уже больше полувека исповедую я единственно верную религию – святое православие. И когда я предстану перед Богом, он спросит меня, на какой истине основывается моя вера. И я отвечу, что всегда был православным. Но ты, Поссевино, католик, и я разрешаю тебе сейчас говорить то, что ты посчитаешь нужным. Попробуй убедить меня, что я не прав. А я попробую убедить тебя.
Поссевино поклонился царю и посмотрел на Дреноцкого, который взялся переводить беседу папского посла и русского царя:
– Благодарю тебя, царь, что дал мне в числе прочих твоих милостей самую большую – возможность этой беседы. Боюсь, что до тебя неверно донесли, с какой целью я приехал в твоё царство. Я вовсе не собираюсь убедить тебя оставить уважаемую греческую веру, ведь её исповедовали многие почитаемые всеми христианами святые – Иоанн Златоуст[185]185
Иоанн Златоуст (347–407) – архиепископ Константинопольский, один из трёх Вселенских святителей и учителей.
[Закрыть], Василий Великий[186]186
Василий Великий (330–379) – архиепископ раннего христианства, писатель и богослов. Один из трёх Вселенских святителей и учителей.
[Закрыть], Афанасий[187]187
Афанасий Великий (295–373) – один из отцов церкви. Известен как непреклонный противник арианства. Выдержал гонения в период доминирования арианства в Восточной Римской империи.
[Закрыть]. Никакого разрыва римской церкви с византийской и не было. Напротив, папа Григорий Тринадцатый очень хочет, чтобы Русская церковь и дальше оставалась верной древним традициям и решениям соборов первых веков христианства. Всего-то и надо, что отказаться от тех раздоров, что внесли в наши отношения Фотий[188]188
Фотий (820–896) – Константинопольский патриарх. Критиковал римских пап, был первым, кто обвинил их в ереси. В православии почитается как святой.
[Закрыть] и Михаил Керуларий[189]189
Михаил Керуларий (1000–1059) – Константинопольский патриарх. При нём произошёл разрыв западного и восточного христианства (1054). Имел большую власть, занимался политическими интригами. Был смещён с должности патриарха императором Исааком Первым и сослан на остров Имброс. Погиб по пути к месту ссылки в результате кораблекрушения.
[Закрыть]. Истина для всех христиан одна. И пусть свершится единение. Флорентийский собор полтора века назад объединил наши церкви. Мы едины во Христе, и не важно, что существуют западная и восточная церкви. Во имя Божественной истины нам надо стремиться не к розни, а к единению. Поэтому папа благодарен русскому царю, ведь именно его письма побудили Святой престол добиваться возобновления союза христианских церквей.
Поссевино замолчал. Молчал и Иван Васильевич, обдумывая ответ папскому послу. В Грановитой палате повисла тишина. Наконец царь заговорил.
– При моём восшествии на престол я не получил от митрополита благословления на обсуждение вопросов веры, – ответил он, – и греки здесь ни при чём. Я верю не в греков, а в Христа. И до Византии, которая давным-давно погибла, мне нет дела. Мы, православные, исповедуем истинную христианскую веру, которая по многим вопросам отличается от католической. Первые римские папы были достойнейшими людьми, и православные почитают их. Климент, Сильвестр, Агафон, Вигилий, Лев, Григорий[190]190
Римские папы раннего христианства.
[Закрыть]. Но их преемники оказались недостойны великих предшественников. Их поведение вызывает осуждение православных. Поэтому католичества мы совершенно не приемлем.
– Такая осторожность в вопросе веры вызывает лишь уважение, – согласился Поссевино, – но, думаю, это от того, что православные плохо знакомы с католичеством. Довелись им лучше узнать веру, которую исповедуют в Риме, отношение изменилось бы к обоюдному благу. У нас много общих врагов, противостоять которым следует сообща. Если бы католикам было разрешено иметь в Москве и других городах свои храмы и свои духовные училища, называемые коллегиями, русские перестали бы относиться к католикам как к врагам.
После этих слов в Грановитой палате как будто зашумел первый утренний ветер. Так бывает, когда перед рассветом в лесу стоит полная тишина, не колышется ни единая веточка, ни единый лист, и вдруг свершается нечто непостижимое, объяснения чему нет и быть не может, и сначала по верхам, а потом всё ниже и ниже пробегает сперва лёгкое, потом всё более усиливающееся дуновение ветра, и вот уже он шумит в полную силу, возвещая приход нового дня. Так же и в Грановитой палате – как будто после слов Поссевино что-то сдвинулось с места, послышался недовольный ропот, который быстро усилился и зазвучал в полный голос, с выкриками и проклятиями папским послам.
Поднялся, не спросив позволения царя, митрополит Дионисий и произнёс, гневно сверкая глазами:
– Не бывать на Святой Руси латинской ереси, не бывать. Повадки католические нам давно известны. Не мытьём, так катаньем. Влезете одной рукой, а оглянуться не успеешь – уже все скопом сидите и ещё нас поучаете, как правильно Богу молиться. Не бывать латинским храмам на Руси, не бывать!
Он обернулся к царю. Брови сдвинуты, рот оскален, немощные кулаки сжаты в камень:
– Государь! Ты почто разговоры такие окаянные допускаешь? Гнать католиков, гнать!
Иван Васильевич нахмурился. Он был недоволен, что митрополит начал говорить без его царского разрешения. Все присутствующие смотрели на царя, замечая это его недовольство.
– Кого гнать и когда гнать – то я решаю, – ответил он, едва сдерживая ярость, – а тебе, митрополит, не по чину так себя вести. Знаю тебя как человека, который всегда взвешивает слова, прежде чем они покинут уста. Поэтому для меня удивительно, что ты сейчас так яростен. Выслушай латинянина, если не согласен – скажи. А я решу, что с ним делать.
Поднялся со своего места Давид Ростовский:
– Дозволь, государь, говорить.
– Говори, – разрешил царь.
Гневная отповедь, которую Дионисий получил от царя, внушила архиепископу Ростовскому убеждение, что Иван Васильевич уже всё решил в пользу папских послов и нынешнее собрание лишь скоморошество, назначение которого – придать царскому решению вид всеобщего волеизъявления. Для того и выступил царь первоначально против католиков. Решение-то судьбоносное, его на себя одного брать нельзя. Народ ведь если встанет против латинян – и царя на пики подымет, никакие стрельцы не спасут. Да сами стрельцы и подымут. А так – и взять нечего: сами решили, теперь и ходите под папой.
– Государь, – сказал Давид, – я так мыслю, что латинянин дело говорит. Сообща-то всё лучше, чем врозь. И с турками вместе ловчее справиться. А обряд церковный останется тот же, об этом и речи быть не может. А то, что папы порой ведут себя непотребно, так ведь то когда было? Да и далеко Рим. Мы здесь и без него управимся. Вот и получается, мы вроде как с Римом будем и вроде как без него.
Царь сидел – по-прежнему хмурый – и молчал. Давид, не видя в нём ни поддержки, ни осуждения, споткнулся и замолчал. Потом сел. Вскочил Мишка Нагой, брат царицы Марии. Было ему уже за тридцать, и ума невеликого, но чутьё имел – куда там архиепископу Ростовскому! Почуял, почуял царёв шурин, каково в действительности настроение государя, потому и закричал без разрешения:
– Скажи, латинянин, отчего это морда у тебя скоблёная? Мужи от баб тем и отличаются, что у нас борода растёт. А вы, католики, кажись, по своей воле от мужества отказались, а?








