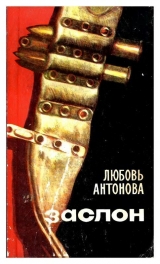
Текст книги "Заслон (Роман)"
Автор книги: Любовь Антонова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 25 страниц)
Улица была пустынна.
Идти домой не хотелось. Он устал видеть молчаливый упрек в глазах отца: они не разговаривают уже полгода. Если бы не мать, он ушел бы из дому совсем, и ему стало бы легче. Бедная мама… Задержись он до полуночи, и она не ляжет спать, будет скользить легкой, неслышной походкой от черного крыльца до калитки и обратно, тоненькая, с огромными печальными глазами. Увидит его, и все в ней оживет. Рассияется всеми морщинками рано увядшее лицо, блеснут, как вспышка молнии, зубы. Коснется невесомой ладонью его руки, и зажурчит ее ласковый голос:
– Беня, Бенечка… ты пришел, сынок! А я ужин собрала тебе. Там, на кухне… Папа и дети легли. Ты уж, милый, потише. Ладно?
Он вымоет руки, съест все, что стоит на столе, и уйдет в свою комнату. С матерью говорить ему почти не о чем, хотя любит ее крепко. Разве она поймет, если ей сказать, что ему поручили организацию Коммунистического Союза Молодежи?
– Беня, – всплеснет она сухонькими ручками, – Беня, детка моя, да зачем тебе это? А если папа узнает, Беня? Ведь если бы не большевики, то наши рыбалки… Не водись с ними, Беня, они сделают тебя коммунистом!
А он давно уже коммунист. «Если папа узнает…» Вениамин горделиво вскидывает красивую голову. Все равно рано или поздно узнает и, всего вероятнее, завтра, если прочтет газету. Пусть узнает. Пусть… Нужна же какая-то разрядка.
Его вдруг неудержимо потянуло на Амур. Искупаться, освежиться, – сбросить усталость, чтобы снились легкие, волшебные сны!
Он ничуть не удивился, столкнувшись на спуске к Амуру, за кафедральным собором, лицом к лицу с Алешей, и радостно воскликнул:
– Лешка, ты?! Здорово!
– Здравствуй, – сдержанно ответил Алеша. Вид у него был измученный, под глазами тени. Мадам Попова проявила-таки хозяйскую власть и заботу: «старую посудину» вычистили и обмыли от трюма до капитанского мостика. Нет, хватай выше, включая и трубу. Бездельничать судовладелица не любила.
– Очень домой торопишься? – спросил Вениамин.
– Да нет, – ответил с заминкой Алеша. – Ждать– то меня некому.
– Тогда пошли, – не выпуская Алешиной руки, Вениамин повлек его к слабо мерцающей маслянисто-черной воде. У самого берега скрипел и покачивался огромный плот. Пылающими столбами отражались в реке огни Сахаляна. С пристани доносился неясный гомон: только что пришел снизу пароход.
От воды тянуло запахом тину и въедливым холодком. Алеша зябко повел плечами и предложил подняться на «Комету» за курткой.
– Хорошо у тебя здесь, Алексей, – вздохнул Гамберг, усаживаясь на палубную скамейку. – Река, огоньки и даже музыка…
Из стоявшего на набережной дома с распахнутыми неосвещенными окнами доносились приглушенные расстоянием звуки рояля. Музыка казалась пленительной и нежной. Это была песня, впервые прозвучавшая в этом городе более двадцати лет назад. Уловив знакомый мотив, Вениамин стал вполголоса напевать:
…Перестаньте играть, эта сила огня,
Эти нежные, страстные звуки,
Как ребенка, рыдать заставляют меня,
Вызывая забытые муки…
Алеша тоже любил эту песню. Но сейчас ему, усталому и голодному, показалось, что Вениамин держится на «Комете» слишком развязно.
– Ты только затем и позвал меня, чтобы развлекать, или у тебя дело? – спросил он не очень дружелюбно.
– Конечно, дело, – ответил, вставая, Вениамин. – Да я тебя, если хочешь знать, уже несколько дней ищу!
– Мы в рейс ходили, недальний, потом дровами запасались в Купеческой протоке. Чистились в Бурхановском затоне, – сдержанно пояснил Алеша.
– В общем-то я, как говорится, в курсе… Хотелось потолковать с тобой по душам.
– Ну что ж, если явилось такое желание. Мне скажут «иди», я иду. Скажут «стой» – стою. – Разговор принимал нежелательный оборот. Вениамину стала вдруг смешна задиристость Алеши.
– Вот чилим-то! – воскликнул он сквозь смех. – Вот орешек-то водяной, отовсюду, где ни тронь, колючки торчат. А нам, брат, вместе шагать да шагать, быть может до самого смертного часа!
– Ты так думаешь? – улыбнулся и Алеша. – Ну ладно, выкладывай, что за важное дело по ночам тебе спать не дает.
– Я к тебе как к коммунисту обращаюсь, – ответил после небольшой паузы Вениамин. – Партийная конференция постановила: «Все члены РКП (б), до 20 лет включительно, должны облкомпартом и местными организациями откомандироваться в Российский Коммунистический Союз Молодежи для участия в его работах». Ну а ты, как ни быстро растешь, из этого возраста еще не вышел. – И он стал увлеченно рассказывать, что теперь вся огромная территория от Байкала до Тихого океана будет объединена в единую Дальневосточную республику.
Вениамин притянул Алешу к себе:
– И борьбой за освобождение этой республики от белогвардейцев и интервентов станет руководить Дальбюро ЦК РКП(б). Необходимо начать работу с молодежью и в освобожденных от семеновцев городах Забайкалья. В первую очередь нужно будет организовать Коммунистические Союзы Молодежи в Сретенске и Нерчинске. Вот такие дела, братуха! Везет тебе, как ты ни прибедняйся.
– Так ты уже знаешь, что я еду? – воскликнул удивленно Алеша.
– Дитятко, я знаю многое такое, что и не снилось древним мудрецам, – с напускной важностью провозгласил Вениамин. Он закурил и протянул коробку «Лопато» Алеше. Тот взял папиросу, прикурил от огонька, неумело затянулся.
– Вот ты говоришь – «буржуята», – протянул насмешливо Гамберг. – Да мы здесь такие дела развернем, чертям в аду станет жарко, а не то что белякам за Амуром. Мы им покажем, всем этим фонам и баронам! Но это все. прелюдия: дела же у тебя в Сретенске предстоят такие…
Они ушли с «Кометы» за полночь. В доме на берегу были закрыты все ставни. Сухо пощелкивала под ногами галька. В реке всплескивала рыба. Маленький пароходик на приколе пыхтел, будто лез в гору, и окутывался облаками пара. Алеша уже не жалел, что ему повстречался Вениамин.
23
Собираясь на свою Первую конференцию, амурские большевики едва ли знали, что неделей раньше в Сахаляне состоялся, тоже первый на Дальнем Востоке, белогвардейский съезд. Одним из участников съезда это казалось чистой случайностью. Другие считали, что тут принято во внимание стратегическое значение городка: в хороший цейс можно рассмотреть «большевистский рай» – Благовещенск. Мысль же о том, что в данном случае оказалась притягательной фигура обосновавшегося там Гамова, не приходила в голову младшим по чину, старшие же об этом попросту умалчивали. А между тем этот не старый еще казак, сумевший утянуть из Благовещенского казначейства тридцать семь миллионов золотом, и был гвоздем всей программы. Заставить его раскошелиться «на дело спасения родины» – этак на пять-шесть миллионов – вот была цель, ради которой и затевалась вся эта кутерьма. Злые языки утверждали, что Гамов крепко не поладил с генералом Сычевым, который не единожды высказывался в том духе, что «знаменитое» гамовское восстание было затеяно с единственной целью – грабануть казну. На самом же деле, зная об этих разговорах, Гамов относился к генералу терпимо, хотя и считал его выскочкой и зазнайкой. «Деньги не пахнут» – эту истину экс-атаман усвоил давно и не считал нужным вступать в пререкания с теми, кто не имел их вовсе. Не беспокоило его и то, что все меньше находилось желающих завернуть к нему «на огонек», и некогда торная дорога к каменному особняку в тупике «Вечного Блаженства» постепенно зарастала травой. А званых обедов за последние полгода не было совсем. Вот почему Гамов крайне удивился, когда «сам Сычев» – командующий белогвардейскими частями, расквартированными но среднему Амуру, – нанес ему визит и без обиняков предложил устроить обед в честь генерала Сахарова.
Гамов попытался было сослаться на занятость и нездоровье. Кругленький, с жиденькими желтыми бачками Сычев округлил выпуклые глаза, хлопнул его по коленке, до смерти напугав примостившуюся там серую ангорскую кошку, многозначительно хохотнул:
– Знаем мы, батенька, ваше нездоровье, знаем, знаем…
Тогда Гамов стал мотивировать отказ тем, что не держит китайского повара, довольствуясь незатейливой стряпней жены. Сычев схватил его руку их сочувствием потряс, горячо заверяя, что это как раз то, что и нужно. Разве у белого офицерства, в каких бы стесненных обстоятельствах оно ни оказалось, не найдется средств, чтобы по русскому обычаю попотчевать дорогого гостя? Правда, Сахалян дыра, но и здесь есть неплохие рестораны, где смогут приготовить и зеленый черепаховый суп, и утку по-пекински, а на десерт подадут и сыр «рокфор», и самбук из свежих абрикосов. Или у Чурина не найдется доброго вина? И вино будет, старое, выдержанное вино…
– Друг мой, да не в этом ведь счастье! Не пойми, Иван Михайлович, превратно, не набиваемся мы на гостеприимство. Отнюдь нет!.. Все мы люди, все мы человеки, все мы патриоты своей несчастной отчизны и скитающиеся на чужбине солдаты. Спим мы на походной коечке, забыли о теплом рукопожатии, о женской ласке, о милых сердцу глазах. Что нам парадность, лакеи во фраках, все эти масседуаны и консомэ?! – Сычев как будто искренне расчувствовался, полез за носовым платком.
– Русских штец похлебать хоцца! – воскликнул он горестно. – Кулебяки, расстегайчиков, блинцов с икоркой отведать. Да чтоб не порциями было отмеряно, а лежало славной горкой да плавало в маслице, как бывало у маменьки родной! – Губы генерала стали маслеными, голос смиренным и просительным, что странно противоречило настороженному, колючему взгляду, в котором явственно читалось: «А ну-ка попробуй откажи…»
И Гамов сдался.
– Оно, конечно, – сказал он после недолгого раздумья, – только хлопотно очень, да и боязно: такая персона, вдруг да не угодишь…
– А чего тебе угождать-то, Михалыч, – шумно обрадовался Сычев. – Карьеры ты, слава богу, не делаешь и не собираешься! Живешь, как тебе бог на душу положит. Отдыхаешь на покое… Может, ты расходов боишься? Так скажи прямо. Я плачу!
Гамов замахал обеими руками, заклялся, забожился, и вопрос был решен. Они еще немного побеседовали, и, повздыхав: «Будь здесь моя старушка, разве стал бы я так навязываться», – Сычев вручил хозяину каллиграфически выписанный на золотообрезном картоне пригласительный билет на съезд и отбыл восвояси. И когда настало время, Гамов пошел на съезд представителей белогвардейской рати просто так, из любопытства: «Сахаров с приветом от Вильсона. Что ж, послушаем, куда теперь ветер дует…»
Никогда еще старенькое казино, стоявшее на одной из тихих, мощенных булыжником улиц пограничного городка, не видало в своих степах более изысканного общества, чем в это июльское утро. Белогвардейцы съехались в Сахалян со всего Дальнего Востока. Здесь были офицеры всех мастей и расцветок и всех видов оружия: от сумрачных и поджарых, с математически ясным умом артиллеристов и вытанцовывающих, как балерины, пехотинцев до седенького, давно уже разучившегося возводить какие-либо укрепления отставного фортификатора и грузного адмирала.
Это сборище казалось испуганным сахалянцам нашествием саранчи. Бегали и искали у Чурина и Ти Фантая анчоусов и сухих вин вышколенные денщики. Резались в карты и жаждали приключений молоденькие адъютанты. Не все было скромно, не все пристойно, но никто не жаловался на гостей. Любой урон с лихвой возмещался деньгами, ссориться с сахалянским населением белым было не с руки.
Возвратившийся недавно из Вашингтона генерал Сахаров не скупился на расходы и был шокирован фривольностью обстановки, в которой ему предстояло сообщить о результатах своей миссии. Эти резвящиеся на сиреневом потолке нимфы, эти шелковые ширмочки на окнах и огромное, во всю стену, трюмо, мутно отражающее все, что происходит в зале, действовали ему на нервы.
Высокий и статный генерал то и дело подносил к носу батистовый платок и окидывал собравшихся быстрым взглядом карих с прозеленью глаз. Тонкий с горбинкой нос, широкие и редкие, тронутые сединой и смыкающиеся над переносьем брови, высокий гладкий лоб, вьющиеся волосы делали лицо Сахарова незаурядным и запоминающимся с первого взгляда.
Сахаров, сняв белые замшевые перчатки, аккуратно складывает носовой платок, округлым и заученно-красивым жестом берет графин и наливает в стакан воду. Спокойствие… спокойствие… Лучше помолчать лишнюю ми– нуту, чем сказать то, чего не следует говорить. Какое ожидание написано на этих истомленных духотой и жизненной усталостью лицах! Что это там, на боковом панно? Орфей в аду? Очень хорошо. Он охотно возьмет на себя роль Орфея. Успокоить их, зачаровать, усыпить… И в разрисованный с тусклой позолотой зал полетели слова успокоения и надежды:
– Господа офицеры! В Белом Доме президент Вильсон горячо меня заверил, что Америка не остановится на полпути и станет помогать нам до тех самых пор, пока русскому дворянству не будут возвращены все его привилегии и утраченные материальные ценности. Именно это он и просил передать вам, господа. – «Черта с два, – копошилась где-то на задворках сознания предательская мыслишка. – Вильсон менее всего намерен рисковать. Эта ходячая добродетель откровенно заявляет, что Дальний Восток на данном этапе не может рассматриваться как плацдарм для похода иностранных и белогвардейских войск в Сибирь и за Уральские горы. Средства для дальнейшей борьбы с большевиками нужно изыскивать нам самим».
Но вслух Сахаров произносил нечто совершенно противоположное своим мыслям: ласкающее слух и убаюкивающее, как сказка: о симпатиях и антипатиях правящих кругов Америки, о надеждах, возлагаемых «самой демократической страной в мире» на свободную Россию… Он берет наполненный до краев водой хрустальный стакан, поднимает его и как бы в задумчивости продолжает:
– Мы сидели с президентом на веранде его загородной виллы за чашкой кофе. Президент Вильсон сказал: «Война между Японией и Советской Россией неизбежна…»
– Дай-то бог, – шумно выдохнул кто-то в зале.
– Бог этого не даст, – вкрадчиво сказал Сахаров, поставил стакан и возвысил голос: – Господа офицеры, прославленные полководцы, заслуженные генералы и вы, надежда империи, еще ничем не отличившаяся золотая молодежь! Сейчас США более чем когда-либо готовы протянуть нам руку помощи, в чем бы она ни выражалась: в теплом обмундировании или в консервированном беконе, в долларах или в живой силе. Слово, данное в Белом Доме, не прозвучит впустую. Это перст судьбы, и судьба ваша в ваших руках, господа! Вы, священная белая рать, должны сделать все от вас зависящее, чтобы война Японии с Советской Россией началась как можно скорее. Война приведет к ослаблению обеих сторон, и вот тут-то в решающий момент Америка и наложит свое «вето». Я зову вас в бой, господа, в бой до последнего дыхания. И родина-мать увенчает вас лаврами!
– В бой! – экзальтированно выкрикнул толстый лысоватый полковник и вскочил, громко рукоплеща мягкими ладонями. Все встали, гремя стульями и бряцая шпорами. Воинственные клики потрясли пыльные портьеры. Молодежь ринулась на сцену покачать вновь явленного пророка, но виновник торжества сделал протестующий жест и отступил в глубь эстрады. Ретивые почитатели ораторского искусства Сахарова, опрокинув стакан с водою и подмочив лежавшие на столе листки с набросками доклада, попрыгали обратно в зал.
Сделав легкий полупоклон и мелодично позванивая шпорами, генерал сошел с золоченой эстрады, с которой обычно увеселяли публику заезжие шансонетки, в охваченную ликованием толпу. Ему жали руки, кто-то предложил хранимое рядом с собой кресло, а он шел по истертой ковровой дорожке, показывая в широкой улыбке зубы, к дальней ложе, где ждал его адъютант. Когда Сахаров уселся, председательствовавший на съезде генерал Сычев хитренько улыбнулся и сказал с едва заметной ехидцей:
– А сейчас, господа офицеры, я предлагаю с глубочайшим вниманием выслушать мнение аборигена здешних мест, главы войскового правительства Ивана Михайловича Гамова.
Вздремнувший было под шумок Гамов крякнул, провел рукой по редеющим волосам и кинул недобрый взгляд на Сычева. Он никак не ожидал такого подвоха: попробуй тут выкрутись, когда продремал добрую половину доклада. «Стукнуть розовую ехидну по плеши или оттягать за реденькие бачки, чтобы не выставлял дураком», – подумал нерассудливо Гамов и глянул исподлобья вокруг.
Он увидел приветливые лица. Все улыбались. Сахаров привстал с кресла в своей ложе и, снисходительно похлопывая ладонями, пропел своим звучным баритоном:
– Просим, наказного атамана, нижайше просим!..
Незаметным движением водворив на место верхнюю пуговицу парадных касторовых с желтыми лампасами брюк и поскрипывая мягкими сапожками, экс-атаман ленивой поступью направился к золоченой эстраде. Улыбающийся Сычев розовым амуром подлетел к ее краю, протянул ему руку и почти втащил по узенькой лесенке наверх.
– Смелее, смелее… – свистящим шепотом задышал он в ухо. – Мы все вас любим и ценим. Нужно же сделать кому-нибудь великий почин!..
Гамов приосанился, прижмурил светлые глаза. От него ждут речи. Что ж, он произнесет ее, как произносил уже однажды по ту сторону Амура, б то время она была неплоха, а теперь, два года спустя, так неожиданно предоставился случай ее повторить, к тому же никто из сидящих в зале ее и не слышал. Это, пожалуй, даже к лучшему, что он не собирался сегодня говорить, не ломал голову над чем-либо новым. Лучше не придумаешь, ей-богу, нужно изменить форму обращения и только. И как тогда, в марте восемнадцатого, когда он звал благовещенских реалистов под знамена затеянного им мятежа, Гамов шагнул вперед, обласкал взглядом тесные ряды офицеров, картинно поклонился и начал:
– Дорогие соратники, дорогие гости! Век наш – век мрачного пессимизма! У современного передового человека нет ни счастливых грез, ни веры в высокое; его оставили идеально-чистые мечты, которые вели людей великих к славе бессмертных подвигов…
Речь, видимо, производила впечатление: по залу пронесся шелест голосов. Экс-атаман возвысил голос:
– Невыносимо тяжело должно быть нравственное состояние человека, который не утратил еще веры в то, что он – образ и подобие бога. Представьте себе юношу, окончившего курс наук; у него много знаний, перед ним широко открыты двери к разносторонней, полезной для отечества деятельности…
– Ну, уж это слишком! – гневно перебил его темноволосый, сидевший во втором ряду офицер, вскидывая смуглое скуластое лицо и рубанув рукою воздух. Он вскочил, бесцеремонно двинув своего соседа, шагнул к эстраде и повернулся лицом к сидящим в зале. Темные глаза его пылали.
– Ваше превосходительство, – обратился он, не забыв при этом щелкнуть каблуками, к генералу Сычеву. – Не мне указывать вам, старшему по чину, как вести столь ответственное собрание, к тому же мы все ваши гости, но то, что сказал здесь атаман Гамов, не вселяет в наши сердца бодрости и… простите… звучит несколько экстравагантно, если не сказать больше! Такие речи на съезде белого офицерства явно неуместны. Мы не мальчишки! И даже те из нас, кто сидел год-два назад на школьной скамье, оросили своей кровью не одну пядь родной земли, прежде чем перешли Рубикон и стали скитаться по чужим городам и весям. И Маньчжурия для нас – сторонушка не дальняя да печальная! Там, за Амуром, мы оставили все, что нам дорого. Не вернуть этого – значит пулю в лоб! Каждому… каждому, кто сидит в этом зале. И нет иного выхода, и не будет!
– Кто это? – спросил Сахаров у адъютанта. В его холодных глазах блеснуло что-то похожее на любопытство, но он тотчас же опустил их и стал внимательно разглядывать свои крупные белые руки.
– Это представитель ставки Семенова, ваше высокопревосходительство, – почтительно привставая, ответил вполголоса адъютант, – поручик Беркутов.
– Вы с ним знакомы, Городецкий?
– Так точно, – краснея от удовольствия, подтвердил синеглазый и румяный адъютант. – Мы с ним учились в Благовещенской…
– Отлично! Вы его мне потом представите. Умница! Как он отчитал этого… этого… – Не найдя нужного слова, генерал Сахаров весь подался вперед и стал самым внимательным образом смотреть и слушать.
Беркутов пренебрег раззолоченной эстрадой. Он стоял внизу – там, где обычно сидели музыканты, – подтянутый и строгий, сверля своих слушателей напряженно-острым взглядом небольших, глубоко посаженных глаз, и после коротенькой паузы заговорил уже более спокойно, без жестов, с вытянутыми по швам руками.
– Да простит мою дерзость наказной атаман Гамов, – а он должен меня простить, – мы с ним земляки и оба скорбим о судьбах земли амурской, – но ни я, ни присутствующие здесь молодые офицеры, мы не можем с ним согласиться. «Широко открыты двери к разносторонней полезной деятельности», – проскандировал он с едкой усмешкой. – Вы слыхали? Это на чужой– то стороне, где и сокола зовут вороною?! Нет… у нас иная дорога! Мы, двадцатилетние, посвятили свою жизнь оружию и мщению!
– Верно, Донат! Молодец, Беркутов! – раздалось в зале. Несколько человек вскочили на ноги, кто-то прокричал «Ура!»
– Слава творцу! – поручик поднял руку, глаза его сверкнули. – В наших рядах нет двурушников, я могу говорить откровенно, не боясь, что выдам военную тайну…
Лица сидящих в зале отливали тусклой бледностью мертвечины, но глаза жили. Многие из них, как палые листья, подхваченные октябрьским вихрем, докатились до берегов Тихого океана от Балтики и от Черного моря, питаясь скудной надеждой на победоносное возвращение в рядах интервентов. Изгои… Они всюду были теперь пришельцами, и Дальний Восток был только этапом на их непродуманном пути.
А молодые… Беркутов знал, как в застенках контрразведки они воспитывали в себе храбрость. Они вырезывали на спинах истязуемых кровавые звезды, меланхолично напевая: «По небу полуночи ангел летел». Они срывали у своих жертв ногти. Они закапывали людей живыми в землю… Вот сидит двадцатичетырехлетний прапорщик Пономаренко. Волосы встанут дыбом, если он поведает, как взял из Благовещенской тюрьмы «комиссаров», шестнадцать из которых были потом зарублены у брошенной каменоломни.
Беркутов понимал, что от него зависело, выйдут ли они сегодня отсюда с верой в себя или, трезво глянув на дно своей могилы, потихоньку отойдут в небытие.
Он рванул из-за борта мундира руку, поднял ее, как для присяги:
– Господа офицеры! Мне посчастливилось быть полномочным представителем атамана Семенова в Токио. И я беру на себя смелость утверждать, что, ведя лирические собеседования с «товарищами-большевиками», японское командование неослабно и тайно готовит удар.
Раздались дружные рукоплескания. Беркутов пожал широкими плечами, низко поклонился. Темные гладкие волосы упали ему на глаза. Выпрямляясь, Донат резким движением откинул их назад и стал спокойно излагать, каких уступок ждут японцы от ДВР. Потом, зорко вглядываясь в лица, зашагал в дальний конец зала. Он сделал всего несколько шагов, когда к нему подскочил Городецкий.
– Пойдем со мной, друже, – шепнул, обнимая Беркутова за плечи, адъютант, – мой патрон горит желанием познакомиться с тобой.
Чтобы скрыть охватившее его ликование, Беркутов взъерошил светлые кудри своего бывшего однокашника и спросил на ухо:
– Мед пить или биту быть, Игорек?
Городецкий не успел ответить. Генерал Сахаров шагнул им навстречу и, как равному, протянул Беркутову обе руки.
24
Тщательно выбритый, благоухающий и свежий, Гамов встречал гостей у садовой калитки, приветливо улыбаясь, жал руки, проводил в гостиную. Когда все оказались в сборе, пригласил откушать:
– Прошу, господа, прошу… – гостеприимно возглашал он, распахивая дверь в прохладную, со спущенными жалюзи, столовую и пропуская вперед себя «цвет русского оружия». – Я рад, душевно рад, – приговаривал он, рассаживая вокруг большого овального стола офицеров.
– Не обессудьте, дорогие гости, китайского повара мы не держим: прихоть жены, она у меня брезглива, как кошка. Впрочем, по кухонной части она кое-что маракует, в этом вы сейчас убедитесь. – Усадив последнего гостя, Гамов подошел к ведущим во внутренние комнаты дверям, сложил руки рупором и крикнул: – Марина, Мариночка, где ты запропала, ау?!
Дверь распахнулась, и в ее проеме, как в раме, показалась экс-атаманша. Несмотря на жаркий день, она была в черном, наглухо застегнутом платье, с маленьким аметистовым кулоном на груди и бледной розой в высоко поднятых густых и тонких волосах.
– Моя супруга Марина Михайловна, – представил ее Гамов.
Марина молча улыбнулась, молча поклонилась. Лицо ее слегка порозовело, пухлые губы остались полуоткрытыми, за ними белели ровные зубы. Несмотря на перенесенные житейские передряги, Гамова казалась все еще молодой и привлекательной.
Гости вскочили и стали прикладываться к ручке. Первым после положившего начало этой церемонии Сахарова подлетел к Марине толстенький и коротконогий Сычев. Последним склонился перед нею тощий седой полковник Краевич. Глядя на него сверху вниз, Марина жалостливо, по-бабьи, подумала: «А этот куда? Сидел бы дома, качал бы внуков».
Марина села за стол и, улыбаясь все той лее немного смущенной и растерянной улыбкой, попросила «не побрезговать и отведать хлеба-соли». Гости приступили к закускам, расставленным вперемежку с винными бутылками и графинчиками разноцветных настоек.
Зернистая икра перекочевывала из двух фарфоровых бочоночков на тарелки. Сахаров взял полупрозрачный, истекающий жиром ломтик лососины. Сычев придвинул к нему маринованные груздочки и затейливый салат из крабов.
– Не правда ли, ваше превосходительство, все очень мило?
Сахаров благосклонно улыбнулся. Серебряные чарочки, до краев наполненные «Зейскими брызгами», звякнули, опустошились и стали на место.
– Чем бог послал, чем бог послал… – потирал руки радушный хозяин. – Черри-бренди, джип… все это чепуха, доложу я вам, господа!
– Можно подумать, что, живя в Сахаляне, вы теперь всему предпочитаете ханшин, – засмеялся Беркутов.
– О, нет, Донат Павлович! – улыбнулся ответно Гамов. – Вкусы мои остаются неизменными. Еще по стопочке горного дубнячка, господа!
– Мне все равно. Веселие Руси есть пити, – блестя темными глазами, усмехнулся Беркутов, принимая очередную чарку.
– Наша дань матушке Рассее, – нарочито растянув последнее слово, поддержал его Сахаров. – Помянем ее добрым словом и на чужбине.
Он поднял рюмку и потянулся через стол к хозяину. Гамов вскочил и, расплескивая вино, бросился к нему по скользкому паркету.
Гости шутили и смеялись, хвалили равиоли из рябчика и осетрину в белом вине с шампиньонами и лимоном, пили за утраченную родину, за здоровье хозяйки и, быстро захмелев, просили туфельку.
Марина дать туфельку отказалась. Она чокалась со всеми и пригубливала рюмку, но пила мало.
– Скушно что-то, – сказала она громко. – Вы бы, молодые, песню какую, а?
– Браво, Марина Михайловна! – воскликнул Сычев. – Слышишь, Саша, нужно уважить даме, – обратился он к своему чернявому адъютанту Рифману. – Ну-ка, нашу застольную!
Рифман немного поломался и вдруг запел с бесшабашной удалью:
– Разольем, друзья, по жилам
Золотую кровь Шампаньи…
Он повел пушистой бровью в сторону Беркутова и Городецкого, и они тут же подхватили:
Чтобы головы вскружило
Безрассудностью желаний…
Гамов подмигнул жене. Марина вышла, и сразу внесли шампанское.
Сахаров не стал есть последнего блюда, потыкал вилкой и задумчиво катал зеленую горошину из гарнира.
«Скучает, – думал, поглядывая на него с опаской, Сычев. – Чем бы его развлечь? Эх, не догадались подсадить в беседку музыкантов!»
Гамов подливал себе вина, уже забывая о своих обязанностях хозяина. Обычно он пил мало, но его клонило в сон; он привык спать в это время и теперь искусственно возбуждал себя.
В квадратной столовой становилось душно. Жалюзи были подняты, и окна распахнуты в сад. Слабый ветерок колыхал плотные чесучовые шторы. Тускло поблескивал хрусталь. Грязным пятном возле каждого прибора выделялась на белой скатерти скомканная салфетка. Даже цветы в высоких и хрупких вазах поникли.
«Не нужно было смешивать ландыши и розы, – устало думала Марина. – Они убивают друг друга». – Ей нужно было пойти распорядиться, чтобы десерт подали на веранду, но лень было сдвинуться с места. Бойка– китайчонок спросил ее о чем-то. Марина, не расслышав, утвердительно кивнула головой. Внесли землянику со взбитыми сливками. Крупные, сочные ягоды в белоснежной пене. Все обрадовались, как дети.
Никто и не заметил, как в комнату бочком просунулся семилетний Мишенька. Смотреть со стороны – дитя как дитя. А он подкрался к столу, схватил лежавший с краю первый попавшийся кусок, запустил в него белые зубы, да вдруг шваркнул кусок об пол и завыл дурным голосом:
– Мня… мня… мня…
Марина Михайловна побледнела, вскочила со стула и, схватив за руку, потащила упиравшегося сына вон. Сахаров вздрогнул, торопливо достал платок и стал вытирать лицо. Все переглянулись, стало отчего-то неловко. Сквозь неплотно притворенную дверь было слышно, как хозяйка дома выговаривала кому-то:
– Все Мишка поел, говоришь? Нет, тут уж не иначе твоя рука приложилася! Я ж тебе, зараза, по-хорошему говорила… – сердитая речь прервалась звонкой пощечиной и чьим-то приглушенным плачем. – Земляничка-то, она скусная ягодка, на даровщинку-то… Скусная, а?
Гамов побагровел, быстро встал и прихлопнул дверь. Никто не притрагивался к землянике. Экс-атаман распахнул двери на веранду и предложил освежиться сигарами и кофе.
На веранде под защитой полосатой маркизы было прохладно и тихо. От недавно политой клумбы тянуло мятной свежестью и резедой. Полукруглые ступени вели в запущенный, сбегающий к Амуру сад. На шестигранных столиках топорщились туго накрахмаленные скатерки, вокруг них теснились светлые плетеные кресла.
Пожилой лакей с помятым лицом, задыхающийся в своем черном фраке и размякших воротничках, и шустрый бойка в свежей курточке, с тонкой косичкой на затылке, видимо только что умывшийся, румяный и круглоглазый, внесли лакированный с крохотными фарфоровыми чашечками поднос, большой серебряный кофейник и корзинку с сухариками и пирожными «Микадо». Появились пузатенькие зеленые бутылочки с бенидиктином. Извинившись за все еще отсутствовавшую жену, Гамов неумело принялся разливать кофе.
Молодежь, гремя шпорами, ринулась в залитый клонящимся к западу солнцем сад. Белокурый адъютант Сахарова Игорь Городецкий подбежал к качелям, вскочил на них с размаху и стал раскачиваться, заливаясь счастливым смехом. Два других офицера, тоже хохоча во все горло, пытались стащить его за длинные ноги и болтали, как скворцы, пересыпая свою речь английскими фразами, что считалось большим шиком, – по-английски говорили американцы и свободно изъяснялись союзники-японцы.
«Жеребцы стоялые, – подумал с внезапным раздражением Гамов, – жируют от безделья. Я в их годы сено косил, коня сам ковал, в лес за дровами ездил на утренней зорьке. Эх…» И внезапно до боли захотелось вернуть то далекое время, и все, казавшееся когда-то будничным и трудным, вдруг растрогало и умилило до слез.






