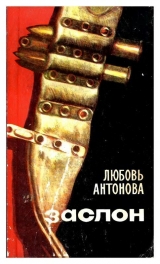
Текст книги "Заслон (Роман)"
Автор книги: Любовь Антонова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 25 страниц)
А Яков – умница. Что ему директивы центра, если чувствует он в себе неуемную силу и знает, что люди пойдут за ним…
– Возвращение сюда? – крикнул зло Тряпицын. – Какая глупость говорить о возвращении! Камня на камне не останется от Николаевска, когда мы уйдем отсюда. Камня на камне! – громыхнув стулом и припадая на раненую ногу, он шагнул к окну и трясущимися от бешенства руками стал отворачивать медный шпингалет.
Лебедева вскочила. Обутая в щегольские сапожки, она неслышными шажками скользнула к печке и стала ворошить в ней клюкой, ища под серым налетам пепла тлеющую головню. Она вздрогнула и уронила тяжелую клюку, когда Комаров шагнул к Тряпицыну и сжал его обтянутое черным сукном рубахи крутое плечо.
– Не дури, Яков, – сказал он сквозь стиснутые зубы. – У тебя появилась скверная манера: с виду советоваться, а на деле преподносить готовые решения. Уничтожить город, который мы не строили! Бред!..
Тряпицын ударил рукой по раме. Створки распахнулись. Резкий порыв апрельского ветра сорвал со стола и закружил в голубом махорочном дыму разрисованный бумажный листок.
– Да иди ты к дьяволу, – высвобождая плечо и приглаживая вздыбленные ветром волосы, буркнул анархист. – Может, ты ратуешь от имени народа? Кто же тебя уполномочил? Нужно быть без головы, чтобы оставить этот порт японцам. Москве было семьсот, а ее сожгли. И погубили этим не Россию, а Наполеона! – Он высунул голову из окна, подставляя разгоряченное лицо студеному ветру. Все было в движении. Земля и небо. Небо и земля. Летело к морю пепельно-серое месиво облаков. И ветер бил в лицо, прямо в лицо. На Амуре бесновалась непогода: разламывала и дробила подтаявшие рыхлые льдины. А люди нежатся в теплых постелях, не помышляя о том, что скоро сорвутся со своих насиженных гнезд. Он сдвинет их с места, эти обомшелые камни, и уведет в… область неизведанного! Так хочет он, Яков Тряпицын. Так диктует жизнь, и нельзя не подчиниться ее зову, ее приказам!..
– Уж не мнишь ли ты себя мудрее всех? – спросил вдруг Харитонов.
Тряпицын откинулся назад, глянул на него шалыми, раскосыми глазами:
– Что ты сказал? Я не расслышал.
– Я сказал, что толку носить на плечах голову, если не иметь в ней мозга, – спокойно ответил Иван Васильевич. – Николаевску семьдесят лет. Предать огню этот старейший в крае город – преступление.
– Преступление оставить его японцам! – Тряпицын вернулся к столу. В глубине его зрачков вспыхивал и гас зеленовато-острый волчий огонек. – Это мое мнение, и я не изменю его ни на йоту! – сказал он глухо.
– Твое мнение ничем не обосновано, – возразил Харитонов. – Так может рассуждать только тот, кто не верит, что мы сюда вернемся. Ты не веришь в это, Яков Тряпицын? Ты сам сказал, что не веришь. А я верю, и другие верят!
Белая полоска зубов сверкнула на темном лице анархиста и погасла. Он покачал головой, пряча глаза, наливавшиеся бешенством и кровью.
– Какое тебе и всем вам дело до моей веры?! – закричал он хрипло. – Чего вы от меня хотите?! Я не меняю своих решений. Понятно?
– А мы хотим, чтобы ты понял нас, – сказал молчавший все это время Бородкин. – Мы ведь не дети и кое-что повидали до того, как стали жить по твоей указке. И к голосу Анатолия Николаевича ты мог бы прислушаться. Что ты цыкаешь на него, как на гимназистика первого класса?
– За его широкими плечами подавление мартовского выступления японцев, – напомнил Харитонов. – С того времени немногим больше месяца прошло. Или ты забыл, как ранило тебя осколком снаряда? Не болит? Не ноет?
– Вот как вы заговорили?! – вскинул широкие брови Тряпицын. – Хорошие речи приятно послушать. Что здесь было до нашего прихода? Сговор?! – В его голосе явственно прозвучала угроза. Обращаясь к Бородкину и Харитонову, он явно предназначал свои слова хозяину дома. Глаза их встретились. Черные, блестящие глаза Комарова раскрывались все шире и шире, будто они впервые видели этого человека. А глаза Тряпицына суживались и еще более мрачнели, и рука невольно тянулась к кобуре маузера, болтавшегося на поясе под просторной рубахой. Вдруг Анатолий улыбнулся, и в этой улыбке было столько презрения, что Тряпицын вздрогнул, отвернулся и, глядя в сторону, неуверенно бросил:
– Ладно. Потрепались и хватит.
– Нет, отчего же! Говорят, у себя дома и угольщик мэр! – бросил с вызовом Комаров, перебегая пылающими глазами с одного лица на другое.
Прикрыв маленькой ладошкой рот, Лебедева, казалось, дремала у печки. Алеша, весь подавшись вперед, смотрел на Комарова широко распахнутыми, детски чистыми глазами. Бородкин насмешливо улыбался. Харитонов все так же спокойно поглаживал свою бороду, еле приметно и согласно кивая головой.
– Атаман Гамов вывез из Благовещенского казначейства все ценности, – присев на подоконник, продолжал Комаров. – Японцы скосили цвет Амурской партийной организации. Вытоптали и залили кровью землю. Летом девятнадцатого на ней не поднялось ни колоса. Некому было сеять: мирные хлеборобы били интервентов. Они первыми на Амуре сбросили японское иго. И в эту весну там окажется немало рук, соскучившихся по оралу. Но есть ли там зерно, которое можно кинуть в почву, чтобы оно дало обильные всходы, или деньги для закупа его на стороне?!
– Верно! Верно! – воскликнул Алеша. – Амурцы делятся последней краюшкой с теми, кто, спасаясь от произвола, бежит к ним и с запада и с востока. Но что там будет, если город захлестнут волны беженцев из Николаевска?
– И как они назовут тех, кто предал огню целый город? – поддержал его Харитонов.
– Ах, оставьте, – подала голос и Лебедева. – Уж я-то знаю ваш хваленый Благовещенск! Амурцы житного хлеба отродясь не едали… Пусть подтянут пояски. Потеснятся. Уплотнятся. Тогда и с других станет не до спросу! – Она подбежала к висевшей на стене карте и стала водить по ней карандашом, поясняя тоном, не допускающим возражений: – Вот здесь мы перекроем горловину Амура и отрежем японцам доступ к городу. Людей из Николаевска выведем двумя путями. Из Керби на Веселую Горку, оттуда на прииск Софийский, на Половинку, затем по Бурее спуск в Амур, и уже по Амуру подъем на судах до Благовещенска. Это наиболее короткий путь, но и более легкий попасть черту в зубы! Белогвардейцы не утерпят учинить с правого берега какую– нибудь пакость. Не отстанут от них и японцы. Могут всех перебить, могут угнать в Маньчжурию, да мало ли что… Второй путь вот этот: от Софийского свернуть на Экимчан и потом плыть по Селемдже и Зее. Здесь не грозят, – она усмехнулась, – роковые встречи, идти через тайгу и горные хребты хотя и труднее, но безопаснее…
– Но ведь мы находимся не в Керби, а в Николаевске, – резко возразил Комаров. – Это значит, что проплыть по Амуру и Амгуни и пройти пешком по тайге нужно в общей сложности еще более пятисот верст. Бросить так беспечно на таежное бездорожье женщин, детей, стариков… Сколько же здесь будет преждевременных и неотвратимых смертей?
Бледное лицо Лебедевой порозовело. Туго обтянутая гимнастеркой грудь высоко вздымалась. Бегло скользнув взглядом по лицу Комарова, она закончила, будто ее и не прерывали:
– Мы выведем людей в Амурскую область! Будем действовать немедленно, чтобы избежать в дальнейшем ненужных и кровавых жертв.
– Брависсимо, Нина! – воскликнул Тряпицын. – Светла твоя голова, и мысли здравы…
– Да мерзко же слушать паникерские речи, – обернулась к нему Лебедева. – Нам, солдатам революции, ни терять, ни жалеть нечего! Всего-то богатства нажито, что шоколадка с ореховой начинкой, – тронула она висевшую у пояса маленькую гранату, потом подбросила и поймала на лету крохотный браунинг. – С нами пойдут те, у кого не висит на ногах груз прошлого, те, кто молод телом и душой! Молчишь, Саня, – наклонилась она к Бородкину. – А ну беги, поднимай по тревоге союзных ребятишек! Посылай всех ко мне: я им гостинчиков припасла! Подкину лимонок и… еще что-нибудь найдется для их острых зубок! – С сестринской лаской обнимая юношу за узкие плечи, она заглядывала в его сумрачные глаза, ища в них ответа.
Бородкин осторожно высвободился, поднял с пола исчерченный бумажный листок, мельком глянув на него, положил на стол.
– Ничего я не обещаю, Нина, – ответил он просто. – Не могу обещать. Совесть не позволяет. Об одном прошу: давайте забудем все, что здесь было. Людей надо собирать: решать с ними, а не гнать перед собой, как стадо баранов на убой. Ведь город-то им родной. Не мы его строили, не нам и стирать его с лица земли!
– Да ты знаешь ли, милый, – поднялась на носки Лебедева, – за такие речи по законам военного времени… – и она выразительно поиграла браунингом.
Юноша посмотрел на нее пристально и сурово.
– Если я не прав, стреляй в затылок, – сказал он и, повернувшись, нарочито медленно переставляя ноги, направился к двери.
– Пойдем и мы, – тронул за руку Алешу Харитонов.
– Так-то лучше, – насмешливо протянула Лебедева, – а нам торопиться некуда. Дела, дела…
Во всем городе не светилось ни огонька. Ветер выл на седых пепелищах бывших японских казарм. Грызлись и рычали одичалые псы, а может, и хищные звери. Было неприкаянно и жутко, пока не потянулись деревянные крашеные заборы и рубленые домишки. Харитонов ударил рукой по стене одного из домов. За высокими воротами загремела железом цепи и залилась надрывным лаем чуткая дворняга.
– Смола в этих бревнышках окаменела. Они год от года становятся крепче, – сказал он. – Даурская сосна, нетленная в веках, а поднеси спичку – запылает ярче пасхальной свечи. Семьдесят лет… по бревнышку, по камешку… и пустить все по ветру!
– Народ этого не простит, Иван Васильевич! – воскликнул Алеша. – Никогда не простит!
– Тут не о прощении нужно думать, о расплате, – повернувшись к нему, живо ответил Харитонов. – И платить мы станем все вместе и сполна! В преступлениях нет ни правых, ни виноватых, а есть только преступники и жертвы. И есть еще суровая Немезида, карающая и тех, кто совершал преступления, и тех, кто оставался безучастным зрителем.
– Анархия – мать порядка… а, как вам это нравится? – презрительно усмехнулся Бородкин и приостановился: – Зачем они все-таки там остались?
Харитонов и Алеша не нашлись что ответить.
Едва за гостями Комаровых закрылась дверь, как Тряпицын провел крепкой ладонью по лицу, будто сдирая с него плотно прильнувшую маску, и раздельно сказал:
– Сядь ближе, Анатолий, поговорим по душам. Время терпит: с отъездом придется тебе повременить.
Лебедева подошла и села с ним рядом, посмотрела на Комарова и засмеялась:
– Имеющий уши да слышит, имеющий разум да поймет! Разъясни ему, наконец, Яша, что к чему!
В десятых годах нашего столетия приютившийся на пересечении Зеи с железнодорожной магистралью крохотный поселок Суражевка стал необычайно разрастаться. Его возникновение было вызвано необходимостью разместить рабочих, занятых на строительстве железнодорожного моста, но с годами он приобрел совершенно новое значение, став крупной перевалочной базой. Хлебородный юг Амурской области уже успешно торговал пшеницей, снабжая Маньчжурию и частично Приморье.
Китайские товары теперь мало кого удовлетворяли. В неограниченном количестве требовались уже и русский сахар, и русский ситец, и русская кожа, и русские лакомства.
Были и другие требования. Матушку-соху здесь открыто не уважали. О молотьбе цепами не могло быть и речи. Амурские стодесятинники только посмеивались, вспоминая, как бились на клочке земли с такой «справой» их прадеды, деды, отцы. А на Амуре добрый американский дядя Мак-Кормик взял на себя немалую заботу: наводнил область красочными прейскурантами и разбитными коммивояжерами, незамедлительно выполняющими заказы на сеялки, веялки, конные грабли, жатки, паровые молотилки. Только плати. Многим просто не верилось ни в океанские пароходы, доставлявшие эту технику во Владивосток, ни в длительное путешествие ее по железной дороге до Суражевки. Американская разворотливость создавала впечатление, что все это растет, как грибы, здесь же на месте.
Огромное значение имела Суражевка и для северных, горнопромышленных районов, где золото не только рыли, но нередко находили и на поверхности земли. Приискательский «фарт» кружил зачастую и самые трезвые головы. Слово «старатель» на Амуре исстари овеяно романтикой. Однако в повседневной жизни столь легендарная личность была довольно-таки бескрылой. Он был самый обыкновенный потребитель, и при всей скромности его каждодневных запросов ему нужно было и есть, и пить. Ему нужен был плис на штаны и шелковые полушалки для «зазнобы». Нужен был спирт, и «лампасеи», и «махра», и все это шло опять-таки через Суражевку. Во время летних паводков Зея затопляла Суражевку, снося и дома, и складские помещения.
А всего в каких-нибудь двух верстах колыхалось зеленое марево деревьев.
Мысль построить на этом возвышенном плато город не была ни шальной, ни случайной. Новый город становился просто необходим быстро растущему краю и был заложен в торжественный день тезоименитства цесаревича. Имя нового города звучало мягко и необычно: Алексеевск. Ему прочили счастливую будущность, казалось, стоят у его колыбели три вещие сестры: Смелость, Независимость, Удача.
После революции Алексеевск был переименован в Свободный. Было городу в то время пять лет. Люди ехали и шли в него со всех концов земли амурской. Об этом-то городе и заговорил Тряпицын, оставшись наедине с Лебедевой и Комаровым.
Евдокия лежала, согнув ноги в коленях и накрывшись пуховой шалью. В соседней комнате нарастали возбужденные голоса. Тряпицын и Лебедева убеждали в чем-то Анатолия. Он не соглашался.
– Какого ляда не видали мы в Благовещенске?! – крикнул вдруг анархист. – Создадим Свободненскую республику, на манер Желтуги, а? Даю тебе слово: глазом мигну – набегут к нам сотни удальцов, кому черт не брат! Вооружим их, двинем на Японию. Говори, согласен?!
– Ты сумасшедший, – так же громко ответил ему Анатолий. – Знаешь пословицу: похвалялась синица море поджечь? Поди проспись…
Тут заговорила Лебедева горячо и быстро. Слов было не разобрать. Внезапно сердце Евдокии сжало предчувствие близкой и неотвратимой беды. О эти ненавистные, чужие и чуждые голоса, зачем они нарушили в полуночный час тишину ее мирного дома?! Она сжала руками виски, сунула голову под подушку и разрыдалась.
12
Николаевск был в тревоге. Дошли слухи об апрельском выступлении японцев в Хабаровске и Приморье, о трагической гибели вождя дальневосточных партизан Сергея Лазо и его боевых соратников Всеволода Сибирцева и Алексея Луцкого. Стало известно, что у Александровска-на-Сахалине в полной готовности стоит эскадра военных японских судов. Нетрудно было догадаться, что враг ждет, когда устье Амура очистится ото льда, чтобы двинуть на Николаевск и учинить расправу за мартовские события, когда был уничтожен весь японский гарнизон.
Энергия Тряпицына заряжала всех. Впрочем, он поступил очень дальновидно, распылив силы сопротивления. В верховья Амгуни был направлен с каким-то поручением Харитонов. Отбыл на Орские прииски и Комаров. Перед самым его отъездом командующий без обиняков заявил, что Евдокия должна остаться в Николаевске и эвакуироваться вместе с городским населением в Благовещенск.
– Так, друг сердечный, будет лучше для вас обоих. Не время бабу за собой по тайге таскать, на одной ножке перед ней вытанцовывать. Молодые, налюбитесь еще. А в Благовещенске у вас родные: притулят, приголубят. – Голос Тряпицына, казалось, звучал искренне, но глаза косили больше обычного и, зная цену этому взгляду, Анатолий вспыхнул, но сдержался и ответил сухо:
– В советах не нуждаюсь. Давай ближе к делу. Какие будут распоряжения?
– Они тебе известны. Груз идет до Свободного! А в остальном… делай, как знаешь, только не пришлось бы потом пожалеть об этом, – заключил с кривой усмешкой командующий.
Было ясно, что Тряпицын ему не доверяет и намерен оставить Евдокию в качестве заложницы. О роли Лебедевой в жизни этого человека все уже знали. Евдокию она недолюбливала, а может, и презирала. Анатолий едва не сказал об этом, вся кровь в нем вскипела от негодования. Если бы только Тряпицын знал, кем была для него Дуся! Оставить ее здесь, где все так неустойчиво и шатко, было бы хуже предательства. С восемнадцатого года она делила с ним все невзгоды и ратные подвиги. С восемнадцатого года!..
В занятом интервентами Хабаровске они прожили тогда три месяца. Два из них Евдокия пролежала в больнице: роды были преждевременны и неблагополучны. Чтобы не возбудить подозрений, он устроился санитаром в той же больнице. Ему удалось установить связь с подпольной организацией, и едва Евдокия поправилась, они влились в ряды приамурских партизан. Вместе с отрядом Тряпицына они участвовали в боях на Нижнем Амуре. Избирали его командующим после боя под Киселевкой. Вместе с ним вошли в Николаевск. Но теперь пути их расходились. Доверить Евдокию Тряпицыну, имевшему темные стремления и цели, было бы рискованно и нечестно. Не смогла убедить Анатолия и Лебедева, заверявшая, что они будут с Евдокией, «как сестры». Комаровы выехали вместе.
Едва отбыла экспедиция на Орские прииски, как все трудоспособное население Николаевска было мобилизовано на подготовку к эвакуации. Грузились камнем баржи и шаланды. Днем и ночью выводили их морские катера к устью северного фарватера, очищавшегося ото льда раньше, чем южный, и затопляли, преграждая путь вражеской эскадре. Чтобы не подпустить японцев со среднего течения реки, Амур заминировали выше устья Амгуни, у села Софийского.
Грузили на пароходы и шхуны продовольствие и боеприпасы. Под надежной охраной были отправлены в Амурскую область валюта и золотые слитки. Об уничтожении Николаевска не было и речи. Тряпицын громогласно заявлял, что как только будут вывезены женщины и дети, мужчины встанут под ружье для защиты города.
Алеша, Саня, Петя Нерезов и Гриша Билименко являлись домой за полночь. Вместо ужина грызли сухую хурму, не раздеваясь, валились на топчаны и засыпали. Иногда ребят тут же поднимали, требовали в штаб. Порой удавалось выспаться, и тогда их будил первый луч солнца.
Николаевские женщины исходили слезами. Одни плакали потому, что не стало в семье кормильца – убит японцами, другие – что подобрались зимние запасы, скоро рыбалка, а тут бросай все и уходи; третьим приходилось еще горше: ни кормильца, ни припасу, а детишки ни с того ни с сего стали болеть глотошной болезнью, уносившей десятки нерасцветших жизней.
Бывалые же старики, измерившие по тайге не одну тысячу верст, вместо утешения толмачили свое:
– Шутка ли дело, поднимать об эту пору тыщи людей! А иттить-то, эт тебе не с корзиночкой по ягоды, вон куды. До Керби отселева пятьсот верст с гаком. Плыть Амуром да Амгунью-матушкой – всякое могет случиться, а еще тайга… А в Керби-то кто нас ждет-пождет? Опять же дальше иттить тайгой неезженой, нехоженой, через дебри валить, через хребты, аж до самого Экимчана. Эт будет чуток помене, а все же кус немалый. Дале-боле… плыть по той Селемдже до Норского Складу, а там на Зею выгребать и спущаться прямым уже ходом до Благовещенска-на-Амуре. И опять же таки верст пятьсот, и опять же с гаком. А в Благовещенске том кто нас ждет-пождет?
Такие и подобные разговоры велись каждодневно, неотвратимые, назойливые, как сказочка про белого бычка:
– А тайга-то дремуче-непролазная, а края-то незнаемые, а реки-то бурливые, перекатные, а зверь-то непуганый, а люди-то там нездешние, а обычаи-то ненашинские, не таковы… Кто дойдет, а кто косточки оставит при дороге…
По городу прокатился вой: тряпицынцы забирали рогатый скот для угона в тайгу, пока не развезло весенней распутицей крепкого наста.
Приказ штаба партизанской армии был краток и прост:
«Эвакуироваться всем. Брать имущества, включая харчи, не более пуда на человека».
Напуганные хозяйки горестно и тихо забивали домашнюю птицу, коптили и сушили мясо. Рыли в подполах ямы, припрятывали все, что казалось ценным и нужным: отрезы тканей, зимнюю одежду и обувь, посуду, постельное и столовое белье. И каждой верилось и не верилось в то, что должно случиться в ближайшие дни.
Петра Нерезова назначили уполномоченным особой экспедиции по эвакуации. Он взял себе в помощники Саню Бородкина и Гришу, прихватил и Алешу, который с нетерпением ждал открытия навигации, чтобы ехать в Благовещенск с секретным поручением Комарова. Экспедиции предстояло проторить дорогу беженцам: позаботиться о питательных пунктах, молоке для грудных младенцев, подводах для немощных и еще о многом таком, что и не снилось ребятам прежде.
До села Архангельского ехали на буксире «Анна». Отсюда «Анна» пошла в Тахту за нефтью – таков был приказ Тряпицына, – и путь продолжили уже на лодке. От того времени сохранилась маленькая записная книжка в темно-зеленом переплете, своеобразный путевой дневник Петра Нерезова.
«20 мая. Спали всего два часа. Въехали в протоку Чля. В 1 час приехали в Маго. В 7 часов в Пальво. В этот же вечер сходка.
21. Сходили на прииск „Благодатный“. Смотрели промывку золота. Вечером прибыли в Пестово.
23. Утром прибыли в Князево. В четыре часа прибыли в Сергиево-Мих. Часов в 9 остановились в Удинском складе. Закончили работу в два часа ночи. Ребята говорили горячо, с увлечением о принципах советской власти, трудовой мобилизации, земстве, экономическом положении Советов…
24. Холодно. Нестерпимо болит голова».
Пять дней провалялся в незнакомой избе уполномоченный особой экспедиции. Старуха с коричневым, неулыбчивым ликом отпаивала его горячим молоком с топленым барсучьим салом. Его спутники не теряли времени даром. Ездили по окрестным деревням, говорили до хрипоты, решали, где и что будет приготовлено для встречи пароходов, и несказанно обрадовались, когда Петр снова оказался в состоянии сесть на верховую лошадь. После долгого перерыва в записной книжке появилась новая запись:
«1 июня. Ехали весь день и всю ночь. Переутомились. Въехали на Веселую Горку. Дел полно».
На другой день ребята с волнением прочли последние сообщения из Николаевска. Спазмы сдавили горло Нерезова. Он еле дочитал.
В тот же час они выехали из Веселой Горки. Пара добрых коней домчала их быстро. В Керби было уже много эвакуированных из города.
Что же так взволновало славных «трех мушкетеров» и Алешу? Тряпицын выполнил свою угрозу. В ночь на первое июня Николаевск запылал со всех концов. Горько было осознавать, для чего пригодилась привезенная на «Анне» нефть. Впрочем, никто ничего толком не знал. Дни тянулись в мучительном и бесплодном ожидании. Николаевцы размещались в наспех сколоченных сараюшках и балаганах. Отправлять людей дальше не представлялось возможным: от Керби до Экимчана шло сплошное бездорожье. Нужно было корчевать деревья и прокладывать дорогу, устраивать на перегонах питательные пункты и завозить продовольствие.
В скупой летописи тех дней, дневничке уполномоченного экспедиции, мы читаем:
«7 июня. Выехали на Веселую Горку. Едем дальше. Возможно, что доеду до Благовещенска. Саня, Гриша, без вас ехать не хотелось. Эх, ребята, и сжился же я с вами. Страшно тяжело от вас уезжать».
Проводив Нерезова и Алешу, Бородкин и Билименко остались в Керби. Вершитель воли Тряпицына Вольный приказал им дожидаться пароходов «Пионер» и «Альбатрос», на которых едут женщины и дети, чтобы сопровождать их дальше, по тайге. От Нерезова приходили малоутешительные вести:
«Дорога на Софийск скверная, но двигаться можно. Подъем семь верст, не очень крутой, но требует поправки. Свалились две лошади под откос. Едва вытащили. Травы нет. На станке „Бурейка“ некому печь хлеб.
Проехал границу Приморской и Амурской областей. Еду дальше вьюком. Два раза пересек Бурейку. Река быстрая. Приступили к постройке моста. С Софийского послал 80 рабочих поправить дорогу. Она требует только ремонта.
Хлеба на прииске Павловском нет. Некому печь…»
В Норском Складе, на Селемдже, Алеша распрощался с Нерезовым и на вертлявом суденышке «Комета» поехал в родной Благовещенск.
Боцманом на этом пароходе был его старый знакомец Померанец. Он рассказал, что старший брат Алеши Федор служит теперь в Благовещенске в стрелковом полку, и Колька с февраля, когда установилась советская власть, не беспризорен. К сожалению, Померанец ничего не мог сказать о Евгении.
Они были с ним в партизанском отряде Бондаренко. Померанца ранило в бедро в том самом бою, под Тарбогатаем, где погиб их юный командир. Подлатали в таежном госпитале и… вот пришлось…
Алеше было искренне жаль, что, служа на частном судне, бравый Померанец заметно опустился. Он неделями ходил в нечищенных ботинках и столь же редко расчесывал свою жесткую шевелюру, падавшую крупными, отливавшими медью кольцами на высокий и бугристый лоб. И все же этот человек по-прежнему нравился Алеше. Чем? Он не смог бы на это ответить. Может, взглядом, независимым и дерзким, может, горделивой посадкой головы, а скорее всего тем, что всегда резал правду-матку. В конце пути он предложил Алеше поступить на этот пароход матросом. Алеша с радостью согласился.
Капитан «Кометы» Тихон Игнатьевич Савоськин был для команды малодосягаем. Первым человеком после него на судне слыл рулевой Федор Андреевич, белобородый великан с суровыми серыми глазами под кустистыми, цвета пыльной кудели бровями, глянувший на Алешу, когда тот впервые пришел на пароход, неприязненно и удивленно. Позднее Алеша узнал, что этот человек был одним из самых почитаемых проповедников молоканской общины. Сотни людей вслушивались в каждое оброненное им слово, и, зная цену своим словам, рулевой, по возможности, беседовал только с богом. Не нашлось у Алеши общих интересов и со своими сверстниками. Один из них, отчаянно тараща белесые глаза, поинтересовался, пьет ли он «хану» или предпочитает водку? Другой спросил напрямик: хаживает ли он на берегу к девчатам и какие Алеше больше по вкусу, белобрысенькие, как он сам, или же «брунетки»?
Присутствовавший при этом разговоре Померанец без лишних слов предложил разделить с ним свою тесную каюту:
– Перебирайся-ка, парень, из кубрика ко мне. Места хватит. Да авось и мне станет веселее.
13
Веселее… Да из него, этого недавнего весельчака и балагура, слова, бывает, не вытянешь. Что-то он уж слишком часто по-стариковски вздыхал или уходил из каюты и, часами стоя у борта, плевался, как верблюд. Погруженный в себя, он, казалось, не замечал, что Алеша был весь во власти тягостных воспоминаний, и инстинктивно тянулся к нему. Но Померанец не сделал ни единой попытки узнать, что испытал он тогда, в сентябре 18-го, возвратясь в покинутый город, как жилось ему все это время и почему он снова плыл в Благовещенск, полноводной Зеей, сам не свой, растерянный и угасший. Он, конечно, и не догадывался, что растерянность эта пришла той октябрьской ночью, когда Алеша случайно забрел на Иркутскую улицу, был схвачен патрулем и неожиданно доставлен на Суворовскую, в контрразведку, где его потребовалось допросить, уже прославившемуся своими зверствами, подполковнику Лебедеву.
В кабинете подполковника было по-домашнему уютно и тепло натоплено. И сам хозяин, не худой и не толстый, в ладно пригнанном мундире, белолицый и гладко выбритый, с тонюсенькой ниточкой пробора в густых, припомаженных волосах, держался подчеркнуто учтиво:
– Знаете ли вы, юноша, – спросил он, придвигая к Алеше изящную коробочку «Реномэ», – кто живет на том квартале, где вас задержали?
Алеша отрицательно повел головой и ответил: «Нет».
– Тогда объясните мне, пожалуйста, какого же черта вы торчали там, в неположенное время?
– Я ищу работу и…
– Оригинально! Ночью ищете работу?
– У меня нет часов, и я не думал, что уже так поздно.
– А что вы делали, разрешите вас спросить, днем?
– Днем я был занят на разгрузке прибывшего с рыбалок парохода.
– Случайный заработок, а? На грузчика вы, во всяком случае, не похожи.
– Заработок случайный: мы выкатывали из трюма бочки и выгружали японские туки, а когда кончили работу, я решил пойти к Беркутовым, у них большое поместье, и я думал…
– Вы направлялись к Беркутовым? – заинтересовался Лебедев и окинул критическим взглядом всю его непрезентабельно выглядевшую фигуру. – Что же, если идти с пристани, то это, действительно, по пути. И вы, вероятно, очень с ними накоротке, если допускаете столь поздний визит?
– Мне этого не приходило в голову. Я просто шел спросить, не нужны ли им рабочие. Мы могли бы с младшим братом уехать на заимку на все лето и…
– Погодите… – Лебедев обстоятельно продумал ответ Алеши и каверзно спросил: – Но почему же вы сразу не отправились непосредственно туда?
– Но эта мысль пришла так внезапно, а мы с братом очень нуждаемся, и я решил сегодня же попытать счастья.
Вполне возможно! Возможно, я и поверил вам, юноша. Но оставим это, и я вам дам, как говорится, отеческий совет: даже днем за версту обходите тот квартал, где вас изловили сегодня. И если вы находите столь уж необходимым навестить высокочтимых всеми нами Беркутовых и предложить им свои услуги, в которых они едва ли нуждаются, то сделайте свой подход с совершенно, совершенно противоположной стороны. Надеюсь, вам теперь все ясно?
– Но почему же, почему? – вырвалось вдруг, и вполне искренне, у Алеши.
И Лебедев, страшный Лебедев, по достоинству оценил его искренность:
– Да потому, младенец вы этакий, – ответил он, резко отшвырнув свою папиросу, – что полковник Риф– ман еще не вышел из игры, что с ним приходится считаться даже мне, и дом его, как вы в этом успели убедиться, тщательнейшим образом охраняется. – Подполковник тут же взял недокуренную папиросу и, досадуя на свою вспышку, старательно притушил ее в массивной пепельнице из бронзы, затем, все еще держа ее в холеных, с остро отточенными ногтями пальцах, доверительно пояснил: – Впрочем, дело даже не в этой старой перечнице… На Иркутской улице, было бы вам известно, находится резиденция городского головы Прищепенко. Ре-зи-ден-ция… – проскандировал он, – а вы изволите там прохлаждаться, образно говоря, только станет смеркаться немножко. Ищете, говорите, работу. А какого черта вам искать, когда мы, днем с огнем, ищем вот таких, как вы. Интеллигент! В какие лохмотья не рядитесь, вы интеллигент, это сразу же видно, вы, может быть, аристократ духа, и вы, в наше время, оказались не у дел. Да как вам не стыдно, юноша. Подумайте над моими словами, подумайте и приходите сюда. Я вас приму в любое время. А теперь, будьте счастливы и… свободны.
Учтивость контрразведчика простерлась до того, что он проводил Алешу до выхода из кабинета и бросил в кажущуюся пустоту:
– Пропустить! – И его, несмотря на поздний час, беспрепятственно пропустили.
Отойдя с полквартала от контрразведки, ошеломленный всем происшедшим, Алеша оглянулся. Неяркая лампочка у подъезда мигала вполне миролюбиво и, казалось, пыталась просигналить: «А ты дешево отделался, паренек. Ведь здесь редко кому удается выйти через ту же дверь, что и вошел. Я таких почти не видела, отсюда гостей чаще выносят, и не через парадный ход, а там по черному и во двор. Выносят… выносят… выносят, – нестерпимо замигала она, – выносят-с, трупы…»






