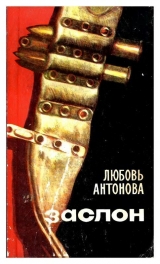
Текст книги "Заслон (Роман)"
Автор книги: Любовь Антонова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 25 страниц)
Плохо спалось в Ново-Троицком и Бородкину. Недомолвки были не в ходу среди тех, с кем вот уже годы делил свои радости и горести Саня. Высокомерие Ильинского сбивало его с толку, разговор с ним встревожил. Он поделился своими сомнениями с Харитоновым. Иван Васильевич, не раздумывая, ответил:
– Мне тоже этот Сахар Медович не по вкусу пришелся. – Он задумчиво потрогал свою золотисто-каштановую бороду. – Да и Сун-фу фрукт хороший: называется командиром, а глядит помощнику в рот. Если бы Матвеева не скрутило, о них бы и речи не пошло.
– Да. Некрасиво получается.
– Хуже не придумать, Саня. Но с тобой-то они должны считаться. Тебя утвердил комиссаром облкомпарт. Помни об этом и не иди на все уступки. – Они беседовали в углу большой и неприкаянной избы, долго переходившей из рук в руки. Осенью вдруг заявился откуда– то хозяин, зажиточный казак Грязев и навел порядок: застеклил окна, засыпал завалинку, починил обвалившийся тын. Вернулся он без семьи. Тербатцам Грязев вроде бы даже обрадовался. Вместе с ними таскал солому для спанья и все похохатывал:
– Не красна изба углами, а красна пирогами. – Но пирогов у него не оказалось. Сварили в русской печи чугун жиденького кулеша. Даниил Мирошниченко оделил всех хлебом, – у его дяди в Благовещенске была своя пекарня, – но дядины дары уже подходили к концу. Повеселевший Вениамин шутливо провозгласил:
И обед приносят капитанам
Из трехсот китайских знаменитых блюд…
Подают им гнезда саланганы,
Плавники акульи подают…
Он дочитал стихи до конца. Было похоже, что Вениамин и является их автором. Ему похлопали и, смеху ради, дали еще один уполовник варева. Саня сказал, что это честно заработанный им гонорар.
Бородкин съел свой кулеш, покурил, послушал, как Кошуба рассказывает занимательные истории. Хозяин завалился спать на печи. Стали укладываться и тербатцы. Пожелав всем спокойной ночи, комиссар отправился в «ставку», как в шутку окрестили амурцы большой бревенчатый дом, куда Сун-фу врезался с ходу, даже не поинтересовавшись, как расквартируется отряд. На подходе к дому его догнал Ильинский.
– Ну как? – спросил он безразличным тоном Саню и долго обметал в сенцах травяным веником свои щегольские бурки.
Старик хозяин, дремавший у стола в просторной кухне, сказал им, что Сун-фу уже отдыхает, и крикнул снохе, чтобы собирала на стол. Ильинский вымыл над лоханью руки, пригладил негустые волосы. С лица, нажженного ветром и морозом, быстро сбежали живые краски. Он был неразговорчив и явно чем-то озабочен.
Бородкин сказал, что уже поужинал. Старик провел его в тускло освещенную прохладную залу и вернулся на кухню. Саня осмотрелся в полумраке и лег на широкую лавку, под образами. Над головой потрескивал фитилек зеленой лампады. Пахло деревянным маслом. Сун-фу спал на огромной кровати, уткнувшись лицом в цветастую наволочку, и не проснулся даже когда Ильинский стал через него перелазить, чтобы улечься к стенке. Ночью Сун-фу всхрапывал, раза два вставал и ходил на кухню пить воду. Ильинский спал сном младенца. Под утро забылся сном и Саня, но скоро проснулся в неясной тревоге.
Ильинский, позевывая, сидел в ногах постели и натягивал бурки. Сквозь щели в переборке было видно, что на кухне пылает лампа. Молодуха месила тесто. Умываясь, Ильинский разговаривал с нею, поинтересовался, сколько верст отсюда до Казакевичево.
Казачка ответила, жеманясь, что замуж шла убегом и не успела версты те сосчитать. Она, видимо, любила побалагурить, посмеяться. Ильинский небрежно уронил:
– Своих девок здесь не хватило или были, да не такие красивые?
– Да уже призабылось, что к чему, – скромничала молодуха и смешливо ввернула: – Папаньке там моему поклон. Ксюша, мол, наказывала. У него и остановитесь. Первый дом на станице, Шереметьевыми мы прозываемся.
– Ладно, передам. Через часок можно будет перекусить?
– Да я сю минуту! Рань-то какую всполошилися…
Ильинский хлопнул дверью. Бородкин в незастегнутой куртке кинулся за ним следом.
На улице было морозно и тихо. Вкрапленные в черный купол неба звезды казались такими большими и яркими, будто приспустились к земле.
– А, комиссар, – обернулся на Санины шаги Ильинский. – Я-то думал, тебе еще сладчайшие сны снятся.
– Будем делать побудку? – спросил Бородкин.
– Кто идет? – отделилась от стены бревенчатого дома темная фигура.
– Свои. Это ты, Гамберг?
– Как видишь. Дай-ка огонька. – Они закурили. Саня стал расспрашивать о минувшей ночи.
– Шастин заболел, – ответил Вениамин. – Всю ночь в жару метался. И еще ребята пообморозились. Харитонов толкует: надо их на подводе отправить в Хабаровск.
– Маменькины сынки, вырядились, как на прогулку. Цацкайся теперь с ними! И в Хабаровске они нужны, как… – Ильинский выругался сквозь зубы. – Пойти посмотреть…
– Прыткий, – сплевывая в истоптанный снег, сердито выдохнул Вениамин… – «Подь сюда, сделай это…» Ребята всю ночь в карауле, как цуцики, дрогли. Эй, куда вы? – крикнул он выбежавшим из дома тербатцам. Один из них поскользнулся на обледенелой ступеньке, неуклюже поднялся и стал растирать ушибленное колено.
– Куда это вы? – спросил у него Бородкин.
– Помкомандира велел оповестить, чтобы винтовки тащили сдавать.
– Что? – не веря своим ушам, крикнул Бородкин. – Какие винтовки?
– Обыкновенные. Какие были дадены… – Не дослушав, Саня влетел в темные сенцы, рванул избяную дверь. На бревенчатой стене чадно мерцала семилинейная лампа. Грязев выкладывал в огромной печи березовые поленья. Тербатцы топтались по разбросанной на полу соломе. Ильинский, подбоченясь, выговаривал кому-то:
– Гусиным салом пяточки нужно было помазать! Каюсь, обмишурился, не припас, каюсь! Тце, тце… – презрительно пощелкал он языком, – ничего себе картина! И это бойцы…
– Что там такое? – спросил комиссар.
– Да вот… медвежья болезнь наши ряды пошатнула, – цинично пояснил Ильинский. Саня отодвинул его плечом и шагнул в комнату. Дыхание захватило от въедливого запаха копоти и пыли. Тускло светил каганец – плавающий в чашке с постным маслом фитилек. У самого входа, упираясь головой в стенку, лежал Николай Шастин, по углам скорчились другие.
Бородкин насчитал двенадцать человек.
– Как дальше будем жить, ребята?
Кошуба подошел сзади, положил на плечо руку, хотел что-то сказать.
– Пускай решают сами, – отвел его руку комиссар.
Шастин поднял кудлатую голову, дико повел глазами. Щеки его за ночь еще больше ввалились и пылали недобрым румянцем.
– Не бросайте нас здесь, – прохрипел он, – белые кругом рыщут, поднимут на штыки.
– Хозяин поет соловьем, смотрит волком, – откликнулись из дальнего угла. – Уйдете вы, спалит вместе с хатой.
– Ладно, что-нибудь придумаем, – ввернул Ильинский.
– И думать неча: раньше надо было этим займаться!
– Отряд!.. Ни тебе фершала, ни тебе аптечки. Гусиным салом попрекнул, а оно бы в самый раз…
– Иде его взять, того сала? Иде тот гусь, что для нас вырос?!
– Отправим вас обратно в Хабаровск, пока дорога свободна, – твердо сказал Бородкин. – Достанем тулупы и лошадей. Я займусь этим.
Ильинский, хмуря брови, посторонился в дверях. На кухню, в распахнутую дверь валом валили тербатцы: ставили в угол винтовки, ссыпали в кучу патроны.
Комиссар тронул в кармане куртки наган.
– Труса празднуешь? – усмехнулся наблюдавший за ним Ильинский. – Зашагаем дальше налегке.
– Как налегке?! – крикнул хабаровчанин в огромной иманьей папахе. – Пехом и без оружия, а если белые наскочат, драться на кулачки?
– В Казакевичево, товарищ Голионко, получите другие!
– Не наводи тень на плетень, – вспылил Бородкин. – Кто их нам приготовил?
– Приказ дан, надо его выполнять. – Ильинский глянул на наручные часы: – Через полчаса выступаем.
– Твой приказ нам не указ, – возразил Иван Васильевич. – Я послал за командиром. И вообще… мы не мальчики здесь собрались.
– Даешь командира! – озорно выкрикнул Витюшка Адобовский.
– Может, тебе мама больше требуется? – осадил его Ильинский. – Навезли сосунков!
Стремительно влетел Сун-фу и остановился, перебегая глазами с одного лица на другое.
– По чьему приказу разоружается отряд? – спросил его комиссар.
Сун-фу захлопал короткими ресничками, горячо заверил, что его помощник напутал. Речь шла – везти оружие на подводах, и только.
– Тут есть больные, их нужно накормить и организовать транспорт на Хабаровск, без этого мы не уйдем, – сказал Харитонов.
– Ну конечно же, накормить и отправить, – рассиялся Сун-фу. – Кто же возражает?
Тербатцы, смущенно переговариваясь, разбирали сваленные винтовки и пересчитывали патроны, – накануне каждому было выдано по шестьдесят штук.
– И клюнули ж на такое!
– Да уж ясное дело: винтовка бойцу плечо не оттянет!
– Дисциплина, говорит, выполняйте. Показал бы я ему кузькину мать…
У порога дома заржала лошадь. Заиндевелые окна протирала сизая лапа рассвета.
26
Казакевичевские жители встретили отряд хмуро. Уступив тербатцам чистые горницы, они колготились на кухнях, перешептывались, ели втихомолку, никого не зовя к столу. На вопросы отвечали неохотно, пряча глаза, взвешивая каждое слово:
– А кто его знат, паря, наезжают которые, на лбу думка у них не написана… Уезжают – нам не докладают. Пришли – ушли… Какое наше дело?
Староста Свешников, ставя людей на постой, обошел самый видный дом. Кошуба с шутками стал пытать у него: почему? Не старый еще казак, поколебавшись, нехотя пояснил, что это дом бывшего станичного атамана.
Обстановка в станице была сложной. Поговаривали, что Сахаров имеет здесь «своего человека». Человеком этим был Мартемьян Шереметьев – бывший атаман, выдавший калмыковцам вернувшихся с фронта большевиков-односельчан: Павла Трухина, Павла Соснина и своего родного брата, тоже Павла. Но это были свои, внутренние дела, о них не рассказывалось тем, кто наезжал или захаживал в станицу. Конечно, беднота, как и всюду, стояла за советскую власть, шумела на сходках, требуя отмены казачьего сословия, перечисляя по пальцам, какой разор несла казаку «действительная» служба: «Конь с седлом – раз, мундиры – строевой и парадный – два, сапоги и бродни новые – три, да белья холодного и теплого по две смены, да сундук, да…» Иной казак, снаряжая сына, по уши залезал в долг к тому же Мартемьяну. Но тербатцы ни о чем этом так и не узнали.
В Казакевичево Сун-фу стал на редкость разворотливым. Не дав передохнуть, отправил на хутор Чирки сторожевую заставу из двадцати трех человек во главе с Ильинским. Были посланы разведчики в район Черняево, обследованы лесной массив и поселок «Корейские фанзы». Гамберг с группой ребят перешел на китайскую сторону и побывал в ямыне Тю-тю-пай, куда в случае опасности бегали с семьями казаки.
Низкие, серые, все на одно лицо домики станицы жались у подножия хребта, цепочкой вытянувшись вдоль берега схваченной ледяным панцирем Уссури. Выставив на въезде сторожевой пост, люди разошлись на отдых.
Отогревшись и перекусив, Шура и Алеша написали домой письма и понесли их на почту. Почтовик Федор Свешников, сидя у стола, беседовал с Вениамином:
– Мы, Свешниковы, фамилия плодовитая, нас полстаницы…
Почта стояла на взгорье. В просветы между торчавшими на окнах угрюмыми кактусами и осыпанными цветом геранями было видно, как смуглолицые, с надраенными бодягой щеками молодухи зазывают домой ребятишек, как коренастые кривоногие «хозяева» шествуют вразвалку на заваленные навозом базы и поплотнее прикрывают двери обмазанных глиной стаек.
В сбитой на затылок шапке и распахнутой куртке вбежал Бородкин. Нужно было срочно дать телеграмму штабу фронта в связи с данными разведки:
«Отряд стоит под угрозой разгрома. Шлите срочно подкрепление».
Ребята попрощались со Свешниковым и пошли по избам посмотреть на житье-бытье своих.
В доме Федора Башурова дым стоял коромыслом, хотя хозяин был в отлучке, а молодая хозяйка управлялась во дворе со скотиной. Тербатцы натаскали кадку воды, накололи дров, и теперь Кошуба, растопив плиту, рассказывал охотничьи истории. Хозяйские парнишки Мишка и Николка ловили каждое его слово, и, лишь Лука Викентьевич умолкал на минуту, жалостливо просили:
– Дядь, расскажите еще! Ну дядя же…
Бородкин и Харитонов, разутые, разрумянившиеся в тепле, как после бани, покатывались со смеху.
– Тебе бы в цирке выступать, Викентьич!
– Всего в жизни хватил, дополна и через край, а вот об этом не задумывался. Что ж, если ребятенков этим пропитать можно… – солидно отвечал Кошуба, а глаза смеялись.
Проходил час за часом, а подкрепления из Хабаровска все не было. Комогорцев, дойдя до протоки «Рыбка», прислал с Даниилом Мирошниченко донесение:
«На берегу обнаружены подозрительные следы, будто кто-то скакал внамет, рубил красную талу».
– Казаки? – высказал предположение Вениамин.
– Сдается мне, не они, – покачал головой Бородкин. – Видел я в соседнем дворе татарское седло. Новое… спросил хозяина – откуда? Молчит. За горло ведь не возьмешь.
– Татары и есть, – подтвердил догадку Харитонов. – У его превосходительства еще на Оке были татары. От Мурома до Нерчинска Сахаров со своей бригадой докатился. Оттуда в Приморье, а когда подсыпали им перцу, схлынула вся банда за границу. Отъелись на дармовых харчах, погарцевали и назад вернулись.
– С семнадцатого года с коня не слазит, – подытожил Кошуба. – А кого, слышь, ведет за собой – наемников! Им все равно где и с кем воевать. Пыль, подхваченная ветром, которую несет неведомо куда и зачем.
Иван Васильевич взялся было за валенки. У него имелось много знакомых среди сельских учителей, и он надумал сходить в школу, но тут влетел Сун-фу и, сдвинув на край стола чашки-ложки, разложил на нем карту района.
Саня проводил Алешу до калитки. Ветер с Уссури бил в крутые бока Хехцира. Над его вершиной изумрудом горела одинокая звезда.
Что же несла с собою эта наполненная шорохами и тревогой мглисто-морозная ночь?..
В ночь на 19 декабря Марк и Шура несли дозор на окраине станицы. В морозном воздухе была разлита тишина. Даже собаки, с вечера забившиеся в теплые конуры, не подавали голоса. Они уже притерпелись к тербатцам и считали их за своих.
Комсомольцы были добротно одеты, – дозорных снаряжали всем отрядом, – сыты, их не тянуло под крышу, но под утро стало нестерпимо клонить в сон. С минуты на минуту должна была подойти смена. А Шуре вдруг пригрезились картины далекого прошлого, когда он с отцом ходил на охоту и мечтал о новеньком собственном ружье… Марк толкнул его под бок:
– Ты слышишь, Шурка? – Да, он слышал. Что-то надвигалось на них из темноты непонятное, страшное, неотвратимое, как снежная лавина. И тревога Марка передалась Шуре, стушевав в памяти и то, что было уже далеко и невозвратно, и то, что с недавних пор стало его радостью и болью…
– Они? – спросил он дрогнувшим голосом.
– На подводах? Едва ли… – сделав ему знак стоять на месте, Марк подполз к уходившей в чащу дороге, но скоро вернулся и шепнул: – Беги, поднимай отряд!..
В эту ночь Алеша тоже ночевал в доме Башуровых. Ему и Сане предстояло сменить на рассвете Рудых и Королева. Хозяйка пообещала поднять их «до вторых петухов». Башурихин Колька был завтра именинник. Предстояло семейное торжество, и сама она рассчитывала встать пораньше. Но будить тербатцев ей не пришлось. Они проснулись сами, вышли на крыльцо выкурить по папироске и неожиданно разговорились.
– Послушай, Саня, я давно хотел тебя спросить, где теперь Булыга?
Бородкин глянул на Алешу с удивлением:
– Вот странно, что ты заговорил о нем в такое время, когда и я думаю неотступно. Мне все кажется: подойдет подкрепление и я встречусь с его двоюродным братом Игорем, а потом буду писать об этом д'Артаньяну в Москву.
– Почему в Москву?
– Он там в Горной Академии учится. Мы с ним, как говорится, от младых ногтей… Вместе учились, партизанили на Сучане, в одной роте были, в Новолитовской, потом… – Саня вдруг умолк и стал вглядываться в бегущего через огороды человека.
Узнав от Шуры, что к станице движутся какие-то подводы, Бородкин велел Алеше поднимать отряд и, как было условлено заранее, всем собираться на площади, у общественного сарая. Подошел Марк и сообщил, что на подводах возвратилась застава из Чирков, обнаружившая у «Корейских фанз» конные колонны противника, которые двигаются на станицу по Уссури. Четко, не тратя лишних слов, доложил о том же комиссару и Сун-фу вернувшийся Ильинский.
– Будем готовиться к бою, – сказал командир отряда и обнародовал перед строем полученную из Хабаровска телеграмму:
«От занятых позиций не отходить. На помощь вам идет Четвертый кавалерийский полк».
Подбежал запыхавшийся разведчик Василий Безденежных, коротко доложил: за сопками вражеская конница.
– Летит во весь опор, – добавил он, глотнув горстку снега. – Впереди знаменосец с андреевским флагом.
– По местам! – скомандовал Сун-фу. Тербатцы бросились к окопам. Вениамин помогал устанавливать Востокову пулемет, а мысли его в этот момент были далеко.
Оранжевый шар поднимавшегося в морозной дымке солнца напомнил ему теплый свет абажура девичьей комнаты Елены. И тот вьюжный вечер, когда он пришел к ней, и нежную доверчивость ее тела, когда эти вот руки обняли ее и понесли. «Все патроны расстрелял…» Почему-то эти слова казались тогда ему озорной и веселой шуткой, а она смеялась. Что делает она сейчас в это вот морозное утро? Плачет, что он не взял ее с собой? Плачет потому, что ушел, не простясь? Плачет потому, что не написал ей ни строки? О если бы можно было вернуть хотя бы на одно мгновение частицу того, что оставалось в прошлом!
– Ложись! – крикнул Сун-фу и, пригибаясь, побежал в дальний конец станицы к третьему взводу.
Ребята легли в обледенелый окоп, подминая под себя вороха промерзшей картофельной ботвы.
– Ложись-ка, Алешка, в серединку, – предложил Шура. – Алеша передвинулся в пушистый снег, между ним и Марком.
Поросший рыжим монгольским дубняком гребень сопки вдруг почернел, задвигался и рухнул вниз сверкающей лавиной.
– Смотри, что это?
– А это они и есть, – ответил Марк, – сабли наголо – пугают черти! Я живым в руки не дамся, – хмуря брови, сообщил он. Шура понимающе кивнул головой.
– Тут двух решений быть не может! Верно, Алеха?
Как тихий шелест, прошла по цепи команда Бородкина: «Готовься к бою!..»
Равнина закружилась вихрем, забрасывающим снежными комьями все видимое пространство. Пулемет, отбив первую атаку белых, дал еще очередь и вдруг отказал. Сомкнувшись, сахаровцы бросились в новую атаку. Тербатцы встретили их залпом, тех, кто выметнулся вперед, забросали гранатами. Востоков, подхватив пулемет, кинулся к зарослям осинок, теснившихся по склону невысокой сопки. Вениамин поспешил ему на подмогу, не почувствовав вгорячах, что его ранили уже вторично и, по странной случайности, в ту же ногу.
Несколько всадников окружили пулеметчика. Востоков упал на пулемет, но тут же приподнялся, бросил в белых связку гранат и выстрелил из нагана себе в висок.
В ярком свете разгорающегося утра сверкнули сабли. Вениамин закрыл глаза.
– Анатолий! – крикнул он беззвучно и, теряя сознание от жгучей боли, прислонился к выбеленной временем и дождями поскотине. Кипящая лавина всадников катилась к центру станицы. Востоков остался на снегу с рассеченным черепом и перерубленной шеей.
Сахаровцы обрушились на второй взвод с диким уханьем и свистом.
– Стреляй! – услышал Шура будто издалека срывающийся от волнения голос Марка.
– Стреляй! – крикнул отчаянно он сам, срываясь с места, и голос его оборвался, замер.
Алеша прижал к плечу винтовку, целя в надвигающуюся на него черную лохматую фигуру. Грузный всадник, – Алеша так и не увидел его лица, – качнулся в седле и свалился, будто ваточная кукла. Конь попятился, наступил на мягкое, податливое тело, дико всхрапнул и помчался к реке, увлекая за собой запутавшегося ногой в стремени мертвеца.
Молодой чубатый казачок на сытой лошадке налетел на Шуру, блестя зубами и саблей. Шура выстрелил не целясь. Казачок откинулся назад и выпустил из рук саблю.
Странное, двойственное чувство овладело Бородкиным, едва им был сделан первый выстрел, сразивший кого-то безликого, уткнувшего лицо в иманий воротник шубы и надвинувшего до самых глаз серую лохматую папаху. Он бил потом без промаха, ясно видя цель, и все же ощущая себя вне времени и пространства. «Я прожил двадцать один год и неполных четыре месяца, – думал он. – В Шкотово, в Анучино и на Имане меня знали как Сомова. На Сахалине, в Николаевске я был Семеном Седойкиным, и только в Благовещенске вернул себе имя, которое ношу с детства…» Рядом с ним, плечом к плечу, сражались трое. «Совсем как в Новолитовской роте, когда со мною рядом были Саша, Петр и Гриша, – подумал он опять. – Дрался с калмыковцами, боролся с тряпицынщиной…» В снежном облаке возникла, проплыла и рассеялась тень женщины с лицом библейской Юдифи, вспоминавшейся все реже и реже. «Ой и густо же идут сахаровцы, как осенняя кета…» Вдруг он увидел Харитонова, без очков, с разрубленным лицом.
– Иван Вас… – крикнул отчаянно Саня, и голос его оборвался. Он упал, сраженный сабельным ударом.
Очнувшись, Вениамин машинально коснулся левой стороны груди, где в подкладке теплой куртки был зашит комсомольский билет № 6, полученный им в июле 1920 года. Казалось, он и теперь еще согревает его сердце. Придерживаясь рукой за поскотину, Гамберг двинулся в сторону станицы, куда уже промчался враг. Вдруг сознание его прояснилось, и он понял, что отрезан от своих. План созрел молниеносно: спуститься к реке и перейти на ту сторону. Стиснув зубы, он заковылял к Уссури, оставляя на снегу кровавые следы.
– Вот мы и встретились с тобой, биг бой Гамберг! Узнаешь?! – Скаля зубы, Сашка Рифман, по прозвищу «Копченый», потеснил его конем. – Узнаешь?!
Вениамин промолчал. Конь Рифмана все еще теснил его к сопке. В валенке хлюпало. Все тело наливалось стылой болью.
– Сдать оружие! Тебе приказываю, мерзавец! – С минуту они меряли друг друга глазами, в детстве – соперники, в юношестве – враги. «Этот не пощадит, – подумал Вениамин. – А как бы поступил на его месте я сам?» Он вдруг вспомнил, как еще до гимназии оба они, в матросских костюмчиках, резвились вокруг рождественской елки, и жена губернатора Грибского, приняв их за близнецов-братишек, одарила ворохом игрушек и сластей. Как давно это было!
И теперь до рождественской елки остались считанные дни, но напрасно прозвучит торжественный хорал:
«На земле мир и в человецех благоволение…»
Нет мира на земле. Нет беспечно танцующих детей. Нет сверкающих огнями и мишурой рождественских елок, и прежде чем зажгутся в домиках станицы вечерние огни, один из них будет мертв и безмолвен, как эта вот стылая земля.
Гамберг молчал, покусывая обветренные губы. Он пошевелил онемевшими пальцами в набухшем от крови валенке и поморщился от боли.
Черные пронзительные глаза Рифмана полыхнули бешенством и сузились, как у кошки. Гибким стремительным движением Сашка наклонился к Вениамину:
– Молчишь, сволочь?! Говорить заставлю. Этого мне сохраните! – бросил он подскакавшим казакам. – Головами ответите, если что-нибудь… А может, прикончить на месте?! – Небрежным движением он потянул из ножен шашку и, кинув ее обратно, рассмеялся; – Клянусь, ты передо мной еще попляшешь! Мы с Донькой такое для тебя придумаем: блондинчиком в землю ляжешь. Теперь-то барона фон-Рифмана не спутают с торгашом-евреем, можешь в этом быть уверен! – Сашка рванул с плеча бурку. Она упала и распласталась на истоптанном, окровавленном снегу. – Заверните его, – приказал он властно. – Леонтий, с тебя спрошу! – крикнул Рифман пожилому казаку и умчался, лихо заломив серую каракулевую папаху.
Казаки молча накинули на Вениамина душную, пропахшую табаком и «Пармской фиалкой» бурку. Он забился в ней, как большая птица, и тут же потерял сознание.
Множество убитых и раненых лежало на въезде в станицу. Сколько убил или ранил каждый из оставшихся в живых? Не время было размышлять об этом. Тербатцы знали и помнили только одно: «Из Казакевичево ни шагу!» Таков был приказ командования, и они – посланцы Хабаровской и Амурской партийных организаций – выполняли его.
Алеша и Марк подняли и несколько шагов пронесли Саню. Он очнулся, попросил их остановиться и неверными шагами, шатаясь, шел по тому пути, где всего час назад они прошли стройной шеренгой. Их оставалось совсем немного. Сахаровцы кричали:
– Сдавайтесь, красные, ничего вам не будет!
Тербатцы отвечали выстрелами, с боем отступая к позициям третьего взвода. Станица казалась вымершей. Окна оставались прикрытыми ставнями. Калитки были на засовах. Обороняясь и теряя последние силы и все еще надеясь на подкрепление, тербатцы шаг за шагом вышли на ту самую площадь, откуда был начат этот смертный путь, и каждый из них мысленно сказал себе: «Дальше ни шагу».
Но что это? Третий взвод во главе с Сун-фу кинулся в сторону Хехцира. Маленький Адобовский, что-то крича, метнулся к ним, но Сун-фу схватил его за руку и потащил за собой. Витюшка упирался. Это было непостижимо: командир первым покидал поле боя, подавая этим сигнал к бегству.
И тогда бойцы второго взвода поняли, что им суждено остаться здесь навсегда. Но все еще смутно верилось, что, может быть, на подступах к станице уже показалось подкрепление, что еще одумаются, вернутся те, кого увлек за собой Сун-фу. С отчаянной решимостью биться до последнего патрона коммунары сомкнули свои ряды.
Снова Шура и Марк были возле Алеши. Шура дрался справа. Он давно потерял свою шапку, ветер трепал его заиндевевшие волосы. С рассеченного лба скатывались капли крови. Слева от Алеши, белый как мел, со стиснутыми зубами, пулю за пулей посылал во врага Марк. И, как тогда, на стрельбище, ни одна из них не пропала даром.
Рядом с Марком, неуклюжий в своем тяжелом полушубке, медведем на коротких лапах крутился Кошуба. Таежный охотник, он в совершенстве владел искусством стрельбы. Вот он уложил одной пулей поджарого казачьего есаула и широколицего смуглого парня остервенело рвавшего с пояса гранаты и швырявшего их под ноги «красным». Шумно радуясь своей удаче, Кошуба передернул затвор и вдруг повалился навзничь. Он был только ранен. Алеша видел это по его страдальческим глазам, по тому, как судорожно хватала перемешанный с землей снег темная рука, и скорее понял, чем услышал, сорвавшееся с его губ проклятье.
Алеша вскрикнул и выстрелил в налетавшего на него черноусого всадника. Пуля попала в лошадь. Падая, она увлекла за собой скалившего хищные зубы хозяина. Вторая пуля Алеши пробила ему висок. В тот же миг и убитого, и Кошубу заслонил рухнувший на них Саня. С диким воплем к нему бросились трое спешившихся с коней сахаровцев. Один из них стал остервенело рвать петли его кожаной куртки, двое других тянули с ног торбаса.
Почти не целясь, Алеша выстрелил в среднего мародера и увидел, как он, выпустив из рук куртку, ткнулся носом в снег. Алеша взял на мушку второго сахаровца, но тут Марк с необычной силой толкнул его в грудь. Он покачнулся и, внутренне холодея, увидел, как рука друга, спасшая его от сабельного удара, отделилась от запястья и отлетела в сторону. Марк вскрикнул тонким срывающимся голосом, рванул другой рукой с пояса гранату и бросился в гущу всадников. Сбитый с ног новым, еще более сильным ударом, Алеша упал и больше не поднялся.
С высотки было видно, как угрюмый Хехцир прижал домики станицы к стылой и гладкой, как скатерть, Уссури. Заслон! Сколько человек должно было встать здесь, чтобы задержать оснащенную и посаженную на коней бригаду?! Преклоните же головы перед горсткой тех, кто сдерживает ее силой своей воли и незащищенной грудью. Мужество одного из них равно подвигу десятерых. Слава им, слава! Думая обо всем этом, Витюшка Адобовский заплакал, что не разделит их горькую участь и не примет рядом с ними смерть. Только вчера он пришивал оторвавшуюся пуговицу и откусил нитку, а Лука Викентьевич пожурил его, совсем как папа:
– Никогда не делай этого, хлопчик! Щербину в зубах наживешь.
А сегодня он нажил щербину в сердце. Неужели он никогда больше не услышит этого голоса, не увидит лукаво прищуренных глаз и горьких складочек, резко обозначившихся у рта, когда Кошуба писал вечером последнее в своей жизни письмо. Шура, Саня, Алешка… не ваши ли тела чернеются там на истоптанном снегу?
– Нюни не распускать, – гаркнул по-командирски Сун-фу. – Уноси голову, пока цела! Пошли… – Оказывается, он не считал это бегством и как прежде требовал подчинения. Проваливаясь по колено в снег, понурив голову, третий взвод брел за командиром тербата к вершине хребта.
…Генерал-майор Сахаров наблюдал за боем со своего белого аргамака на расстоянии, недоступном пуле. Щуря в полевой бинокль глаза и потирая бритую, собиравшуюся у мерлушкового воротника в дряблые складки щеку, он упивался кровавой бойней. Было занятно смотреть, как его «молодцы» расправляются с горсткой этих безрассудно решивших потягаться с ним безумцев. Откуда они взялись в это ясное утро? Куда шли и чего искали? Но каковы бы ни были их помыслы, здесь они найдут только смерть.
Хвала всевышнему! Единственный пулемет сразу же отказал. Пулеметчик потащил к лесу эту ставшую бесполезной игрушку, вместо того чтобы удирать налегке самому. Вот его заметили, окружили. Кони гарцуют, как на параде… Неужели пристрелят? Взять живьем! Но что это? Конники кинулись врассыпную. Двое свалились вместе с лошадьми. Изрубленный пулеметчик остался на снежной поляне один. Трусы. О трусы же! Пулеметчик успел встретить их гранатой и разрядить в себя револьвер. Они расправлялись уже с мертвым. Мир праху твоему, молодой большевик, хотя и топчут тебя конями. Я бы охотно взял тебя к себе. Охотно… Вот упал стройный юноша в расшитых оленьих торбасах и блестящей кожаной куртке. Судя по одежде, он является их вожаком. Немного же осталось у него подначальных. Сахаров злобно выругался, увидев, как его люди набросились на повергнутого красного.
– Чертовы живоглоты! – воскликнул он. – Не терпится обобрать еще тепленького. Да вас же перестреляют, как… Ну вот, один уже готов!
Сахаров опустил бинокль и взмахом руки подозвал завороженного жестокой сечей адъютанта.
– Поручик Беркутов, этих взять живыми, – бросил он небрежно.
Донат посмотрел на него вопросительно и преданно бездонными от расширившихся зрачков глазами. Эта преданность всегда чем-то тревожила генерала. Игорь Городецкий был куда беспечнее и проще, с ним было, пожалуй, хлопотливее, но дышалось легче. Мальчишка погиб в Маньчжурии при обстоятельствах загадочных и странных. Вот тогда-то и попал в генеральскую орбиту этот исполнительный и корректный офицер.
– Ах да… – спохватился генерал. – Ну, разумеется, допросить и… – он подумал: – И ликвидировать до наступления ночи.
– Будет исполнено! – козырнул Беркутов.






