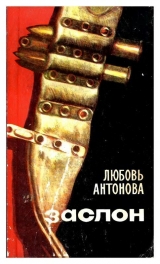
Текст книги "Заслон (Роман)"
Автор книги: Любовь Антонова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 25 страниц)
– Постойте, поручик! Если… – Сахаров помедлил, – если найдутся желающие перейти в мое войско, доставить их лично ко мне.
Тронув повод аргамака, генерал медленно поехал вдоль улицы, брезгливо отворачиваясь от лежавших на каждом шагу убитых.
Когда Алеша очнулся, его поразила разлитая вокруг тишина; потом эта тишина налилась тонким, еле уловимым звоном. И вот уже над самой головой, гудя набатом, раскачивается огромный колокол, опускающийся все ниже и ниже, пока не накрыл его совсем. Гудение колокола было невыносимым, казалось, еще миг – и лопнут барабанные перепонки. И вдруг все стихло. Медленно возвращалась память. В глазах рябило, как от цветных китайских фонариков. Затылок стыл тупой, ноющей болью. Он явственно ощутил под своей щекой чужую, заледеневшую руку и понял, что это отрубленная рука Марка, и ужаснулся. Где же они сейчас: Марк, Шура?.. Алеша вспомнил всех, кто пришел с ним на станичную площадь, и застонал от раскалывающей мозг жгучей боли и от сознания непоправимости того, что произошло. Он попытался открыть глаза, но смерзшиеся веки не разжимались. Где-то далеко-далеко, будто в тумане, мелькнуло лицо Оли, и он вдруг мучительно осознал, что никогда уже не увидит светлого девичьего лица, ни того, как расцветает по весне сирень. Тут чьи-то грубые руки оторвали его от земли и попытались поставить на ноги.
27
После сытного обеда в доме бывшего станичного атамана Шереметьева Сахаров приказал двигать бригаду к Амурской протоке. Адъютант распорядился увести куда-нибудь на время ребятишек. Дети обычно раздражали генерала, как бы тихо они себя ни вели. И его превосходительство час-другой понежился на мягком пуховике.
Отдохнув, генерал благодушно осведомился у адъютанта о судьбе пленных. Беркутов ответил, что согласно его приказанию все уже кончено.
– Отлично! – воскликнул Сахаров и тут же поинтересовался, что доносят дозоры.
– Вокруг, ваше превосходительство, – щелкнул каблуками адъютант, – никаких признаков жизни!
Генерал отхлебнул вина и согласно кивнул, как будто отсутствие жизни и было тем естественным состоянием, к которому должно стремиться все живое.
Беркутов, слегка склонившись к нему, доверительно сообщил:
– По-моему, это был дикий, самостийно возникший отряд, о существовании которого никто даже не подозревает.
– Вы так думаете? Великолепно! Великолепно… – Сахаров закурил. Его крупное, с припухлостями у глаз и чуть оплывшее книзу лицо было безмятежно спокойно. Но вскоре брови генерала сместились к переносью, и Донат понял, что спокойствие было деланным и что генерала мучает какая-то неотвязная мысль.
– Я могу идти? – вполголоса осведомился Беркутов.
– Да, вы свободны. Хотя нет, постойте… Сколько их было? – спросил отрывисто Сахаров, окутываясь душистым дымом папиросы.
– Двадцать восемь! – с готовностью ответил Беркутов. Он не сомневался, что генерал спрашивает о захваченных в плен.
– Ну и как? – спросил вкрадчиво генерал. – Какие данные допроса?
– Они молчали, – смутился адъютант. – Да… Молчали.
– Молчали? Двадцать восемь – и все молчали? – Сахаров приподнялся со стула и в изумлении уставился на адъютанта. – Значит, так допрашивали, – сказал он многозначительно.
– Допрашивали, ваше превосходительство, по всем правилам. В ход были пущены все средства! – пылко возразил Беркутов и, помолчав, добавил: – Было много благовещенцев, а с ними у нас особые счеты.
– И все же все молчали? – кривясь недоброй усмешкой, переспросил генерал. Донат вспыхнул от едкого тона, которому предпочел бы самый несправедливый и бестактный разнос.
– Некоторые ругались, – сказал он после минутного раздумья. – Я просто не в силах передать…
– Я и не прошу вас об этом, – надменно бросил Сахаров и вдруг закричал: – Коня! Дайте мне коня!
…Некоторое время они ехали молча. На снегу лежали багряные отсветы заката, напоминавшие свежепролитую кровь. Как бы подготавливая генерала к зрелищу, которое вот-вот предстанет перед его глазами, Беркутов смущенно пояснил:
– Наши молодчики не постеснялись их раздеть.
– Бр… какой, однако, собачий холод! – Сахаров поднял воротник бекеши и дал шпоры коню. Снова ехали молча. Генерал как бы невзначай спросил: – Что же, вы встретили среди них своих старых знакомых?
– Нет, – поспешно ответил Беркутов. Перед ним мелькнуло окровавленное лицо Шуры Рудых. Он отогнал это видение и пояснил: – Одно лицо показалось мне знакомым. Оказалось, бандит знал моего отца, но я так и не вспомнил, где его видел. Может, это был кто– нибудь из наших бывших служащих. Их было так много, всех не упомнишь.
– Говорят, ваш отец был сказочно богат. Это правда?
– Говорят, ваше превосходительство, но теперь я этого уже не ощущаю…
Сахаров сочувственно вздохнул. Оба они теперь были наемники. Обоим платили иностранные капиталисты.
Генерал не мог не одобрить места, выбранного для расправы. Пять верст от населенного пункта, крутой яр, и внизу скованная льдом протока. Это послужит хорошим уроком другим, это гарантия спокойствия на будущее! Однако нельзя не отдать им справедливости – дрались эти красные отважно. Он вымолвил это вслух. Беркутов запоздало признался:
– Четверо не сдались в плен: трое застрелились из наганов, один взорвал себя гранатой.
Сахаров метнул в него недобрый взгляд:
– А эти двадцать восемь? По-вашему, выходит, что они стали пленными по доброй воле?
– Не… не совсем. Они были так изранены… Одни в азарте не замечали своих ранений, другие были… в бессознательном состоянии, и с ними пришлось повозиться, чтобы привести их в чувство…
– Если руководствоваться принципами гуманности, им требовалось оказать медицинскую помощь и отпустить восвояси. А их пытали… – Глаза Сахарова блеснули и погасли; – Что ж, жизнь есть жизнь. Все же лучше, что не мы попали к ним, а они к нам.
…Генерал увидел их сразу. Они лежали неподалеку от проезжей дороги, в странных, неудобных позах, глядя широко распахнутыми глазами в белесое небо. Он объехал вокруг убитых, равнодушно пересчитал тела и вдруг с непонятным самому себе любопытством стал рассматривать каждого в отдельности. Улыбаясь, как доброму знакомому, он смотрел на того, кто, по его предположению, еще так недавно был обладателем великолепных торбасов и кожаной куртки.
«Они таки обобрали вас, эти мерзавцы! Уму непостижимо, как можно было идти пять верст этими вот босыми ногами». – Обутым в меховые бурки ногам генерала стало зябко. Он невольно пошевелил пальцами и отъехал.
– Несомненно, этот красный был из хорошей семьи, – сказал он, задержав коня возле тела Харитонова. – Какое тонкое, одухотворенное лицо. Странно, что он связался с этим сбродом. А, бог ему судья, в таком случае он получил по заслугам!
Долго рассматривал генерал полуобнаженное, все в колотых и рубленых ранах тело Шуры Рудых, прекрасное даже в смерти, с темными пушистыми бровями, лицо.
– Эк его разделали! – воскликнул он, отъезжая.
Беркутов поморщился. Когда он, следуя приказанию генерала, прекратил бойню, этот парнишка уже не стрелял, а бился прикладом, потом рванул с пояса гранату. Его успели оглушить. Там, в общественном сарае, где их пытали, он сказал этому бывшему гимназисту:
– Ты дрался отважно. Хочешь, я доложу о тебе генералу, и он сохранит твою жизнь?
– Разве это будет жизнь? – прозвучал дерзкий вопрос. – Ведь вы заставите служить тем, кому служите сами, став стервятниками, живущими за счет чьей-либо смерти!
– Ты бился отважно, – повторил Донат, играя рукоятью нагайки. – Теперь остынь и взгляни на вещи трезво: тебе девятнадцать, не так ли? – Вместо ответа этот красный кинул взгляд, от которого по спине пробежал холодок. Стоило ли после этого проявлять к нему особую терпимость? Или вот этот, черноусый…
– Я тебя знаю, – сказал он черноусому, – ты бывший чиновник, и, если будешь говорить правду, мы оставим тебе жизнь. Хабаровск здорово лихорадит?
Разбитые губы шевельнулись, не то силясь произнести слово, не то складываясь в подобие улыбки:
– И я тебя знаю, – глядя в глаза из-под нависших бровей, ответил пленник. – Отец твой был зверь, но и он сейчас переворачивается в гробу, почуяв, как его сынок терзает истекающих кровью людей. Убей меня, но Лука не был Иудой и не станет. – Когда его пороли шомполами, он лишился чувств, но шел сюда бодро и даже поддерживал кого-то. Странные люди. Может, им незнакомо чувство боли?
«Восемь рубленых ран на голове, – подсчитал Сахаров, остановив коня возле тела Алексея Клинкова, и продолжил свой подсчет: – Шея перерублена, на уровне правой лопатки две резаных раны, на груди две колотых, ступня правой ноги полуотрублена, руки связаны». – Он невольно поморщился:
– Все же можно было и поосторожнее…
Беркутов воспринял это замечание как личную обиду.
– Осмелюсь доложить, – сказал он, с преувеличенным вниманием изучая шов «дерби» на своей перчатке. – Осмелюсь доложить, что все они держали себя вызывающе дерзко.
– Даже эти мальчуганы?
– Мальчуганы… В Маньчжурии у меня была встреча: ребенок, глаза, как у Леля, и… запоминающаяся фамилия: Булыга. Он мне врет – я ему верю, так натурально у него все получается. Потом узнаю: в Благовещенске заворачивает комсомолом.
– Любопытно!
– Попадается мне фотография съезда так называемой «красной молодежи Амура», вижу старого знакомца, но ищи ветра в поле.
– Фотография чепуха, всегда можно ошибиться.
– Нет, не роковое сходство, не двойник! Он. И под Карымской снова мимолетная встреча, а он уже комиссар, и они гонят нас из Забайкалья. Такая метаморфоза! Всевышний простит нашу беспощадность даже к детям. Так нужно! – жестко заключил Беркутов и, стегнув коня, отъехал.
Алеша показался генералу растерзанной девочкой. Он воздержался от замечаний, но долго и неотрывно смотрел на изрубленное шашкой лицо, на пересыпанные снегом белокурые волосы. Крутила поземка. Снег оседал в запавших глазницах замученных.
Зачем, во имя чего пролиты сегодня потоки крови, если завтра на место этих убитых встанут сотни новых бойцов, которые будут драться столь же ожесточенно, ибо знают, чего хотят… Знают.
Быстро темнело. Налетающий порывами ветер вздыбливал волосы мертвецов и тоскливо завывал под кручей.
– К черту! – дико закричал генерал, чувствуя, что еще миг – и он присоединится к этому вою. – К черту! – повторил он, когда страшное место гибели тербатцев осталось позади и кони уже скакали по гладкому льду Уссури на китайский берег.
Шокированный нервозностью генерала, Беркутов не отставал от него ни на шаг, не решаясь признаться, что он допустил некоторую вольность в толковании приказа генерала. Где-то там, в Казакевичево, еще оставался живой свидетель кровавого Николина дня – Вениамин Гамберг. Рифман поклялся, что в ход будут пущены самые изощренные пытки и вырванные у Веньки признания будут приятным сюрпризом генералу. Но их бывший однокашник затерялся, как иголка в сене. Казак, который отвечал за его сохранность, позарился на чьи-то сапоги и получил пулю. А двух других бывших с ним казаков Сашка не запомнил. Вернуться же в Казакевичево после расправы у яра, он уже не смог: эскадрон ушел бы без командира. Сашка перепоручил поиск и расправу ему, но генерал спутал все карты своим неуместным любопытством, а теперь они мчались в противоположную сторону от станицы.
Да, про таких, как Гамберг, недаром говорится: родился с серебряной ложкой во рту. Во всем ему удача! Ведь не растворился же он в воздухе? И сбежать он не мог, раненный в ногу. Если бы возвратиться, хотя бы на час! Но теперь это невозможно. Сахаров ударился в панику. Типичный неудачник, и в серьезном деле генералу несдобровать.
Таков был вывод Беркутова, впервые призадумавшегося над тем, не пора ли сменить хозяина. После Каппеля Семенов, после Семенова Сахаров… А кто будет после него? Донат смотрел на генерала с плохо скрытым презрением: как он ссутулился и поник головой! Когда в Харбине вот так же захандрил Городецкий, он знал, что делать. Но хлюпик с белыми, как у деда-мороза, бровями ему просто противен, и только.
«Где вы все, – думал Сахаров устало, – те, что похвалялись отнять у большевиков Россию? Под каким вы греетесь солнцем, перед чьими богами падаете ниц?» – К генералу медленно возвращалось спокойствие. Он размышлял: «Почему я должен идти еще на Хабаровск? Один, как клятый… Ночью… Почему, даже мертвые, побеждают они, а не мы?» Эта мысль поразила генерала своей новизной, но он не побоялся развить ее до конца: «Полураздетые, голодные, они стояли насмерть. А что скажут те, кого веду я, если им завтра перестанут платить или запретят мародерствовать и грабить?»
– Да, нужно возвращаться! – воскликнул Сахаров. «Но куда?» И тотчас же мелькнула успокоительная мысль: «Мир велик!» Генерал решил сделать привал в городке с баюкающим, как колыбельная песенка, названием Тю-тю-пай, где так призывно и радостно вспыхивали первые вечерние огоньки.
28
…Ночь билась в сознание испуганной птицей. Неясно и чадно горела под потолком керосиновая лампа. Хлопала раз за разом избяная дверь. Звенела посуда и оружие. Кто-то ругался площадной бранью. За дощатой переборкой заходился в крике ребенок. Его никто не укачивал, не брал на руки, не утешал. Мать пекла сахаровцам блины. Отец бражничал вместе с ними. Кто-то успел смотаться в Тю-тю-пай, и китайская хана лилась рекою.
«Придет – не придет? – эта мысль была мучительна и неотвязна. – Бежать, ускользнуть в этой суматохе…» – Сбросив жаркую и душную бурку, Вениамин попытался приподняться. Острая боль в ноге рванула его обратно на жесткую скамью.
– Очухался, паря? – спросил, склоняясь над ним, пожилой усатый казак и, потянув за край бурку, стал кутать ему ноги.
– Пить… – прошелестел пересохшими губами Вениамин. Теплая вода переливалась через край жестяного ковша. Зубы стучали по острому краю.
– Худо тебе, паря? Спокою нет, вот беда. Ночь, а здесь, как на ведьмячем шабаше.
– Что там, на воле? – осторожно спросил Вениамин. – Как там наши, а?
Казак запустил в густые лохмы руку и метнул из-под бровей быстрый, обжигающий взгляд.
– Наши… ваши… Дело табак, паря. Были ваши, да все вышли… Да и энтих полегло, не счесть. Вот придут подводы из Чирков, и повезем и раненых, и мертвых, как генерал наказал… Один ты остался, паря. Как перст, один.
– Что ты плетешь?! – крикнул гневно Гамберг. – Что ты каркаешь тут, как ворон?
Лицо казака пожелтело, стало расплываться. Жесткая ладонь, захватив и сминая лицо Вениамина, придавила губы. Задыхаясь, весь покрывшись испариной и дрожа мелкой, знобкой дрожью, Вениамин не в силах был сбросить эту руку.
– Молчи, чудик, – обдавая его чесночным запахом, зашептал в ухо казак. – Молчи. Сам фон-барон наказал тебя стеречь. Как бог свят, сам. Молись, паря, своему богу, какой он у тебя ни на есть. Лютую смерть тебе принять суждено.
– Смерть? – прошептал тербатец, и впервые холод значения этого слова дошел до его разума и сжал дрогнувшее сердце. – Спаси меня, казак, – попросил он жалобно. – Во имя детей своих спаси. Достань мне коня.
– От смерти не ускачешь. А и нет у меня никого, – казак перекрестился. – Был сынок, Ванятка, твой, должно, одногодок, да порешили его. Сгинул с конем вместе. Прими, господи, его душу, – он опять перекрестился.
– Кто же его убил?
– Эх кабы я знал да ведал, паря. – Казак опасливо оглянулся и шепнул: – Бают, калмыковцы, паря. – Он помолчал, испытующе глядя на Вениамина, наклонился и снова зашептал: – Почтарь кручинился по тебе, паря. Пойду скажу ему, а ты лежи. – Вздыхая и бормоча себе под нос, он вышел.
Вскоре казак вернулся с каким-то человеком, и они унесли покрытого буркой Вениамина вместе со скамьей. Ни пьяный хозяин, ни гости не заметили исчезновения тербатца.
На почте Вениамина спрятали в жилой половине, за печью. Ему опять стало дурно. Он не чувствовал, как Свешников делал ему перевязку. Не услышал, как заскрипели на улице подводы.
Тербатцы не только задержали на несколько часов катившуюся на Хабаровск Поволжскую бригаду генерал-майора Сахарова, но и заставили ее изменить свой маршрут. Свернуты были не покрывшие себя славой знамена. Длинен до бесконечности обоз, увозивший ночью из станицы сахаровцев – раненых и убитых.
В тот страшный час, когда Рифман со своим эскадроном творил расправу над безоружными людьми, в Амурскую область со станции Покровка уходил эшелон с оборудованием флотилии и всем ценным, чем располагал обреченный Хабаровск.
Командование Народно-революционной армией принял герой Перекопа Василий Блюхер. А через сутки началось организованное отступление наших воинских частей на левый берег Амура.
Сдерживая на подступах к Хабаровску полчища белогвардейцев и прикрывая отступающих, ожесточенно сражались в этот день с врагом подразделения 3-й конной бригады НРА, морской отряд Амурской флотилии и Особый Амурский полк. Но в ночь на 22 декабря вынуждены были отступить за Амур, в Покровку и они. А в восемь утра 23 декабря, после упорного боя и больших потерь с той и другой стороны, оставили и этот населенный пункт.
В этом бою был тяжело ранен в обе ноги комиссар Игорь Сибирцев. Окруженный врагами, истекающий кровью, он отстреливался до последнего патрона, и этим последним патроном убил себя. Прекрасная, героическая смерть!
Пал Хабаровск. Окрыленный удачей, генерал Молчанов повел наступление на запад.
В эти беспросветно горькие дни благовещенская партийная организация, потерявшая под Казакевичево своих лучших сынов, снова бросила в народ призыв: «Все для фронта!» Снова шли эшелоны с бойцами на восток. Вдовы слали народоармейцам одежду, которую никогда больше не наденут их убитые мужья. Осиротевшие дети посылали им самодельные, вышитые «стебельком» кисеты с табаком.
Снова расточительно щедрым был Благовещенск. Готовясь к обороне, он отдавал оружие и боеприпасы, перевязочные средства и медикаменты. Голодая сам, под метелку очищал кладовые и склады и отгружал для HPА провиант.
Казакевичево в эти дни кишело белогвардейщиной всех мастей и расцветок. На смену дикой Поволжской бригаде генерала Сахарова пришел «голубой» офицерский отряд полковника Ширяева. Ширяевцев сменил имени атамана Семенова Оренбургский казачий полк. За ним появились пластуны, потом нахлынули желтолампасные бывшие калмыковские части, и не было им числа…
Чуть ли не на другой день после занятия Хабаровска, Молчанов потребовал созвать «казачий круг». Поддержка местного населения пришлась бы как нельзя кстати. Но белогвардейцам пришлось жестоко разочароваться: от всего «Уссурийского казачьего войска», «на круг» явилось только восемь представителей, да и те привезли наказы своих одностаничников, что все они впредь будут считать себя крестьянами и в военных действиях против красных участвовать не станут. Гленовский округ, в который входила станица Казакевичево, не прислал ни одного человека.
Генерал Вишневский, базировавшийся со своими подразделениями в Казакевичево, сделал из всего этого разумный вывод: «Уссурийские казаки „расказаковались“, так не станут ли они стрелять нам в спину?»
Это опасение было небезосновательным, в каждой пограничной станице, с незапамятных времен, имелись отлично вооруженные группы «самозащиты от хунхузов».
В Казакевичево начальником самозащиты был Мартемьян Шереметьев. Генерал потребовал его к себе. О чем они беседовали, неизвестно, но все винтовки и патроны пришлось сдать в белогвардейский штаб беспрекословно. Казакевичевцы легко вздохнули: ни перед кем не придется ломить больше шапку. Это ли была не радость! Снова рекой полилась тю-тю-паевская хана…
Как-то незаметно в этой сумятице прошло появление в Казакевичево двух молодых женщин. Одна из них, Людмила Ивановна Фомина, опознала среди лежавших в общественном сарае убитых тело своего мужа – Анатолия Михайловича Востокова. Подрядив кого-то из станичников, она тайком увезла его в Хабаровск и похоронила на больничном кладбище. Другая, в изношенных башмаках и платочке на ярко-рыжих волосах, так ничего и не узнала о благовещенцах.
Только в доме Башуровых ей сказали, что после боя, в сенях, под застрехой, были найдены два партийных билета. Молодая хозяйка запомнила, что в них значились фамилии Бородкина и Кошубы, но сохранить партбилеты поопасалась и сожгла их в печи.
Часами стояла Рыжая на берегу Уссури, вглядываясь вдаль, будто кого-то поджидая на условленном месте. Сердобольные казачки, считая девушку тронутой умом, – а она и в самом деле обезумела от горя, – зазывали ее в избы, кормили и давали ночлег. Вскоре она куда-то исчезла, так и не проведав, что на почте скрывается раненый Вениамин.
29
…Шел грозный февраль 1922 года. Полураздетые и жестоко страдающие от лютых морозов народоармейцы готовились к штурму Дальневосточного Перекопа – Волочаевки. Более полутора месяцев они не знали над головой крова, ели конину и мороженую рыбу, но более чем когда-либо верили в победу. В их числе был и пятнадцатилетний Виктор Адобовский, благовещенский тербатец, то и дело возвращавшийся памятью к казакевичевским дням.
Волочаевские дни. Февральские метелицы и морозы… В ночь на 11 февраля в железнодорожную полуказарму, где размещалась ставка Блюхера и находился походный госпиталь, свозились и сносились раненые и обмороженные народоармейцы. Когда тесное помещение заполнилось до отказа, вокруг полуказармы развели костры и раненых стали класть на оттаявшую землю. А красные сестрички и санитары делали все новые и новые вылазки и приносили уже утративших способность двигаться, замерзавших в дозорах бойцов, отогревая их своим дыханием и сердечным теплом. Из одной такой вылазки не вернулась юная рыжеволосая девушка. Ее нашли потом в снегу замерзшей и похоронили в братской могиле, так и не узнав, кто она и откуда.
Общее наступление было назначено на семь часов утра. Старые, бывалые народоармейцы надели чудом сбереженные к этому дню чистые рубахи. В три часа ночи обходная колонна южнее сопки Июнь-Корань повстречалась с разъездам белых и захватила его в плен. А спустя час в том же районе народоармейцы наткнулись на Поволжскую бригаду генерала Сахарова.
Завязался неравный бой. На стороне Сахарова был численный перевес, но военное счастье переменчиво. Из Нижне-Спасской подошел Троицкосавский полк, и на белых обрушился огонь двух орудий. Ряды противника стали быстро таять, и растерявшийся Сахаров, опасаясь плена, обратился в бегство. Разгром Поволжской бригады завершился быстро. Побросав орудия и пулеметы, ее разрозненные части бросились в Дежневку, но вскоре были выбиты и оттуда. В эту ночь сахаровцы потеряли более трехсот человек убитыми и в их числе эскадрон, изрубивший на берегу «Рыбки» пленных тербатцев. Не сносил головы и командир эскадрона Рифман.
Ровно в семь утра выстрелы из 120-миллиметрового орудия «виккерс» по станции Волочаевка и бронепоезду врага возвестили о переходе в общее наступление всех войск НРА. Ураганный огонь артиллерии и двух красных бронепоездов обрушился на позиции белых у сопки Июнь-Корань. Непрерывный огневой бой длился четыре с половиной часа. В 11 часов 32 минуты на вершине сопки Июнь-Корань взвилось и гордо зареяло на февральском ветру красное с синим знамя ДВР.
Два дня спустя после падения Волочаевки войска Народно-революционной армии вступили в Хабаровск.
…К этому времени жители Казакевичево, обнаружив на берегу «Рыбки» двадцать восемь трупов тербатцев, перевезли их в селение и сложили в общественный сарай.
Почти оправившийся от ранений и живший в Казакевичево под видом учителя Орлянского Вениамин Гамберг опознал среди убитых двенадцать своих товарищей по оружию. Остальные же были так изуродованы, что утратили какие-либо человеческие черты.
Вскоре началось «расследование обстоятельств изувечения и убийства». Допрошенный по этому делу житель Казакевичево Иван Алексеевич Душечкин показал: «Я был в обозе Сахарова и ехал самым последним. С нами, в обозе, вели пленных народоармейцев, захваченных при взятии Казакевичево, в сопровождении первого кавалерийского эскадрона. Доехав до протоки „Рыбка“, пленных почему-то остановили и они стали раздеваться, здесь же остановился и эскадрон, а обоз пошел дальше. Когда обоз уже завернул за поворот, то я видел из-за поворота, что пленных выстроили в ряды, а затем увидел, что стоящие в ряд пленные почему-то стали падать в яр, и я подумал, что их расстреливали, хотя выстрелов не было слышно, так как мешал шум идущих подвод».
Иван Душечкин был последним человеком, видевшим тербатцев живыми. Те, кто творил над ними расправу уже не были людьми…
…Они возвращались. В вагоне было сумрачно и тихо. Никто теперь не смеялся, не шутил и не пел песен.
Была уже середина марта. Солнце пригревало все жарче и жарче. На всем протяжении пути у оттаявших обочин железнодорожного полотна стояли аккуратные штабеля дров, и черномазый машинист, останавливая поезд, брал их ровно столько, сколько требовалось до конца перегона.
Первым покинул вагон Федор Потехин. Его вынесли в Бочкарево. И, как тогда зимой, на перроне стояли его жена и дети. Но теперь она не узнала мужа и, помертвев, упала на чьи-то руки, а когда очнулась, страшный вагон уже уплывал в солнечный простор амурской степи, и не было сил его остановить, и не было голоса, чтобы крикнуть:
– Верните мне того, живого, теплого, что умел тетешкать детей, что смеялся сердечно и играючи переплывал Волгу!
Стыли слезы. А легкий весенний ветерок шевелил тронутые сединой волосы Федора и ласкал изрубленное офицерской шашкой лицо.
Саня Бородкин, Алеша Гертман, Шура Рудых, Марк Королев, Иван Харитонов, Лука Кошуба, Даниил Мирошниченко, Николай Печкин, Ефим Пучкин, Василий Безденежных и Алексей Клинков прибыли в Благовещенск только под вечер. Погибших героев встречал весь город.
Их тела были преданы земле 19 марта 1922 года, ровно через три месяца после Казакевичевского боя.








