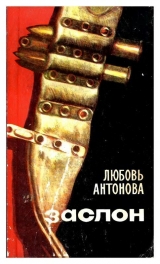
Текст книги "Заслон (Роман)"
Автор книги: Любовь Антонова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 25 страниц)
Тербатцы высыпали из вагонов. Зазвенели пилы. Застучали топоры. С рук на руки стали передавать в паровоз и вагоны пахнущие смолкой и морозом колотые дрова. Растопили печурки, вскипятили чай, напекли картошки, и снова как-то само собой возникла и поплыла по вагону песня:
Кто-то сделал глубокий надрез на березе,
Просто так долбанул топором и ушел, —
начал негромко Шура Рудых.
И бегут по коре ее светлые слезы,
И дрожит от комля до вершины весь ствол, —
вступили задумчиво Алеша и Марк.
Над ее головой пролетают свободные птицы,
И подснежник у ног ворошит прошлогоднюю прель.
Истекающей соком прозрачным, сегодня ей снится
Вот такой же далекий, как юность, апрель.
Он лежал головой на корнях у нее, у березы,
Партизан наш амурский, боец молодой.
От багульника сопки тогда были розовы,
По вершинам их месяц гулял золотой… —
слились вместе десятки молодых голосов. Простая, бесхитростная песня воскрешала в памяти недавние жестокие битвы за свободу.
Он лежал и лицом был белее коры ее белой.
На виске запеклась почерневшая кровь.
А вокруг все цвело, и смеялось, и пело.
«Мне бы каплю воды… я бы встал и пошел…»
С чьих запекшихся губ слетели впервые эти слова? Шура уже не пел созданную им самим песню. Два героя стояли перед его глазами, когда, волнуясь и трепеща, набрасывал он на клочке бумаги свою весеннюю сказку: убитый под Тарбогатаем девятнадцатилетний командир партизанского отряда Георгий Бондаренко и девятнадцатилетний разведчик Николай Щукин, замученный японцами на вершине Архаринской сопки. А что ждет их самих? Не надо об этом думать. Не надо! А мама уже, наверное, узнала…
И она встрепенулась, склонилась. Ветвями
Обняла его, обвила его, подняла.
И шепнула: «Ведь нож-то найдется в кармане,
Ведь весною береза не только бела…»
И с отцом не удалось проститься. Он бы понял, благословил. Родные мои, я не мог поступить иначе, поймите меня, не мог!
Он березовым соком напился, умылся.
Он ушел освеженный по несмятой траве.
И сегодня он снова березе приснился,
На последней ее заре…
Не мог же я и в девятнадцать отсиживаться возле мамы, как тогда, в гамовское. Совесть бы заела. Я напишу вам из Хабаровска. Любимые, ждите!
После Завитой командир территориального отряда Матвеев совсем расклеился, глухо покашливая, глотал какие-то пилюли, тоскливо вглядываясь в синевшую за окном степь. Лука Викентьевич по доброте сердечной пытался было его отпаивать чаем. Матвеев отвел его руку с жестяной кружкой:
– Не… это снадобье не по мне. Чай, он хорошо по– домашнему, когда баба рядом, а тут выйдешь на стынь, дух захватит. – Он повздыхал: – Боюсь, хуже бы не стало.
Кошуба укрыл его с головой полушубком, сверху накинул чью-то шинель. Бормотнув благодарность, Матвеев забылся сном.
Время близилось к полуночи. Набирая предельную скорость, поезд мчался по просторам Приамурья. Люди пробирались к своим, уже обжитым углам и укладывались спать.
Вагон сильно качнуло, Алеша стукнулся об стенку коленом и проснулся. Привалившись головой к его плечу, негромко всхрапывал во сне Шура. На соседней полке, по-детски подложив под щеку левую руку, спал Марк. Рядом с ним прикорнул улыбавшийся во сне Вениамин. Укладываясь спать, Шура и Алеша разулись и, подложив под голову дошку, укутали ноги полушубком. Но теперь полушубок оказался сбитым на сторону, и его накрепко пригвоздила к стенке вагона Шурина голая пятка. В закопченном фонаре медленно угасала свеча, и в ее неверном свете было видно, что лоб Шуры весь покрыт мелкими бисеринками пота.
«Вот и у меня, наверное, так же», – подумал Алеша и провел по лицу рукой. Кожа показалась ему неприятно липкой, и тут же захотелось освежить ее холодной водой. Он нашарил внизу валенки и, сунув в них ноги, пошел вдоль вагона. Всюду белели босые ноги и широко разметанные, большие, знакомые со всякой работой руки. В тусклом свете трудно было различить лица спящих. Да и какая в этом необходимость: со многими из них Алеша встретился здесь впервые.
«А если всех нас ждет смерть?» – подумал вдруг он и приостановился. Вспомнилось, как тяжело и страшно умирала мама от болезни, которую вначале считала пустяшной. Какая ранняя и нелепая смерть! И вот она умерла, учительница и актриса, а жизнь идет своим чередом, и будет так же идти, если не станет и его, Алеши. Но ведь все живое обречено на смерть. Значит, и не нужно ее бояться. Нужно только не угаснуть, как эта вот свеча, а умереть во имя идеи, зная, что твоя смерть спасет сотни и тысячи других жизней. И ведь так, только так будут умирать эти безмятежно спящие люди…
Теплая волна неизбывной нежности прихлынула к сердцу юноши. Повлажневшими глазами смотрел он на спящих, осторожно пробираясь вдоль вагона, чтобы не задеть и не разбудить кого-нибудь, как будто вокруг лежали дети, а не здоровые парни и загрубевшие в тяжелом труде и схватках с врагом, бойкие на словцо и соленую шутку мужчины.
Свеча позади угасла, но впереди замаячила другая, и, как огромный кровавый глаз, запылало жерло раскаленной чугунной печки. Вокруг нее двигались люди, звучали громкие голоса.
«Вот полуночники, – подумалось Алеше, – что это они размитинговались в такую пору?»
– Добрый вечер, – сказал он, поравнявшись, и хотел пройти мимо.
– Вечер? – чуть насмешливо переспросил сидевший к нему спиной человек. – Нет, браток, у нас уже утро! Мы народ простой, привыкли вставать рано. – По звучному голосу, с беспечной, не наигранной смешинкой, он узнал Николая Печкина. Сидевший рядом с Печкиным человек толкнул его в бок локтем и засмеялся:
– Я же говорил, продкомиссар, что на запах нашей печеной картошки сбежится весь территориальный отряд!
– Ну и пущай, – усмехнулся в темные усы Печкин, оборачиваясь лицом к Алеше. – А мы ее, картошечки-то, еще подсыплем! А ну садись, – подвинулся он на длинном березовом чурбане, высвобождая место Алеше.
– Да ты не стесняйся, – сказал коренастый Кошуба и ловко поставил прямо на пол широкую, покрытую газетным листом доску, на одном конце которой лежали ломтики кеты, а на другом – аккуратно нарезанный серый, но пышный и ноздреватый хлеб. Посреди доски белела тряпица с горсткой соли.
– Эх, лучку-то захватить позабыли! – воскликнул огорченно Лука Викентьевич и повел в сторону печки густыми черными бровями: – Картофель-то готов, Ваня?
– Чревоугодник ты, я смотрю, – отозвался сидевший у печной дверцы Харитонов. – И имя тебе дали подходящее: Лука! Луке луку захотелось. Не мне, не ему вот, а Луке…
Жмурясь от жара, он стал выхватывать из раскаленной печки крупные картофелины с твердой золотисто-коричневой кожурой.
– Чревоугодник, а… слыхали, товарищи? – притворяясь обиженным, вопросил Кошуба. – А ведь я об общественном благе пекусь…
– Чревоугодник и есть, – не сдался Иван Васильевич. – Куда прикажешь свои чертовы яблочки класть? – обратился он к Луке Викентьевичу и вдруг, швырнув картофелину обратно, стал обдувать свои тонкие белые пальцы. – Жжется, а он себе и в ус не дует, – воскликнул с шутливой досадой Харитонов. – Хорошо чужими– то руками…
– Картофель, промежду прочим, выгребается из печи палочкой. Дай-ка я… – слегка толкнул его Кошуба и заслонил своей спиной печную дверцу.
– Нет, вы подумайте: чревоугодник! – трагически вскинул он свои косматые брови, водрузив рядом с солью картофельную пирамидку. – Конечно, если я бывший почтово-телеграфный чинуша, то на меня можно вешать всех собак и по-всякому изголяться! Однако ты, брат Ваня, учти: и в жизни этого чинуши были, так сказать, чудные мгновенья…
– Да ты не кипятись, Лука, – потянул его за полу пиджака Алексей Клинков. – Вот тебе мое слово крупчатника, Викентьич, что за тебя вступятся народные массы!
– Золотое ты слово молвил, Алексей, – опускаясь на обрубок рядом с Клинковым, балагурил Кошуба. – Вернемся из похода, а жена твоя к тому времени разрешится. Сынка или дочку тебе подарит! Вот народу-то и поприбавится, буду я, как за каменной стеной!
– Да я не о том… – смутился будущий отец.
Все рассмеялись и, как по уговору, стали лупить картофельную кожуру.
– А ты чего не ешь, парнишка, – обратился к Алеше Печкин, – или у тебя в дороге аппетит отбило?
Алеша весело ответил, что после погрузки дров аппетит у него отменный, и тут же доказал это на деле.
– Как это вы надумали, на фронт да с картошкой? – спросил он с набитым ртом.
– А мы и не думали, – отозвался Печкин, смеясь огромными лучистыми глазами. – Это жены наши ее, матушку, к поезду приволокли. Мы ведь народ семейный, не то что вы, желторотая молодежь! Всухомятку ведь, а?
– Всухомятку, – признался Алеша.
– Во! Я ж говорю! А мы коммуной живем: Мирошниченкин хлеб, – кивнул он на черноглазого красавца, – чья картошка, чья там рыбешка. У нас даже пельмени были!
– Только без уксуса и перца, – ввернул хозяйственный Кошуба. – Да ты бери, бери картошку-то, – поощрил он Алешу, – и про рыбку, нашу извечную кормилицу, не забывай. Видно, не даром говорится: милые горбуша и кета, без вас и жизнь была б не та! Вкусно ведь?
– Вкусно, Лука Викентьевич, – сказал Алеша и неожиданно для себя добавил: – Это не зазейский картофель.
– Откуда ты знаешь? – вскинул косматые брови Кошуба.
– За Зеей сплошь чернозем, там картофель водянистый, а этот с песчаной почвы.
– Гляди, как рассудил, лешак, что твой агроном! – засмеялся Печкин и, смягчая грубоватость шутки, пояснил: – Что верно, то верно. Картошка из Белогорья. А ты ешь, ешь, да расти побольше.
Алеша ел и прислушивался к тому, что говорил Иван Васильевич, пристально разглядывавший свою узкую руку, на тыльной стороне которой краснел свежий ожог:
– Вам-то, благовещенцам, надобно знать, что Комаров в тряпицынских зверствах неповинен. У него на авантюристов свой, особый нюх был. И Тряпицына он разгадал одним из первых. – Харитонов помолчал и добавил тихо: – Николаевскую трагедию вы своему земляку в вину не ставьте во веки веков.
– Да кто виноватит-то? – завозился на своем месте Клинков. – Интересуемся, и все… Здесь он у всех нас был на виду. Командующий, потом военком. А Николаевск – дело дальнее! Всякое тут болтали, до сути– то не скоро доберешься.
– А надо бы с него это публично снять, – сказал Печкин. – Нехорошо ведь получается: родители у него тут, брат Витька, бывший партизан, сестренка! Дом их аккурат против флотских казарм стоит. Сходил бы, разъяснил или через газету…
– Книгу написать обо всем этом мысль держу, – ответил Харитонов, доставая из кармана мятую пачку папирос. – Нате, угощайтесь! – Пачка пошла гулять по рукам. – Только когда писать-то, – продолжал Иван Васильевич. – До Благовещенска добрался – избрали николаевские беженцы делегатом на конференцию областных правительств в Читу. Вернулся, благовещенцы поручили заведование областным отделом народного просвещения. Едва освоился с этим делом, – в области со школами такой ералаш был, – воевать вот приходится.
– Да… вся жизнь на колесах, – поддержал разговор Алеша.
– Вот уж как вернусь… – Харитонов раскурил папиросу, глубоко затянулся. – У отца-то его мы с Саней Бородкиным были. Вещицы кое-какие, документы, письма Анатолия отвезли. Вещей он не взял. Сане отдал. «Носите, говорит, и унты и куртку, нам на это и глядеть будет больно». Седенький такой, обходительный старичок. Ростом мне по плечо…
«В который уже раз слышу я эту историю, – подумал Алеша, – А где же Бородкин? Неужели еще спит?» – И, будто в ответ на свои мысли, услыхал его голос:
– Подъезжаем к Хабаровску!
Подойдя неслышным шагом, Саня, в черной кожанке и сбитой на затылок серой шапке, стал подтягивать к поясу нарядно расшитые поверху оленьи торбаса, застегивать куртку.
– Поленился встать, комиссар, когда тебя будили, так питайся теперь сухой корочкой, – сказал Кошуба и сунул ему в карман увесистую горбушку хлеба. Свернув газету с остатками пиршества, он кинул все это в печку. Бумага вспыхнула ярко, озарив девичьи свежее лицо Бородкина с твердо очерченным ртом и крылатыми бровями.
– Можете оставить, Лука Викентьевич, себе, – улыбнулся Саня. – У меня в Хабаровске сестра. – По мечтательному выражению его глаз было видно, что Саня любит сестру и ждет от предстоящей встречи немало радостных минут.
– А у меня там брат! – воскликнул Алеша.
– Значит, вспомним детские озорства напоследок! – Бородкин притянул к себе Алешу, обняв его за плечи, и близко глянул в глаза. – Что ж, сынку, немало сказано нами во славу республики горячих слов, пришло время показать себя и в деле. При любых обстоятельствах коммунисты не побегут прятаться в кусты. Так, что ли?
– А как переправа? – подал голос с верхней полки Матвеев. Сон, видимо, пошел ему на пользу. Голос звучал бодро.
– Как-нибудь переправимся, – успокоил его Бородкин. – Мост, говорят, подорван, но не повернем же вспять. Надо будет, – перейдем Амур пехом. Ты-то, Тимофей Тимофеевич, как себя чувствуешь?
– Да вроде бы оклемался.
Алеша, видя, что Саня перестал обращать на него внимание и принялся за хлебную горбушку, побежал будить своих, Вениамин стоял у окна, насвистывая какой-то бравурный мотив.
– Какие люди! – вырвалось восхищенно у Алеши, когда он расталкивал Марка. – Какие люди!
– Что ты там бормочешь? – осведомился проснувшийся Шура.
– Ничего! Подъезжаем, ребята! – Посветлевший от вновь зажженных свечей вагон наполнился веселым гомоном и шумом. Полураздетые люди выбегали в тамбур посмотреть, как поезд осторожно, будто выбирая дорогу, ползет по уложенным прямо на лед рельсам.
На противоположном берету сквозь рассветную синь намечались прозрачные очертания города. Это был Хабаровск.
24
– Все еще недужится чтой-то. Может, ты один слетаешь в штаб фронта? – шепнул Сане Матвеев.
– Это от вагонной духоты. Отлежись день, Тимофеич, завтра будешь свеж, как огурчик! – глядя в его посеревшее лицо, посочувствовал Бородкин.
– Доложишь, а? – обрадовался командир отряда. – Ну ты парень – гвоздь! Вали, комиссар, скажешь, все, мол, в порядке. Я часом позже буду, маленечко отдышусь.
– И не вздумай! Посиди здесь, на вокзале. – Харитонов взял его вещевой мешок. – Главное, не унывай: мы что-нибудь сообразим. Город ведь, кругом медицина. – Он кинулся догонять Саню. – Скис наш командир: дышит, как рыба‘на суше.
– Отдышится! Я уж прямо в штаб. Кусок в горло не пойдет, пока не узнаю обстановку. – Город вселял тревогу не одному Сане. Двое суток в пути. За это время столько могло произойти… Тербатцы, смущенно переглядываясь, топтались на привокзальной площади. Голые деревья звенели промерзшими ветвями. Под ноги летели клочья не то воззваний, не то афиш.
Оставшись один в промозглом помещении, Матвеев пытался порасспросить дежурного по вокзалу, но тот как воды в рот набрал. У Матвеева глаза полезли на лоб от смертной тоски.
Молчит, а может, недоброе замышляет? Боком, боком посунулся Тимофеич к двери и заковылял на площадь.
– Я уж с вами, – кинулся он к своим. – Я уж как-нибудь…
Громыхая обледенелой бочкой, проехал заросший до бровей водовоз, покосился на отряд.
У домика с замурзанным крылечком жалась очередь: закутанные шалями молчаливые женщины, непроспавшиеся подростки в самых немыслимых одеяниях. Должно, за хлебом. Прошли двое в крытых сукном шубах, в высоких котелках, переглянулись, опустили глаза. Вынырнул из-за угла народоармеец, в жидкой шинелешке, в пудовых ботинках с обмотками, увидев вооруженных людей, попятился, застыл на месте, улыбаясь напряженным, испуганным лицом. У него и распытали, как добраться до штаба фронта. Народоармеец посветлел глазами, засмеялся, показав слишком яркие для его неприметного облика зубы, вызвался проводить.
Алеша хотел проситься в напарники к Бородкину, но его опередил Харитонов:
– Я с тобой, комиссар, – и обернулся к народоармейцу: – Ну как у вас тут жизнь?
– Ничего. Не очень, чтобы очень, и не так, чтобы как! – уклонился тот от прямого ответа.
– Понятно больше половины. Ну шагай, куда путь держал. Дорогу я знаю.
Не успели Бородкин и Харитонов сделать и десятка шагов, как их догнал Матвеев.
– Отпустило маленько. Свежий воздух подействовал, пользительный.
– Носом дыши, а то легкие застудишь, – вразумлял его Харитонов.
– Вот это опора! – восхитился Саня. – Да славный молодой человек за вами двумя, как за каменной стеной! – Матвеев подтянулся и попытался подстроиться к нему в ногу.
Бежали в школы вприпрыжку румяные от мороза дети, и не помышляя о том, что где-то на подступах к городу бродит по сопкам смерть. Один малец приостановился, долго смотрел вслед тербатцам, размышляя, не пойти ли за ними. Нет, без музыки это было неинтересно.
В штабе фронта хмурый небритый человек, узнав, кто они и откуда, выразил брюзгливое недовольство:
– Не очень торопились. С тринадцатого ждем.
– Тринадцатого и выехали. Не на крыльях же летели, – обиделся Матвеев.
– Отрядом я распоряжусь, а вы пройдите к товарищу Серышеву, он ответственный за оборону. – И буркнул что-то насчет холоду, который тот нагонит.
Помглавкома Серышев, выслушав Матвеева, невнятно промямлившего о численности и самочувствии тербатцев, велел всем садиться.
Иван Васильевич и Саня сели. Матвеев, стиснув зубы, судорожно вцепился пальцами в спинку скрипнувшего стула.
– Да вы сами-то как? – спросил Серышев, склоняя к нему пепельно-бледное, с обострившимися чертами лицо.
– Сердце заходится, – рванул Матвеев воротник полушубка. – Дыхнуть не дает.
– Н-да… придется вас госпитализировать. Идите, там все устроят, – помглавкома, махнул рукой в сторону комнаты, из которой они вошли.
Матвеев сделал шаг и привалился к стенке. Саня бросился к нему и, неловко обняв, повел к двери. На столе звякнул телефон. Серышев нетерпеливо схватил трубку:
– Да. Обстановка? – он на мгновение полузакрыл глаза, и, когда открыл вновь, они блеснули, как лезвия бритвы. – В основном белые группируются в районе Вяземской. Изменения? Из общего числа наступающих выделилась Поволжская бригада Сахарова. Численность? До восьмисот сабель и около двух тысяч двигающейся следом пехоты. Да. По Уссури. В обход Хехцира. И еще, – он метнул взгляд на Харитонова, – и еще по железной дороге наступает корпус генерала Смолина. Да. Бронепоезд, артснаряжение и пулеметы. Непременно… – Серышев положил трубку, сунул руку за поясной ремень и посмотрел в незанавешенное окно. Все еще бежали в школы дети. Он думал о тех ребятишках, что в районе базы флотилии всю ночь вывозили на левый берег Амура на салазках оборудование ремонтных мастерских и станки. Дорога была каждая минута, и бесценна любая пара этих озябших детских ручонок. Формирующийся эшелон необходимо было срочно отправить в неприступную цитадель большевиков – Благовещенск.
– Мы вас, товарищи, ждали, – сказал помглавкома, когда вернулся Саня, – для укрепления нашей армии политработниками. Стремительные действия противника поломали наши планы. Хабаровска нам не удержать. Принять бой мы сейчас не в силах. Важно задержать врага на подступах к городу. Это даст нам возможность не пропустить белых в Амурскую область, не поставить под удар Забайкалье, не отдать на поругание Дальневосточную республику, не открыть врагу семафор на Сибирь. Задержать на несколько часов. Если потребуется, – ценою жизни.
Глаза помглавкома были суровы и ясны, как зимнее небо. Он ждал ответа. Бородкин ответил с гордостью за своих амурцев:
– Мы все к этому готовы.
– Политработниками мы были и будем, а бойцами не переставали и не перестанем быть, – просто сказал Иван Васильевич.
Серышев шагнул к висевшей на стене карте:
– Вот здесь, под Казакевичево, генерал-майора Сахарова необходимо задержать. К вам присоединится отряд под командованием Сун-фу. Он будет и вашим командиром. Подкрепление, 4-й кавэскадрон, вышлем следом. – Помглавкома пожал им обоим руки: – Передайте вашим товарищам, что в их руках судьба республики. Враг может налететь внезапно. Будьте готовы к бою каждую минуту. Победить или погибнуть, иного пути нет. Вы, коммунисты и комсомольцы, должны оправдать свое высокое звание… – Снова зазвонил телефон. Серышев сделал знак, чтобы они уходили.
– Да, – крикнул он в телефонную трубку. – Сейчас выступают.
Бородкин осторожно прикрыл дверь. В проходной комнате, привалившись к спинке венского диванчика, полулежал Матвеев.
С улицы вбежал обвешанный оружием ладный, лет сорока пяти, крепыш с кирпично-красными скулами и быстрым взглядом матово-черных глаз из-под летящих вверх бровей. Он метнулся в кабинет помглавкома, сразу же выскочил оттуда, заулыбался, тыча дощечкой смуглую руку, представился:
– Командир отряда имени Карла Либкнехта Александр Сун-фу. Пошли, други, пошли!
По дороге Сун-фу сообщил, что отряд, которым он командует, был сформирован дня два тому назад.
– Только, признаюсь прямо, наломали мы дров. Большинство коммунистов взято из аппарата госучреждений. Многие в военном деле ни в зуб ногой.
– Обмундированы? Вооружены?
– Ага. Вчера приодели. Винтовки выдали. Ну а ваши как?
Суетливость Сун-фу раздражала. Саня сдержанно ответил:
– Наши разуты, раздеты. Оружием обеспечены процентов на тридцать.
Иван Васильевич тронул локоть Сун-фу:
– Надо бы о них позаботиться, командир. По земле ходим, о земном думать приходится.
– Об чем разговор? – хлопнул себя по округлым бедрам Сун-фу. – Винтовки дадим. Насчет обмундирования туго: припоздали вы, Хабаровск эвакуируется. Конечно, я с своей стороны… – не закончив фразу, он нырнул в какие-то ворота.
– Резвый, а без толку, – сказал Бородкин. – Не по нутру мне это.
– Да, что-то тут не того…
Едва тербатцы успели позавтракать в чистом, тепло натопленном помещении, как вернулись из штаба фронта Бородкин и Харитонов и объявили, что отряд перебрасывается сейчас, сию минуту, под Казакевичево. Следом за ними влетел Сун-фу в сопровождении пулеметчика Анатолия Востокова и выделяющегося своей военной выправкой Ильинского – помощника командира отряда. События развертывались стремительно и живо. Подошли хабаровские тербатцы. Отряд разбили на взводы. Благовещенцы подивились, встретив здесь старого знакомца – Витюшку Адобовского. Когда формировался отряд, они отказались от малолетка наотрез, но он проявил завидную настойчивость, опередив их и доказав, что без его участия не обойтись. Черные глаза парнишки сияли, он. не мог скрыть своей радости, как ни старался.
Город амурцам понравился. Красивых каменных зданий было, правда, немного, но небо высокое и ясное, как в Благовещенске, и солнце светило так же ярко. Чувство скованности, охватившее Вениамина, когда он выбежал из родного дома, постепенно проходило. Он выразил сожаление, что не удалось сходить даже в музей.
Шуру Рудых удручало, что не написано письмо домой и что Августа таки пришла на вокзал, стояла в сторонке, но он-то заметил, на кого она смотрела неотрывно. Марк, шагая рядом с ним, беспечно улыбался. Все складывалось так, как ему мечталось. Это ли не счастье?!
– Ты что приуныл, Шурка? – спросил он.
– Я ничего… Жаль, Алешка вот не повидал брата, – почти весело ответил Шура.
– А Женька сидел возле печки и меня поджидал, – озорно присвистнул Алеша. – Флотские, поди, давно уже на фронте!
За Хабаровском было снежно. Солнце и снег слепили глаза. Бил в лицо резковатый ветер. От мерной поступи тербатцев в морозном воздухе, далеко разносилось: ж-жик… ж-жик… ж-жик… Шагали налегке. На единственной подводе лежал пулемет, узелки тербатцев да куль с пшеном – весь запас провианта, выданный перед походом.
Кошуба, тешивший поначалу ребят побасенками, – он их знал великое множество, – скоро выдохся. Никто не поддержал напускного веселья, да и своя морока подступала. Он вполголоса поверял Ивану Васильевичу семейные дела. Характер у Николая Шастина не медовый, а бедовый. Еще дома ему было говорено: «Не суйся в пекло: батьки в доме нема, мать на ладан дышит, а сестренок и братиков хоть отбавляй. Уйду я, и мою мелюзгу да жинку сюда же плюсуй. Ты старшой, на тебе семья станет держаться». Какое там… уперся, что вол. «Да ты ж разутое, раздетое». В Хабаровске, говорит, обмундируют. С тем подались, оторвав от себя теплые женские руки.
– Обмундировали в Хабаровске… как же, в самый раз этим было заниматься: в чем пришли, в том и дальше пошли. По горсти пшена на брата – вот все снаряжение. Хорошо, что не весь Мирошниченкин хлеб приели, да у Печкина за пазухой картошек с десяток припрятано. Если на привале сальцем раздобыться, кулеш знатный можно сварить. Нужно будет поспрошать про сало…
Мороз пробрал Шастина до синевы. Пришлось отдать ему свою вязаную фуфайку. Другой бы с благодарностью принял, а этот стал препираться. Кошуба набросил ему фуфайку на плечи, а он возьми да и стряхни ее в снег. Тут уж Лука Викентьевич не выдержал:
– Ну, уросливая зараза, я ж тебя зануздаю! – И принялся бороться со свояком. Николай, разогревшись, смилостивился, поднял и надел фуфайку. А валенки-то подшитые ползут по швам. Вот горе-гореваньице, с радостью бы отдал Николке и свои унты, да нога у Луки Викентьевича маленькая, – он и сам-то не очень велик, – а у длинного, тощего Николая ножищи – дай боже! Гляди на него теперь, казнись…
Бородкин нежненько, как невеста жениху, повязал Марку гарусный шарф. Тот тоже было заартачился. Саня на него прикрикнул:
– Дают – бери! Думаешь, я в этом облачении родился? Меня самого старик Комаров с головы до ног одел. Объясняй каждому! – Марк глянул на него благодарными глазами и поправил на шее обновку. Ильинский, приглядывавшийся к Сане, подал голос:
– Знатная вещь! – Сам он был обмундирован с иголочки.
Бородкин спросил в упор:
– Вы бывший офицер?
– Это имеет значение? – пожал обтянутыми бекешей плечами Ильинский.
– Еще какое!
Нарочито медленно отвернув побелевший от мороза воротник, Ильинский выставил вперед острый подбородок:
– Чудны дела твои, господи! – Он зевнул, прикрывая рот перчаткой. – Нельзя ли, дитя мое, поточнее?
– Извольте, – Саня весь поджался, будто готовясь к прыжку, и сказал раздельно: – Сун-фу передоверил командование своему помощнику. Так?
– Допустим, диагноз верен. Что из этого следует, моя радость?
Бородкин постарался не заметить ни его фамильярности, ни язвительности тона.
– Я отвечаю за амурцев и обязан знать, кто их командиры.
– Слушай, мальчик… – рот Ильинского повело на сторону. Он помолчал, бросил сквозь стиснутые зубы: – Если ты чинишь допрос, я не обязан отвечать. Если это детское любопытство, тем более. Тот, кто послал меня сюда, знает, кто я. Квиты?!
– Не наводи тень на плетень, – сказал спокойно Саня, – не уклоняйся от прямого ответа на простой вопрос. Вина не наша, что знакомимся так вот, на перепутье:
– Ну ладно, ладно, – смягчился Ильинский. – Я, знаешь, излишней подозрительности не выношу. Не будем, как козлы, трясти бородами, ища подвоха там, где его нет и в помине. А вот и Ново-Троицкое! – воскликнул он. – Сделаем здесь привал, отдохнем, а завтра чуть свет тронемся дальше. Не возражаешь, комиссар?
– Какие могут быть возражения? Люди притомились.
– Парень ты, должно, не плохой, но не вяжи ты мне, за ради бога, руки. Положись на мой военный опыт. Я же не виноват, что кто-то в чем-то ни уха ни рыла. – Ильинский полной грудью вдохнул морозный воздух. – Давай заночуем в одной избе, вот и узнаем друг друга ближе.
Саня согласился. Они прибавили шагу, догоняя идущих впереди.
Вечерело. Косые тени от плетней лежали на синем, нетронутом снегу. На голых ветках черемух стрекотали воробьи. Над вытянувшимися цепочкой деревянными домиками курились мирные дымки. Веяло по морозцу печным теплом, горячим варевом, сытой, ухоженной скотиной. Сгрудившись посреди безлюдной улицы, тербатцы братски делились табачком.
25
Алеша, Марк и Шура держались вместе. Домишко, куда их поместили на постой, был маленький, ветхий, но чисто выбеленный и снаружи и внутри. У порога, в отгороженном жердочками углу, на подстилке из свежей соломы выбрыкивал дымчатый, с белой звездочкой на лбу теленок. Ребята сидели в красном углу на табуретках за непокрытым крашеным столом. Напротив них жались на длинной скамье спинами к печке хозяйкины детишки-погодки, лет шести-восьми. Были они все на одно лицо: скуластенькие, с торчавшими ежиком темными волосами, с пытливыми узкими глазенками.
У Марка еще сохранилась взятая из дому кое-какая снедь. Ссыпав вместе полученное пшено, политехники отдали его хозяйке, и женщина занялась за переборкой приготовлением каши.
– Дядь, а дядь, – осмелел средний из казачат, – вы партизаны или просто так, охотники?
– Охотники, мужичок с ноготок, – ответил Марк. – Да еще какие!
– Не, вы партизаны, – недоверчиво протянул старший. – Вы наших или ихних бить пришли? – с недетской озабоченностью поинтересовался он.
– А кто это ваши? – спросил Алеша. Старший из мальцов чем-то напоминал ему Кольку, даже глуховатый голос, казалось, был похож. – Ну кто же ваши? – повторил он, вставая со своей табуретки и подсаживаясь к ребятишкам.
– Ну, которые жители… которые сами по себе, – протянул мальчонка, отодвигаясь и тесня при этом братцев.
– Сами по себе, запомни, казак, люди не бывают, – присоединился к ним Шура и тронул пальцем нос меньшого: – Гляди-ка: нос плюский, глаз узкий, да это ж наш иркутский! – Он мастерски изобразил удивление. Мальчишки взвыли от восторга.
– А ну кыш отсюдова! – прикрикнула на них мать, внося в большой миске кашу. Дети переглянулись и юркнули за переборку.
– Ешьте, ребята, горяченькое. Я тут маслица подложила. – Спрятав под залатанный передник большие натруженные руки, она горестно вздохнула: – Был бы у меня хозяин…
– А где он? – поинтересовался Марк, разглядывая затейливую резную ручку деревянной ложки.
– Да я и сама, паря, не знаю. – Женщина неуверенно переступила с ноги на ногу, размышляя, можно ли довериться этим людям. Лампешка коптила. Она подошла и убавила нагоревший фитиль.
– Не солоно ль, милята?
Тербатцы похвалили кашу, заскребли ложками по дну миски, выгребая остатки.
– Пойти чайник принести. – В дверях хозяйка приостановилась: – Забрали моего-то калмыковцы. Увезли – ни слуху ни духу, вот уж, почитай, год скоро. Должно, порешили… – Казачка говорила спокойно, притерпевшись к мысли, что уже не увидит мужа. Но когда Алеша попытался ее утешить, что-то дрогнуло в молодом, рано поблекшем лице. Она резко повернулась и вышла.
Постелила хозяйка ребятам на полу. Прикрыла солому чистым рядном, бросила поверху бараний тулуп и старшего парнишку приткнула с ними рядом. Сама легла с меньшими на старую деревянную кровать, задернула ситцевый полог и все сморкалась да шептала что-то. И этот невнятный шепот в чужой и душной избе напомнил Алеше почему-то маму, ее лучистые глаза, мягкий голос и теплые, ласковые руки. И опять ему подумалось о Кольке, о Федоре, о том, что он не выполнил его просьбу, не увидел Евгения. Ворочался без сна и Шура. Он опять не написал письма: хозяйка потушила лампешку, едва постелив постели. Зато Марк спал как убитый и даже не видел снов.






