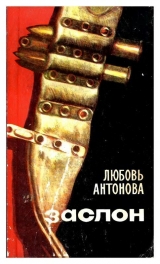
Текст книги "Заслон (Роман)"
Автор книги: Любовь Антонова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 25 страниц)
– Принимай, сынок, свою одежу, – сказал плотовщик, подойдя к ним и набрасывая на плечи Сани его щегольскую кожаную куртку. – Добрая одежина, я не девка, да и то загляделся!
– По Сеньке и шапка! – воскликнул Вениамин. – А девчата действительно заглядываются, только на тужурку ли, на хозяина ли – вопрос не решенный. Вон летят сюда, как мухи до меда!
– Так там же первой летит твоя Елена, – поддразнил его Булыга.
– Неужели славный молодой человек удостоен такой чести? – сделал испуганно-забавное лицо Саня и подкрутил несуществующий ус. – Безгранично сомневаюсь!
– Однако освобождай мою чурку! Пускай девчата видят, что я один не сижу здесь сложа руки! – И, рассмеявшись, Гамберг снова взмахнул тяжелым колуном.
Близился вечер, но никто не спешил домой. Ночи несли амурцам не покой и отдых, не беспечное веселье, а тревоги и скрытую опасность. А сейчас было так хорошо всем вместе под осенним негреющим солнцем.
6
Город – под высоким и ясным небом, город – омытый прозрачными реками, город – продутый всеми ветрами, город – первым на Дальнем Востоке вышвырнувший интервентов и белых, неужели тебе суждено навеки остаться в памяти людской городом худой славы?!
Правый берег Амура, чужая сторона, чужое беззаконие… Но что же нужно сделать, чтобы жили, не трепеща за свою судьбу, люди на левом берегу?
Принесли в Михайло-Архангельскую церковь девять гробов: мать, отец и восемь ребятишек. Плачут женщины: меньшенький только народился, а горлышко перерезано. Лежит без кровинки, что ангелочек восковой. Злодейство какое: всю фамилию скосили под корешок!
– Нет, не всю, – уточняют досужие люди. – Девчоночка одна уцелела. В больнице, в беспамятстве лежит.
– И вовсе не в беспамятстве, – утверждают более дотошные. – В твердом уме она теперь и в здравой памяти. А сказала такое – хошь верь, хошь не верь – волосья дыбом! – Сбивается кружок теснее, голоса переходят на полушепот:
– Сказала, говорит, комсомольский патруль. Сказала, говорит, с обыском. Денег не было, говорит, потому всех порешили комсомольцы те.
– Бредит девчонка. Комсомолы на такое не пойдут. Анархистов или хунхузов работа!
– Ан не бредит. Русские парни, говорит, молодые, здоровые, оружием обвешаны от ушей до ног.
Поползли по городу слухи один другого страшнее: комсомольцы грабят, убивают, не пускайте их на порог. Девчонка будто всех признала, что были в ту ночь в патруле.
И опять здравые голоса:
– Провокация! Никого она не признала. Те, – сказала, – трое их было или четверо, – рослые, румянец во всю щеку, в полушубках, в унтах, а у комсомолов шубки на рыбьем меху, подметки к сапогам веревками приторочены.
Ищи ветра в поле: троих или четверых, с румянцем во всю щеку. Дом убитых опечатали. Девчонку определили в приют. А тут снова, на Ремесленной улице, вырезана семья: старуха с сыном, невестка да четверо внучат. И «почерк» у бандитов тот же: вспороты все подушки, бито да не граблено. Опять искали деньги – золотые романовки.
«Это они», – идет по городу молва, а кто «они», никто не знает, и опять клеплют на комсомол.
Голод. Страхи. Спасибо, в школах хлеб и кету ребятишкам стали давать. Разутых, раздетых бесплатно приодели. А в мучном лабазе, слышно, бабы пустыми мешками исхлестали продавца и муку повычерпали пригоршнями. И еще «буферные» чудеса: работы у людей разные, а оплата и того разнее. Одним платят мороженой брусникой, другим сапожными гвоздиками, кому шоколадки дают на зубок, а кому колючую проволоку. В лесничестве же вдруг заплатили китайскими даянами. Одного лесника баба у колодца хвасталась без удержу:
– Как принес мой те серебряные даяны, мы, дева, на базар! Накупили всякова-разнова: и муку, и лампасеи, и сало, ребятишкам на платьишки да на штанишки. Еле извозчик увез. Ей-богу, не вру!
– Если б так-то да кажинный месяц, – сдержанно поддакивала собеседница. – Тады б можно и при бухвере этом не загнуться, – и поджимала губы.
– Сказывали, так и будет, – ликовала счастливая лесничиха. – Живы будем – не помрем.
Такие разговоры далеко, видно, шли. Лесничество на отшибе стоит, за семинарской горкой. И вскоре на домик, что аккурат к лесному питомнику прилегал, посреди бела дня сделай был налет, на тупицынскую половину. Лесник в этот час во дворе в стайке чертомелил, а жена в горнице справу себе шила и тихонечко, под нос, напевала. Вдруг рыпнула дверь и парень в белом полушубке влетел да прямо к ней:
– Деньги живо или не быть тебе живой.
Тупицына была женщина здоровущая, а пуще того голосистая, извернулась к двери и завыла в голос:
– Степа-а, грабют! – А Степа тоже не лыком шит, уже с ружьем на пороге, в налетчика целит.
– Руки вверх! – а на лице смятение: «в супруженицу не угодить бы невзначай».
Незваный гость сообразил, что дело его швах, пригнулся, боднул хозяина в живот да и тягу: выскочил в сенцы, загремел по ступеням, не оглядываючись, шваркнул на высокое крылечко гранату-лимонку и к калитке бегом. Хозяин же прямо с порога всадил ему пулю промеж лопаток и пригвоздил налетчика к воротам. Граната, не взорвавшись шут ее знает по какой причине, скатилась с крыльца и лежит себе в сторонке сиротой. А лесник распалился, перепрыгнул через мертвое тело, выскочил за ворота и на извозчика вторую пулю издержал. Часом позже разобрались, что парнишка был грабителю не пособник, а взят на извозчичьей бирже-стоянке. Повез седока, как путного, а назад вернуться не довелось. Дом у отца с матерью загляденье, два легковых выезда и один-разъединый сын. Звали Колей, голубей любил до самозабвения, по той причине и учиться бросил. Вот и вся история-биография. Плачь не плачь, мертвого не воскресить.
У налетчика документов не оказалось, и в лицо никто его не признал. Лежит на снегу бровастый, губы плотно сжаты, лицо белое, без кровинки. Молодой, лет двадцати пяти, а может и того не прожил. Может, мать ждет где, может, все глаза проплакала, а он вон какими делами занимался. Легких денег ему хотелось, теперь ничего не надо. Судебный эксперт, доктор Тауберг, вскрытие делал – дивился меткому выстрелу: прямо в сердце угодила пуля, хоть и вошла со спины. Всех бы их таких-то, да вот так! Они и Николаевск по ветру пустили. Душ-то, душ что загублено!
Вдруг все это дело другой стороной повернулось. Приоткрылась завеса, да такое показала… Кровью пропитанную бумажку в кармане налетчика нашли. Мятый клочок и весь слипся, по до чего ж народ доходит: время затратили, а написанное на той бумажке прочли, докопались до смысла, значит… А и стояло в той бумажке всего два слова: «Белогорье – Кузины». Ах, едят тебя мухи! Все помнит народная власть, а про братьев Кузиных забыла. Давненько про них ни слуху ни духу, а ведь делывали дела. В восемнадцатом Мишка, Ванька да Федька выдавали себя за партизан, а сами грабили окрестные села. Были изловлены на деле, посажены в тюрьму, а тут сентябрьский переворот. Очутившись на воле, они с японцами дружбу повели, как «пострадавшие от советской власти». Японцы с Кузиными нянькались, привечали их. Потом братья рыскали с карателями по области, жгли и грабили, но в своей деревне не трогали никого. Мать их Марфа, овдовев лет десять назад, с казачьим урядником сошлась. Он, как советская власть пришла, на ту сторону подался. И у Марфы дорожка туда проторенная была: ездила справлять у купцов китайский Новый год. Она и сама, что купчиха была – контрабандой приторговывала. Сыновей тоже к труду не приобычивала. Старшие-то и статью и характером пошли в нее: не из дома несли, а в дом. Возами везли, а мать не докучала вопросами: откуда да почем?
Все вспомнили про братьев Кузиных, да уж так, что позабыть не смогли. Поинтересовались, там ли они. живут. Живут, да еще как живут!.. Селяне на них не в обиде: уважительные, гладкие, и веселые же, черти! Девки кличут их комиссарами за широкие в боках штаны, за шелковые рубахи да с кисточками пояса. Еще узналось, что прикуривают братья Кузины от лампы сотенными бумажками и в дому всегда людно: наезжает гостей со всех волостей.
«Вот она, матушка-загогулинка, – решили в милиции. – Нужно брать „комиссаров“». Но брать их было дело нешуточное – обратились за подмогой к комсомольцам.
Прошло не более часа, как ребята высадились в Белогорье. Начальник разъезда Комаров предложил им свою комнату, мимоходом пояснив:
– Подальше от лихого глаза. – Это было резонно: Кузиных могли предупредить. Ему все же возразили:
– А как же вы? Выходит, как в песне: ходи хата, ходи печь – хозяину негде лечь.
– Мне к поезду выходить. – Старик пожевал бритыми губами. – А вы ложитесь на мою постель, Саня. – Было заметно, что он благоволит Бородкину, но едва ли кто, кроме Алеши и Саши, знал, что Комаров видит в нем не начальника оперативной группы, а друга своего погибшего сына Анатолия. – Ложитесь, Саня, – повторил он свое приглашение, – путь до деревни не близкий, да еще как обернется дело… – И, будто испугавшись, что сделал недоброе пророчество, он тут же вышел.
– Ложись, Саня, в постельку, – очень удачно имитируя медлительный говор старика, сказал Померанец. – И за какие только заслуги тебе такая нега предоставляется? Другие вповалку, а тебе хозяйское ложе…
– Занимай ты ложе, если завидки берут, а мне и с ребятами будет хорошо, – Бородкин опустился на пол, рядом с Булыгой.
– Дурак буду, если откажусь. – Померанец присел на край кровати и стал стягивать валенок. – Мой дед сто четвертый год на свете живет, а я, может, последнюю ночь на земле ночую, да чтобы как попало! Думаешь, меня отсюда скинут, а?
– Да я, если хочешь знать, недостойный внук своего достойного деда, уже спал на этой кровати.
– Спал… – недоверчиво протянул Померанец. – Это в какое же время и при каких погодах?
– Когда из Николаевска приехал, – понизил голос Саня. – Пришлось завернуть сюда с недоброй вестью.
– А ты, видно, Анатолия знал, – догадался Померанец. – Вот был человек… – и, не выпуская из руки снятый валенок, стал рассказывать о гамовском мятеже.
За тонкой перегородкой скрипели половицы. Громыхнуло пустое ведро. Кто-то, хлопнув дверью, вышел на крыльцо. Вдруг дикий, несуразный вой резанул ухо, переходя в нарастающий лязг и скрежет. Станционный домик закачался, будто под ним дрогнула земля. Алеша испуганно приподнялся и сел на полу. На окне, по коленкоровой занавеске плясали причудливые тени. Красные искры упали огненным каскадом откуда-то сверху, и разом все стихло и потемнело. Поезд, не останавливаясь, промелькнул мимо маленького полустанка, отбрасывая считанные версты последнего перегона. Лежавший рядом Бородкин тронул Алешу за руку:
– Подремли, я скажу, когда нужно.
Алеша не ответил и лег, повернувшись спиной к окошку. У стены, прислонившись к ней плечом, сидел Булыга и курил. Огонек папиросы, вспыхивая, освещал его сильно исхудавшее лицо, и Алеша подумал, что курить ему не следовало бы, а одеваться нужно потеплее, но выговорить это вслух не решился и закрыл глаза.
7
…Шли в обход деревни, мерзлым болотом. Булыга, тонкий, голенастый, прыгал с кочки на кочку. Парень здорово пообносился. В облкоме ему исхлопотали какую– то куртку, но он не успел ее получить, только вечером приехав из своего района. В этой операции Булыга мог бы не участвовать, но разве мог он отсиживаться у печки, если пошли «брать бандитов» Бородкин и Нерезов?
– Мерзнешь, Саша? – спросил тихо Петр. Потерпи, скоро станет жарко. – Вместо ответа Булыга ткнул его под ребро. Они оба упали и со смехом покатились по редкой, иссушенной ветрами и заморозками осоке.
– Смерти или живота? – грозно вопросил Нерезов, прижимая к земле вьюном извивающегося Булыгу. – Смерти или… – Но Булыга уже вывернулся и насел сверху, подмяв под себя коренастого, крепко сбитого Петра. Заливаясь смехом, он вполголоса пропел:
– Май кэт, май литл, май пусси кэт… – и потребовал: – а ну пой дальше.
– Поди к черту! – ругнулся Нерезов, пытаясь высвободиться.
– Пусти его, Александр. Ну что вы, право, как маленькие, в деревне всех бы собак всполошили, – с напускным недовольством сказал Бородкин. Он и сам был не прочь побарахтаться, но командирское звание обязывало быть строгим. Как-никак, под началом шестнадцать человек.
Болото кончилось. Узкая тропка вилась у подножий сопок. Она была удобна для ходьбы, только идти приходилось по-китайски, гуськом. Скоро стала видна деревня, протянувшаяся вдоль железнодорожного полотна: две цепочки белых домиков, осененных высокими деревьями, и на широкой площади общественный пожарный сарай. Потом вынырнул из-за поворота дом, стоящий на отшибе. Он стоял на взгорье. Когда подошли ближе, стало видно, как в выходивших во двор занавешенных окнах движутся какие-то тени. Несмотря на поздний час, в доме не спали.
Отряд остановился в густых зарослях, у маленького незамерзающего ключа. Вода журчала в длинном желобе и с тихим звоном падала в каменистое русло. Бородкин кратко повторил план облавы. Дом нужно было оцепить со всех сторон и, по возможности, не стрелять внутри него, так как там могли оказаться женщины и дети. Теперь роли были распределены заново: двое станут в зарослях, у этого вот ручейка, трое поднимутся на сопку, к кладбищу, трое хитростью проникнут в дом, а остальные оцепят его с севера и востока, чтобы лишить братьев-разбойников отступления в деревню, где у них есть родия и немало доброжелателей, готовых и принять, и спрятать «комиссаров». Войти в этот дом дурной славы было рискованно. Саня решил идти сам, выбрав в спутники Булыгу и Алешу. Саша заявил, что он тронут и восхищен. Алеша напомнил, что немного знает Кузиных и это теперь может пригодиться.
– Я тоже Мишку Кузина знавал, – сообщил Померанец. – Только мне не след в эту берлогу соваться: он, падла, бушлат у меня в восемнадцатом стянул и дезертировал в нем.
– Еще подумают, что ты за тем бушлатом явился, и пойдут на абордаж первыми, – засмеялся Саша. – Нет, со славным молодым человеком ты не пойдешь. Постоишь на воле, только гляди в оба.
Померанец наклонился к желобу напиться.
– До чего ж вкусна! – сказал он, вытирая тыльной стороной ладони рот. – Вот она живая вода, а я, дурень, не верил, что на свете есть такая! – и побежал, придерживая ружье, вдоль ручья к задам усадьбы.
Ребята подошли к запертой калитке. Окна дома, вы ходившие в улицу, были на ставнях, с болтами…
– Я перелезу и отопру, – сказал Алеша.
Нет, так не годится. – Саня стукнул прикладом в крайнее окошко. Никто не отозвался. Он постучал сильнее.
– Кто? – послышался негромкий женский голос. – Кого там принесло?
– Откройте, люди добрые. Заблудились мы.
– А много ли вас? – настороженно спросила женщина.
– Да всего трое, отбились от своих.
– Вы кто такие будете? – спросила женщина, с кем-то посовещавшись.
– Да как вам сказать? Выйдите да поглядите, только не испугайтесь горе-охотников. Мы с оружием, а народ-то, в общем, мирный!
– Чудно, право, – произнесла она в замешательстве. – Шли бы в деревню, что ли. У нас и так тесно. Да и ребятенки малые, приболели.
– А мы ночевать и не просимся, – смиренно заверил Бородкин. – Нам бы чуток обогреться.
В доме опять посовещались, потом уже мужской голос грубовато-беспечно обнадежил:
– Счас открою. – Однако отпирать не спешили. Внутри дома что-то скрипнуло, зазвенело, грохнуло, будто упала тяжелая западня. Потом хлопнула избяная дверь и как-то нехотя приоткрылась на застекленной веранде другая. В проем высунулась круглая голова с падающими на лоб прямыми волосами, и квадратный парень, в рубахе распояской, шагнув через порог, не спеша направился к калитке, с напускным добродушием ворча:
– Носит вас, полуночников, людям спать не даете.
– Припозднились, это верно, – поспешил согласиться с ним Саня, – с дороги сбились, а ребята у меня хлипко одеты. Насквозь пробрало. Ну и запирушек у вас, – удивился он, стремясь излишней болтовней не оставить места для расспросов.
– На отшибе живем. Всякий народ округ шатается, – пояснил парень, водворяя на место замысловатый запор. Двор был опрятен. На крыльце лежала соломенная циновка.
– Отколь бредете-то? Впереди деревня, позади тайга, полустанок сбоку, опять же сходят с поезда и у моста… – Парень не спешил с приглашением войти. Он в чем-то усомнился и, казалось, не прочь был отправить их обратно, но тут вмешался Алеша:
– Мы думали в Беркутовом Гнезде обосноваться и поохотничать, в городе, сам знаешь, голодно.
– Ну и что же?
– Куда… полный разор. Вроде бы к знакомому попали, а не признаю, кто.
– И я тебя будто где-то видел. – Лицо парня расплылось в улыбке. – Знакомый лик будто сквозь воду проступает.
– Пошли-поехали… – поощрил Булыга. – Далее в лес – более дров. В избе не разобрались, бы, да ты что– то не больно привечаешь?
Парень промолчал, так старательно возясь с дверным засовом, что невольно припомнились пророческие слова на воротах дантовского ада: «Оставь надежду навсегда». Дверь, обитая войлоком, наконец распахнулась.
Резанул глаза свет приспущенной над столом лампы– молнии. У стола сидели два рослых парня, перед ними были раскинуты карты. Они вскочили, как по уговору, вопросительно глядя на вновь пришедших. Кутаясь в теплую вязаную шаль, в дверях, ведущих во внутренние комнаты, появилась плотная, немолодая женщина. Лицо у нее было нахмуренное, губы недобро кривились. Она не ответила на приветствие и всем своим видом напоминала наседку, готовую грудью защищать своих птенцов.
– Тетка Марфа, – шагнул к ней Алеша. – Вот довелось встретиться. Да вы ничуть не изменились, а ведь столько лет прошло, как мы в соседях жили!
– А ты кто таков будешь? – спросила, не изъявляя особенной радости, женщина. – Постой, уж не Гертманов ли ты меньшой? Так и есть! Ну, не больно же ты, парень, возрос, а мои-то молодцы вон какие вымахали! – Сказано это было горделиво, с вызовом и плохо скрытой насмешкой.
– Да уж что говорить! Лесные жители – медвежатники, нам, городским, до них… – начал было Булыга.
– Садитесь, в ногах правды нет, – бесцеремонно перебила его Марфа. Она вышла на кухню и села на лавку, поджимая под цветастую юбку ноги в шерстяных чулках. – Мать-то как? – обратилась она к Алеше. – Померла?! Вот и мой тоже померши; а ведь какой был дубина! Правой рукой у старого Беркутова был. Ото люди были!
Алеша сочувственно поддакивал, охотно отвечал на расспросы и все же расположил ее в свою пользу, правильно назвав сыновей. Тот, что впустил их, был средний – Ванька, рябоватый и широкий в кости двадцатилетний парень. Старший, Мишка, был жилистый, канатно-крепкий, с узким, медно-красным лицом. Младший, Федька, выгодно отличался от того и другого. Такой, наверное, была и Марфа в восемнадцать лет, когда не спускались от крыльев носа жесткие борозды и глаза сияли мягко, а не жгли сухим настороженным огнем. Братья за столом переглядывались, перешептывались. Мать, не дослушав Алешу, стала жалобиться на плохие времена:
– Ни тебе сахару, ни тебе чаю, ни тебе керосину…
– И не говорите, – поддержал беседу Бородкин. – Но все это временное. Вот прогоним беляков из Приморья…
– Да это бабушка надвое сказала. Беркутов молодший забегал, да… – Перехватив укоризненный взгляд одного из сыновей, Марфа осеклась и поджала губы.
– Это Донька, что ли? – обрадовался Алеша. – Он, что же, вернулся с той стороны?
Баба будто не слышала вопроса. Заныла, что некуда пристроить сыновей: по крестьянству не привыкши, а в городе чистой работы нет.
– С работой теперь, действительно, трудновато, – подтвердил Булыга, – но если, так сказать, в руках есть ремесло, то это дело в скором времени поправимое.
– Рукомесла у моих ребят нету, – вздохнула Марфа. – Отец до управляющего «бегами и скачками» произошел: сыты, одеты, обуты были. Росли, как жеребятки на воле, веселые. Помер сам, Михайла в приказчики к Платонову поступил. Ванятку туда ж метили. А тут заваруха началась. Мишку во флот забрали, а какой из него флотский? Вот в деревню обратно и подались… Проживаемся тута…
Федька засмеялся, ямочки на щеках проступили резче. Мать покачала головой.
– Ему все смешки, а у меня на руках еще четверо. Да и то сказать, сидит, будто красна девка на выданье: и за холодну воду не брался. А те у меня мал мала меньше, хошь ложись и помирай.
И, будто в ответ на ее слова, в подполье кто-то зашелся глухим, надрывным кашлем. Парни задвигали табуретками, загалдели, мать опять понесла околесицу: про петуха, вон как горла дерет, про поздний час, про керосин, что не ко времени жжется.
– И то, загостевались мы, – поддержал ее Булыга. – Хозяевам покой нужен. – И шагнул к двери.
– Ку-уда?! – вскочили и завопили парни.
– Я сейчас, может, ребята наши подошли.
– Каки-таки ребята? – всполошилась и Марфа.
– Свистни там, – сказал Саня. – Время трогать.
– Шли бы вы в одну дверь. – Грудь Марфы заколыхалась. – В избу больше никого не велю пускать. Настудят, а у меня детишки малые.
Алеша и Саня не шелохнулись. Саша вышел на веранду, за ним посунулись Мишка и Ванька.
– Ты слышал? Мать верно сказала: в избу больше никому ходу не будет, – сказал Ванька.
– А вы хоть до утра оставайтесь, – позолотил пилюлю Мишка.
– Будем, так сказать, смотреть. – Булыга, как под конвоем, спустился по ступенькам, подошел к калитке, потрогал затвор: – Мудреная штука! А ну откройте, я на волю гляну, – он присвистнул.
Ванька нехотя повиновался. Мишка отпихнул Булыгу и высунулся наружу, и тут случилось невероятное: его тотчас же схватили чьи-то руки. Ванька завизжал:
– Я те посвищу, – и, оттолкнув Булыгу, кинулся в избу. Дверь захлопнулась, и тотчас же в доме послышался отчаянный грохот. В одно из запертых окон били изнутри чем-то тяжелым, неслись какие-то вопли.
Булыга, Нерезов и другие ребята стояли растерянные; бегство Ваньки наделало бед: в начавшейся баталии Алеше и Сане могло несдобровать. Ни в чьи расчеты не входило оставить их в ловушке. Мишка, лежа на земле со связанными руками и ногами, в бессильной ярости грозился:
– Вы еще, лягвы, попляшете! Вас, как путных, пустили, обогрели, а вы на хозяев нападать, хунхузье латаное! Живого человека морозить, за это вам отломится, не старый прижим! – Ему и в самом деле было холодно. Он вышел в одной рубахе, но что можно было предпринять, если в доме стоял такой рев, будто там рухнула кровля, расплющив все, а оно оставалось еще живое, стонущее. Наконец они различили в шуме-гаме голос Бородкина и кинулись к окну.
– Сань, мы здесь! Мы…
– Тащите болт, – кричал Саня. – бо-о-лт! – Звенели стекла. Дрожал ставень. Слышались чьи-то всхлипывания. Мишка катался по земле, пытаясь ослабить свои путы и подливая масла в огонь отборными ругательствами. Наконец вытащили тяжелый болт и распахнули створки ставней. Цепляя ногами бумажные полосы и вату, – рамы были выбиты и лежали на полу, – в оконный проем выскочил Саня, за ним Алеша. Вслед им несся свист и улюлюканье младших отпрысков этой малопочтенной семьи.
Оказалось, что Ванька влетел в дом с боевым кличем: «Бей головастиков!» – И в тот же миг из подполья полезла какая-то шушера. Увидя явное превосходство сил противника, Алеша и Саня отступили в маленькую залу, оттуда в спальню и забаррикадировали дверь комодом, после чего Алеша отбивал яростную атаку мальчишек, которым мать подавала из-за двери команду: смять врага и немедленно впустить ее, а Саня громил окно, чтобы вырваться из плена. Младшие Кузины дрались самозабвенно, пускали в ход и зубы, и ногти, и ноги и вдобавок выли от обиды и злости.
Странным казалось полное невмешательство Ваньки и Федьки. Но вскоре разъяснилось и это: на болоте, отделявшем усадьбу от деревни, разгорелась яростная перестрелка. Большаки Кузины вместе с отсиживавшимися в подполье гостями бежали через распахнутое кухонное окно. Ребята, слишком поздно обнаружившие этот маневр, бросились на подмогу своим, поручив Алеше опекать связанного Мишку. Мишка, щелкая зубами, запросил пардона: какую ни на есть одежонку. Алеша сообщил в окно о состоянии старшого, и оттуда полетели тулуп и шапка-ушанка, после чего оконный проем стали заделывать изнутри одеялами и узлами.
Закутанный в тулуп (просунуть в рукава связанные руки было нельзя) Мишка был усажен на скамейку у ворот и, еще не оттаяв, стал сулить Алеше золотые горы, если тот его развяжет и отпустит. Алеша в свою очередь попытался выяснить взаимоотношения Кузиных с Донатом, но Мишка сразу же скис и замолчал.
– Отпусти, – заныл он через минуту. – Развяжи руки. Я через сопки уйду, скажешь – мне подсобили. Хочешь, я тебе руки для близиру свяжу? Молчишь? Ведь я тебя мальчонком знал, в ремешки играл ты вместях с братьями на беркутовском подворье, помнишь?
– Начисто забыл, – ответил Алеша. – Буду помнить теперь, как мать твоя подполье открыла, а оттуда бандюги с ножами лезут.
– А вы не бандюги, нападать на мирных жителев?
– Да вы разве мирные? У вас и ребятишки за здорово живешь горло перегрызть могут.
– И перегрызут! Вы имя прикрылися, а то наши жжахнули бы гранатой – и ваших нет! Опосля разбирайся, кто на кого напал и все такое прочее.
Привели со связанными руками Ваньку и Федьку, потом еще двух каких-то типов, пойманных на болоте у самой деревни. Всей ватагой ввалились в кухню. Дверь была уже отперта. Марфа, увидев сыновей, запричитала:
– И что это на свете деется, не пойму: пришли, напали, окна побили, дитенков перепужали, хозяев повязали. Я жалиться стану, до самых главных комиссаров дойду…
И тут принесли Померанца. На высоком лбу – красная звездочка от револьверной пули. И хотя не было сомнений в его смерти, Алеша расстегнул ворот рубахи боцмана и приложил ухо к его груди. Она была холодной и безмолвной, и даже русалка, резвившаяся в ее золотистой поросли, как-то съежилась и потемнела.
– Кто это его? – полюбопытствовала Марфа.
– Твой, – ответил Саня. – Вот этот, – указал он на Федьку.
– Феденька, да рази ж так можно? – притворно разжалобилась Кузиха. – Несмышленое ты дитя, что теперь с тобой исделают! – «Несмышленое дитя» усмехнулось криво, уставилось глазами в пол. В дверях залы толпились другие несмышленыши, взъерошенные и торжествующие, что у Алеши в кровь расцарапаны ими руки.
Пришлось Марфе накинуть шубейку и вести Саню и Сашу к местной власти. Мужик спросонок долго не мог понять, чего от него хотят. Кузиха плакала и причитала, что на ее дом учинили нападение вот эти вот самые, а те, на кого она указывала, твердили, что нужны понятые, что все случившееся найдет отражение в акте, а бандиты, которые ими изловлены, получат по заслугам.
Сельсоветчик наконец оделся, расправил бороду, прихватил печать и, наказав Марфе, кого звать в понятые, напрямик, через болото, направился в дом своей односельчанки. Оказалось, что намерзшиеся ребята догадались растопить печку и даже нагребли в подполье чугунок картошки и поставили на огонь. А в подполье том обнаружили тайничок, в котором были и. винтовки, и гранаты и который бандиты впопыхах оставили открытым.
Снова, вместе с понятыми, полезли в подполье. Оно было отделано на славу: с нарами, которые предназначались вовсе не для хранения овощей. Но самое страшное открытие было сделано во дворе, в пустующей стайке. Прислоненный к стене и прикрытый японскими циновками, стоял замороженный труп молодого парня. Стоял он, видимо, уже давно. Кузиным было недосуг или лень отвезти его и спустить на Зее в прорубь.
– Ново-троицкий, – тихо ахнул один из понятых и потянул с головы шапку.
– Племяш мой, Сережка, – простонал другой. – Да как же он напоролся на них? А мы-то думали, он в городу на электростанции монтерит. Писем матери долго не шлет, дак это, мол, ничего, не беда, а оно, вишь, какое дело… – Из глаз катились слезы. Задрожали руки и у сельсоветчика. Ребята неотрывно смотрели на убитого. Это был их сверстник, невысокий, темноволосый, с милым, чуть скуластым лицом.
Все время, пока производился обыск, писался протокол, Марфа снаряжала в путь сыновей: складывала в узелки чистое белье, совала то кусок мыла, то банную мочалку, то теплые носки, кормила их жареной утятиной и жалостливо вздыхала и причитала о беззаконии, о том, как легко обидеть бедную вдову.
– Змея ты, Марфа, – не утерпел дядя убитого. – Змеища подколодная, и сыны в тебя пошли. Свалить твой змеиный выводок на болоте в кучу, облить керосином да поджечь! Такого пария загубили… Дорогу он твоим перешел?! Скажи за ради бога, в чем тут дело?!
– Не ведаю, о чем пытаешь, – поджала губы Кузиха. – Мало ль кого могли к нам в стайку подкинуть. Их ведь эвон сколько навалилось, разве за каждым углядишь?
Это неслыханное бесстыдство лишило людей дара речи. А в кухонные окна уже заглядывало солнце, предвещая трудный и радостный для всех живущих день.
8
Амурский облком РКСМ принял решение поручить Александру Булыге район от станции Ерофей Павлович до Нерчинска, не подозревая о том, что это в корне изменит его дальнейшую судьбу.
Славная спутница Саши в его поездке из Владивостока в Благовещенск, Тамара Головнина, не поехала учиться в Москву. В Благовещенске она получила назначение в политотдел 2-й Амурской дивизии и отбыла на Забайкальский фронт. На этом же фронте был со своей стрелковой бригадой и второй спутник Саши, его двоюродный брат Игорь Сибирцев. Узнав о сожжении японцами старшего брата Всеволода и его боевых соратников Сергея Лазо и Алексея Луцкого, Игорь мужественно перенес утрату. Но когда ему предложили ехать в Москву учиться в Военной Академии, он ответил:
– Я не поеду на запад, пока на нашем Дальнем Востоке будет оставаться хотя бы один японец!
Саша тоже рвался на фронт, но он был моложе Игоря и Тамары, уступчивее, мягче… Однако первая же поездка в Нерчинск привела его не только к неожиданным открытиям и встречам, но и к решениям.
Раскрылась тайна пассажиров, севших на «Чайну» под Сунгарийским мостом. Младший из них – Буров – был теперь начальником штаба фронта. Бондарев командовал 2-ой головной бригадой. Политработником оказался скромный «кооператор» Павел Морозов – он же Борис Жданов. Но больше всего взволновала Булыгу встреча в пути с Тамарой. Девушка восторженно рассказывала о людях, которые ее теперь окружали.
Потом, когда они уже расстались, Саша смотрел на мелькавшие за окном чуть притрушенные снегом сопки и, морща лоб, что-то мучительно припоминал.
«Есть время собирать камни, есть время и бросать их», – пришли ему вдруг на память слова древнего Екклезиаста. Сумрачные глаза Булыги посветлели. Да, это время для него уже наступило.
Приползший поздним вечером поезд, пыхтя, остановился у Благовещенского вокзала. Булыга вошел в зал ожидания, глянул мельком на своих недавних попутчиков, поудобнее устраивавшихся на жестких диванах, чтобы скоротать здесь ночь, и направился к выходу в город.
– Эй, парень, – неслось ему вдогонку, – на улицах-то шалят ночами!
Тронув в кармане наган, он весело отшутился:






