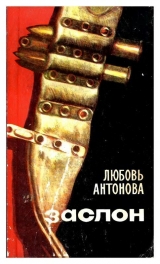
Текст книги "Заслон (Роман)"
Автор книги: Любовь Антонова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 25 страниц)
Чувство гадливости, будто шею его обвила скользкая змея и пытливо заглянула в глаза, возникшее при разговоре с Лебедевым, уже не оставляло Алешу. К этому примешивалось еще чувство полнейшего одиночества и неприкаянности, но его не тянуло к людям. Он, в полном смысле этого слова, «больше одного не собирался», если не принимать в расчет молчаливого и насупленного Кольку.
В ту бесконечно долгую зиму он хватался за любую работу. Пусть постыдно унизительную, никчемную, выматывающую без остатка, но все же работу, работу, заставляющую забывать о гнусных соблазнах подполковника Лебедева, свирепствовавшего в своем тепло натопленном застенке. И вся эта окружающая приглушенная, приземленная жизнь отупляла, засасывала, и порой ему казалось, что он не живет, а судорожно барахтается, чтобы удержаться на поверхности, не упасть и не увлечь за собою Кольку, которого в свой последний, смертный час доверила ему мама.
После нового года его начала мучить хотя и куриная, но совсем как всамделишная слепота. Он опасался выходить вечером на улицу, стал глухо покашливать, и даже Колька понимал, что старшему брату нужно серьезно лечиться, но денег на докторов у них не водилось, да и на лекарства тоже.
Весною их, попросту говоря, спас зеленый лук-батун, а позднее, когда уже очистилась ото льда Зея, дикий лук и щавель, в изобилии лезшие на свет божий на лугах. А когда появились первые немудреные ягоды, прояснились и зрение, и мысли; повестка, призывавшая явиться на сборный пункт, уже не испугала. И пошел, уверенный, что его оставят, признав непригодным.
И когда усатый доктор щупал и мял холодными пальцами его обглоданное постоянным недоеданием тело и недовольно хмыкал, его уверенность все возрастала, и он дышал все спокойнее и ровнее. А доктор вдруг ткнул его в грудь всей растопыренной пятерней и вопреки здравому смыслу, бросив «годен», вразвалку направился к жестяному умывальнику и с видом исполненного долга стал тщательнейшим образом мыть свои волосатые руки.
Уже потом, когда Алеша ответил на все заданные ему вопросы, до него дошел смысл этого «годен». И он понял, что и на самом деле годен для того, чтобы его убили, и годен для того, чтобы убивать самому, а больше от него ничего и не требовалось. И поскольку он был для всего этого еще годен, то доктор, в конце концов, оказался прав, рекомендуя его не жизни, а смерти.
И затем, в черный-черный день, когда вопреки предсмертному желанию мамы, ему пришлось оставить на произвол судьбы Кольку, он познал минутное успокоение, услышав, что в ближайшее время его не пошлют на фронт, ни на Читинский, ни на Восточный, а станут еще чему-то учить и для этого отправят под Владивосток, на какой-то Русский остров.
14
На Русском острове Алеше сказали, что он будет со временем артиллеристом. Он учился там сложному искусству наводки и прицельного огня и даже, как ему говорили, делал успехи, но ни днем ни ночью его не оставляла страшная, в своей обнаженности, мысль:
«Когда ты овладеешь мастерством убивать себе подобных, ты повернешь свое смертоносное орудие в сторону братьев: сначала ты убьешь, по-старшинству, Федора, потом Евгения, и если гражданская война затянется, то не миновать той же участи и Кольке». Он чувствовал, как на голове начинают шевелиться волосы, и видел убитыми и Марка, и даже Шуру и безжалостно заключал: «Да, так и будет – сначала погибнут братья по крови, а потом братья по духу, и останешься ты на земле выжженной и бесплодной, одинокий, как волк, потому что люди, с которыми ты делишь казарму и ешь из одного котла, чужие тебе и ты им чужой, хотя, быть может, их терзают те же думы, что и тебя».
О эти думы! Они могли свести с ума, но высказать их вслух было еще опаснее. Случалось, что люди, делившиеся своими мыслями, исчезали бесследно. Нет, лучше было молчать, всегда молчать и только молчать… И люди молчали, не доверяя друг другу, мрачнели и даже было два или три, точно никто не знал, случая самоубийства. А ведь их сытно и вкусно кормили и давали возможность развлекаться в шумном портовом городе, слывшем, с некоторых пор, уже международным. В этом городе, к услугам военных, были чайные домики, в чисто японском вкусе, и китайские притоны-опиекурильни, на стяжавшей себе дурную славу Миллионке, и комфортабельные, с налетом немецкой семейственности, дома свиданий и полубезмолвные, с мягким приглушенным светом, игорные казино, и сверкающие в ночи, как маяки порока, шумные кафе-шантаны, с раззолоченных эстрад которых увеселяли публику томные французские этуали и яркие, огненные латиноамериканки.
Все это имелось в изобилии и все это продавалось и покупалось, были бы деньги. И деньги тоже были, в этом многоязычном Вавилоне они легко доставались и также легко проскальзывали меж пальцев. Но хотя Алеша, вопреки своей натуре, долго копил эти самые деньги и, пожалуй, еще дольше вынашивал план бегства, все же осуществилось оно с завидной легкостью. Хотя он часто потом задавал себе вопрос, что ожидало бы его в незнакомом городе, не повстречайся ему Саня Бородкин и не уверуй они друг в друга с первого же взгляда?
Да, Саня в него поверил, и этого было достаточно: ни тени подозрительности не мелькнуло и у принявших его в свою среду друзей Сани. Но сейчас, когда он вернулся в родные края, ему, кажется, не доверял даже Померанец. Во всяком случае, матросская душа не была распахнута, как прежде, а скорее застегнута на все крючки и пуговицы, как бушлат в глухую осеннюю пору. И вот однажды ночью, когда им обоим не спалось, а на беззащитную «Комету» обрушился многочасовой, прямо тропический ливень, Алешу вдруг прорвало:
– Лучше бы я не возвращался, – с горечью сказал он в темноту, – всем здесь чужой, и каждый вправе упрекнуть: отсиделся, мол, в стороне, а то и похуже скажут: «с красными тебе было не по пути, а вот с белыми быстренько договорился».
– Не скажут, – мрачно обнадежил его Померанец, и только тут до него дошло, что Алеша расспрашивал его не из пустого любопытства и как больно он переживает, что в самое решающее для родной области время был где-то на отшибе и не внес в ее борьбу за освобождение от интервентов хотя бы самую скромную лепту.
– Не скажут, – повторил Померанец и пересел на Алешину койку. Он помолчал и заговорил глухо: – С Евгением мы… ну, да ты сам знаешь… но и Федя не подкачал, он, как Уссурийский фронт белые разгромили, в Забайкалье подался и там семеновцев бил нещадно. Все вы, Гертманы, правильные ребята, и никому в голову не придет считать тебя обсевком в поле. Никому… А если я когда на твой вопрос и смолчал, так не от недоверия то шло, а боялся я лишний раз бередить и свою, да и твою, хлопец, душу.
Он закурил, помолчал и заговорил глухо:
– Я не был в том деле, когда поганые япошки наших ребят под Суражевкой побили. Там, понимаешь, такое дело произошло: наш Амурский Совнарком дал указание тот Суражевский мост подорвать, оставить только проход, чтобы наши суда проскочить смогли, а председатель поселкового Совета, в общем-то и толковый мужик и свой, свой в доску, пожалел того моста. Батька его тот мост строил, дядья, а может, и сам руку приложил, шут его знает… Пожалел и все. А японцы прорвались к тому мосту с линии дороги, опередили, значит, наших и приспособили его… Да это же ужасть, что было! Нагнали на мост, значит, бронепоездов, а на них понавалено всякого якова: тут тебе и спаренные вагонные колеса, и битый кирпич, и пироксилиновые шашки… Вот они этим всем и встретили наш караван судов. То, что за Белогорским мостом произошло, так это шуточки и цветочки: обстреляли два парохода и сами ушли на подбитой канлодке и кого повезли, живых али мертвых, незнаемо-негадаемо и по сей день. А там, в караване-то, ого-го сколько пароходов было и шестнадцать груженых барж в придачу. Шутишь? Там, на одном или двух пароходах, золото везли, рассыпное и в слитках. Там, может, у Зеи дно с тех пор золотое, да не о нем сейчас речь. Что там золото? Придет время, его сыщут и поднимут, и заиграет оно, заискрится на нашем солнышке жарком. А людей не поднять, живу душу в них не вдунуть, кровь горячую, от которой голубая зейская волна и потеплела и поголубела, в жилочки им обратно не влить, сердцам молодецким вновь не забиться… То ж дружки наши, с Евгением, были, товаришки наши… Мы с ними, помнишь, на Зее рыбу глушили. Мы с ними в гамовское вместях, плечо к плечу шли, власть народную отбивали от шатии белой. А тут их самих… и кто – чуж-чуженины узкоглазые! Думу думаешь об этом – вся кровь вскипает… а и сам я покалеченный, на ненастную погоду нога ноет и ноет… Так-то на погоду, а сердце, веришь, и при солнце и при луне, и в такую вот мокреть болит. О них вот всех без времени погибших и не полностью отомщенных.
Я тебе как на духу признаюсь: дивчина у меня была. Такая… Душу она у меня выпила своими зелеными глазами. Я, бывало, не ходил, а летал. День, бывало, как птаха звонкой песней встречал. Так вот ее, ту дивчину, японцы… Э, да что теперь душу бередить… Куда пойдешь – кому скажешь? Завоеватели… Они на штык детей поднимали, они детных матерей им к земле прикалывали. А дивчина им что? Так, забава: мусмэ… мусмэ… позабавлялись, столкнули в яму и землей присыпали. Земля шевелится, а им смешки… Вот так это было.
Я их под Виноградовкой бил, под Чудиново бил, бил на Малой Пере и в Бочкарево. И ни одна пуля меня не задела, понимаешь, ни одна. Всей Антанте не понять, как амурские большевики в ту зиму развернулись, тут такая стратегия и тактика была, почитай, Академия Генерального штаба. Уж так мы в ту зиму повывчились, так все превзошли, что на полгода вперед все предвидели и видели…
Ливень постепенно шел на убыль. Померанец вдруг спохватился, что Алеше утром заступать на вахту, оборвал свой сбивчивый рассказ, перекочевал обратно на остывшую уже койку и сразу же затих. Но Алеша долго еще не мог заснуть, все раздумывал о только что услышанном и жалел, что так и не узнал ничего об отряде Георгия Бондаренко, в котором был потом бравый Померанец. А тот уже, успокоившийся и умиротворенный, всхрапывал во сне, и Алеше ничего не оставалось, как последовать его примеру.
«Комета» возила мелкие грузы и случайных пассажиров до Свободного и через некоторое время снова направилась в Норский Склад с грузом муки и рыбы. Но веселья что-то не получалось, если не считать, что в Чертовом Огороде едва не сели на мель. Зато в Норском Алешу встретил на берегу Нерезов, назначенный, по указанию Амурского облревкома, комендантом этого важнейшего эвакуационного пункта.
Алеша рассказал Петру, как встревожились в облревкоме, узнав от него о намерениях Тряпицына создать «Свободненскую республику». Нерезов слушал его с интересом, но вдруг потер виски и без всякой связи сказал:
– За своих «мушкетеров» тревожусь. В Приморье мы оставили д’Артаньяна, а если еще и эти… Там в Керби такое творится!
15
Шура Рудых и Макар Королев – его все привыкли называть Марком – обрадовались Алеше, пожалуй, больше, чем Колька. Им было что порассказать друг другу. Марк партизанил. Шура оставался в городе и через семью Шафиров был связан с подпольем. Впрочем, ответы на многочисленные вопросы Алеши получались убийственно однообразными, какую бы он ни назвал знакомую фамилию, в ответ слышалось: убит… убит… убит… Убиты и все те, кого они вызволили в гамовское восстание из тюрьмы. Тело застреленного японцами Мухина было выставлено в морге городской больницы для всеобщего обозрения. Мучительной и страшной была смерть бывшего комиссара земледелия Сергея Полуэктовича Шумилова, с которым Алеша и Шура работали на изысканиях в Хинганской тайге. Не было в живых многих веселых матросов, политехников и простой, знакомой ребятни. Но город, казалось, уже забывал свои увечья. Новые люди пришли на смену павшим, Вениамин Гамберг, вскоре после того как в город вошли красные, объединил молодежь в Амурский Юношеский Союз. Марк и Шура были членами этого союза, вступил в него и Алеша.
Драпали из Благовещенска буржуи. Ребятам из комфракции Союза Молодежи поручили описывать и охранять брошенное имущество и особняки. Смущаясь и дивясь, бродили они по комнатам, носившим следы поспешного бегства. Так попали они и в рифмановский дом.
Алеше было просто противно прикасаться руками ко всему этому великолепию, пропахшей нафталином одежде, к пышным пуховикам.
В немом восхищении застыли ребята в кабинете. Их прельстили не книги в дорогих переплетах, не огромный стол, на котором, казалось, можно было устраивать сражения, а развешанное над кожаным диваном, на черно-красном персидском ковре, оружие.
– Глядите-ка, кинжал в серебряных ножнах, с насечкой! Мне бы такой. Повесил бы на пояс…
– Девчата бы за тобой гужом… Лафа!.
– Тю на тебя, кинжал… У полковника Рифмана сабля, говорят, была золотая, жалованная самим Ренненкампфом!
– А вот эта штука, – неуверенно говорит тощий парень в стоптанных солдатских ботиках, – называется ятаганом. Турецкий ятаган…
– Ой, гадство! Он здесь здорово почистил! Видите, на ковре пустые места? Видно, и саблю золотую за Амур уволок!
– Давайте перепишем все скорее и айда отсюда. Ленька Люцифер, пиши: ятаган, значит, турецкий…
И Люцифер – белобрысый, с оспинами на лице, сутуловатый юнец, присвоивший из озорства такую устрашающую фамилию, – старательно выводит в тетрадке: «Ятаган турецкий. Два револьвера (системы „Маузер“ и „Браунинг“) без патронов. Кинжал кавказский, в ножнах, и охотничье ружье, марки…»
Ребята переписывают мебель и ковры. Серебряный чернильный прибор и канделябры, разношенные шлепанцы и лакированную трость вносят в список, даже зонтик.
А от этой комнаты веет чем-то знакомым, хотя ни у кого из них не было детской. Конечно же, здесь жил мальчишка! Закапанный чернилами стол с изрезанными перочинным ножиком краями – вот что напоминает им собственное детство, а не репродукция с «Мадонны» Рафаэля, висевшая у изголовья узкой койки, и не аквариум с плавающими вверх брюшком мертвыми золотыми рыбками.
– Сашкино логово, братцы. Спартанское воспитаньице, а?!
– Ты его знал, что ли?
– Морду бил. На семинарском мостике. И к тому же двукратно!
– Ты ему или он тебе?
– Платили взаимностью. Я ему больше, он мне поменьше.
– А злющий же он был, ребята! И череп, как цыган.
– Копченый-то? Говорят, он у белых выслуживается! Эх, попадись он мне…
– В гамовское не попался, а теперь попадется! Держи карман шире. Они теперь в Амурскую область ни ногой.
– Кто зна… Пошевеливайся, Ленька: тут и писать– то нечего, одна шелуха!
В столовой во всю стену резной, как алтарь, буфет. А чашки в нем малюсенькие и хрупкие, такие, что лучше к ним и не прикасаться. Под лампой на столе альбомы: черные японские лаки с инкрустациями из перламутра, коричневая кожа, вишневый бархат… Алеша заглянул в тот, где в овале на темных корках наклеен снимок! смеющегося мальчугана, верхом на узкомордой борзой. Так вот как блистательно, оказывается, входят в жизнь полковничьи дети! Чуть ли не каждый их шаг запечатлен услужливым объективом фотоаппарата.
Мальчишка лежит на кружевной подушке голый. Мальчишка в штанишках ест малину. Мальчишка качается на качелях. Мальчишка учит уроки, целует ручку дамы, делает гимнастику. Мальчишка хмурится. Мальчишка плачет. Но чаще, гораздо чаще, он смеется. Смеется с ранцем за плечами, смеется с ружьем в руках и болтающейся на поясе убитой птицей, смеется в обнимку с друзьями. Их лица знакомы Алеше. Он вгляделся: да, ошибки быть не может, один из этих друзей – Венька Гамберг! А на обороте такая странная надпись. Ой, как нехорошо! И, не раздумывая больше, он взял фотографию и спрятал ее в карман.
16
Обычно тихого поселка Керби было теперь не узнать. Над полноводной Амгунью впритык лепились шалаши, к ним жались пестрые палатки из толстых шалей и лоскутных одеял. Дымили костры, над ними булькало в котелках варево. Переругивались женщины. Хныкали ребятишки. Умильно заглядывая в глаза, выпрашивали подачку пушистые лайки.
Только что подошел шатавшийся где-то по тайге отряд Вольного. Рослые, пропеченные солнцем парни проваживали тощих копей. Кашевар полоскал в ведерке пшено для кулеша. Его подручные рушили для костра чей-то плетень. Гармонист, привалившись спиной к облупленной березе, нехотя наигрывал «Подгорную». Две-три беженки, не отходя от своих временных жилищ, визгливо на весь лагерь вопрошали:
– Да иде же он есть, тот Тряпицын? Ждем-пождем, все жданки прождали.
Вольный – коренастый крепыш, несмотря на жару, обтянутый, как панцирем, кожаными штанами и курткой, – хлопая по сапогу плетеной нагайкой, удивился:
– Вот те и раз! Да неужто его все нету?!
– Разуй глазыньки да погляди! Школа котору неделю пустая стоит, того штаба дожидается. А мы тут с дитенками, как тая скотиняка!
Вольный не стал больше слушать. Все так же похлопывая по начищенному сапогу нагайкой, он не спеша направился к школе. Саня Бородкин преградил ему путь:
– Не пустого любопытства ради спрашивают. Где может быть Тряпицын?
– А леший его ведает! Ты бы взял человек с пяток да в розыск. А, как ты на это смотришь?
– Куда и на чем?
– Часть моих хлопцев на моторе подъехала. Больные там, амуниция, имущество, одним словом.
– А медикаменты там есть? – думая о своем, спросил Саня.
Анархист замялся, заморгал короткими, выгоревшими ресницами:
– Во, во!.. Целая аптека: капельки разные, спирт…
Забитая грузом «Анна» стояла в протоке. Прежде чем убрали сходни, люди Вольного сволокли на берег ящики с бутылями и спрятали в кустах. Проводив буксир, анархист вернулся к отряду. Скинув рубахи, уселись ужинать прямо на земле.
Кулеш получился наваристый. В нем попадалась и добытая неведомыми путями поросятина, и куриная ножка. Неразведенный спирт хлестали из эмалированных кружек, вкруговую. Поев, попив, стали забавляться песнями.
Пели про объятого думой Ермака, про расписные Стеньки Разина челны и калинушку. Охрипнув, полезли в Амгунь купаться.
В черной воде дробились звезды. Их ловили руками. Хватали друг друга за волосатые ноги, в шутку топили. Свист, хохот и отборная матерщина не умолкали до зари. Утром троих недосчитались, – видно, утопли спьяну – горевать не стали, даже посмеялись: «Поехали разгораживать заезки». Веселье шло и весь следующий день. К вечеру надумали идти на радиостанцию, объявлять Японии войну.
Начальник радиостанции Тихомиров встретил незваных гостей сурово. Велел идти проспаться: «Дурь тогда сама из головы уйдет». Его взяли за грудки. Тихомириха, женщина спокойная, рассудительная – в Керби ее все любили как опытную акушерку – бросилась с ухватом вызволять мужа. Ее сбили с ног, заломили руки. Оглушив начальника радиостанции, его вместе с истерзанной женой бросили в реку. Они сразу же пошли ко дну. Пьяный разгул продолжался.
«Анна» поднялась по Амгуни верст на полтораста. Заходили в тунгусские стойбища и русские деревни. Всюду был один ответ: «Тряпицына видом не видывали, слыхом не слыхивали». Пришлось вернуться в Керби ни с чем.
Отряд Вольного бесчинствовал по-прежнему. Отбирали у жителей одежду, обменивали лошадей. Вваливались в балаганы и сараюшки – приставали к женщинам. Беженки слезно молили Бородкина избавить их от опасного соседства. Отправить женщин не представлялось возможным. Вольный со своим отрядом уходить из Керби не собирался. Опухший от беспробудного пьянства, тупо соображая, он требовал беспрекословного подчинения. Избегая с ним открытой ссоры, Саня и Гриша вылавливали в живом человеческом потоке ребят из Социалистического Союза Молодежи и пытались наладить охрану лагеря. И они предотвратили много горя и слез, эти первые народные дружины.
В эти дни вынужденного и тревожного безделья молодые горожане самозабвенно полюбили приамгуньскую тайгу. Она начиналась сразу же за береговой полосой. Кудрявились плакучие ивы. Теснились густо заплетенные цепкими лианами гибкие дикие яблони. Высоко поднимали серебристые головы трепетные осины. Прямые и звонкие, устремлялись ввысь могучие лиственницы. Светлым, девичьим хороводом кружили у чистых полян березы.
От крика, от слез, от неустроенности бытия молодежь спасалась «на природе». И она, с каждым днем становясь все щедрее и ярче, творила чудеса: девушки расцветали на глазах, юноши крепчали телом и духом. А великая чародейка-любовь нашептывала: «Это навечно – от таежного бездорожья столбовая дорога вместе, на всю остатнюю жизнь».
Вечером 3 июля в Керби пришли пароходы «Муром» и «Амгунец». В окружении шумной свиты на берег сошли Лебедева и Тряпицын, но вскоре вернулись обратно.
Глухие, просачивавшиеся стороной слухи подтвердились: Николаевск развеялся пеплом. Упрямые старики и старухи, не пожелавшие уйти со всеми, в последнюю минуту были вывезены в тунгусские стойбища. Снова плакали и ломали руки женщины: где искать обездоленных близких, если нет обратного пути, а впереди такие места, куда и ворон костей не заносил.
Осунувшийся, то и дело покашливающий Харитонов (он приехал на «Муроме») с гневом рассказывал о злоключениях, невольным свидетелем которых он стал:
– Добрался я до Николаевска в ночь под первое июня. Город в огне. Кинулся к Тряпицыну. Он меня слушать не стал. «До Керби ли, говорит, теперь. Скоро буду там. Разберусь на месте, почему задержка с отправкой. Сейчас у меня забота другая: проскочили ли в устье Амгуни наши суда, не напоролись ли на японцев. Будем пробиваться на Амгунь вьюком, а там поднимемся вверх пароходом и решим все сообща».
Рассуждение как будто дельное. Сели мы на коней. Отступили с последним отрядом в тайгу. Далее получилось как в сказке: «Скоро сказывается, да не скоро делается». Бродили мы по тайге без дорог и троп. Лошади падали от бескормицы. Выбившись из сил, питались мы той кониной. В отряде уже ропот, а от Тряпицына ни доброго слова. Одержимый, да и только… Думали, и конец там примем. Глазам своим не поверили, как вышли на Чуринскую резиденцию, в районе Орских приисков. Вот это отмахали! Комаров встретил нас, как родных. Накормил. Обогрел. Помылись в баньке. Это ли не счастье? С жильем там хорошо: датчане и американцы, как уезжали, не порушили ничего. Провианта вволю. Решили денек-другой передохнуть.
Вечерком позвали нас к Комаровым. Дуся, как всегда, ведь вы ее знаете, с пирогами. Лебедева отговорилась головной болью, не пришла. Тряпицын здорово захмелел тогда. Тормоза сдали, тут он и раскрыл свои карты: «Что мне, говорит, Благовещенск! Пустая затея – две тысячи верст проехать да из чужих рук киселя хлебать». – И знай подливает себе вина, благо, никто ему не перечит.
Анатолий все хмурился, а потом и сказал: «Зря ты мою родину хаешь! Воли там тебе такой, конечно, не будет. Там хоть и привечают буфер, но большевики у власти стоят, да какие! Многие вступили в партию еще в начале века, все прошли – и тюрьмы, и царские ссылки, и „вагоны смерти“. Ты со своей платформой перед ними желторотый воробей. А податься-то тебе больше некуда!»
«Знаю, – отвечает Тряпицын, – знаю, что станут они меня в свою веру обращать. Только и мы не лыком шиты! Птица я вольная, да стреляная, в пороховом и прочих дымах прокопченная. Вот так-то, друг мой сердечный!»
Вижу, у Комарова левый уголок рта подергиваться начинает, знак недобрый, быть грозе. Однако сдержал он себя, усмехнулся: «Видно, не хватает у меня разума, чтобы понять мудреные речи. Говори проще, Яков, чего ты хочешь?» – «Воли я хочу! – крикнул Тряпицын и грохнул кулаком по столу. – Безграничной воли… Говорил я тебе про Свободный-городок?» – «Не выйдет! – возразил Комаров. – Не суждено тебе на берегу Зеи солнечные ванны принимать». – «Уж не сообщил ли ты амурцам о моих планах?» – спросил вдруг, будто даже протрезвев, Тряпицын. «А ты думаешь, смолчал? – не моргнув глазом, ответил Анатолий. – Нельзя жить, Яков, отгородясь высоким забором от того, что есть боль, и страдание, и горькое счастье народа твоего! Напустил ты туману, не прочихнешь. Подумай над моими словами. Может, завтра сам смеяться станешь над тем, что спьяну нагородил».
Тут Тряпицын расхохотался прямо-таки дьявольским смехом: «Да я трезвее вас всех вместе взятых! Ты признайся прямо: струсил? Только поздно, брат, поздно… крутись – не крутись, не выкрутишься! Мы с тобой одной веревочкой связаны. На одной перекладине нам и болтаться, если не станем хозяевами своей судьбы».
Анатолий выслушал это молча. Только побледнел и вижу, руки у него под столом ходуном ходят. Сцепил он пальцы, встал и говорит: «Вот и хорошо, что ты до конца раскрылся, до самого донышка черной своей души. Но запомни одно: я в преступлениях твоих не участвовал и ответ нести за них не намерен. А теперь, гость дорогой, вот тебе бог, а вот и порог. Не обессудь. Час поздний. Хозяевам покой нужен».
Тряпицын поднялся, посмотрел на него пристально и пошел к двери, ровнехонько, по одной дощечке. На пороге обернулся: «Ладно, не кипятись. Делай поскорее, что тебе приказано, вывози в Амурскую область приисковое оборудование, а поплывешь мимо Свободного, – он опять засмеялся, – заворачивай к нам, с хлебом– солью встречать выйдем». – «Да кто вас самих-то кормить станет?! „Анархия – мать порядка!“ – этому лозунгочку следовать – наготу станем дубовым листочком прикрывать», – и Комаров широко распахнул дверь. «Послушай моего совета: не спускайся до Благовещенска, – прошипел, бледнея, Тряпицын, – всем нам там будет не климат. Да и о жене подумай: ехать ей все же с нами, другой дороги нет!» – С этими словами командующий выскочил в сени и так хлопнул дверью, что зазвенели посуда и оконные стекла.
Только ушел он, на Анатолия насели Железин и Нечаев. Это, мол, мальчишество – речи пьяного до положения риз насерьез принимать. Яков просто шутил, прощупывал, чем ты дышишь. Он себя еще покажет и в историю впишет не одну славную страницу. Комаров с сомнением покачал головой. Железин вспылил: «То, что делается, вызвано революционной необходимостью. Я большевик. Был учителем. Был председателем Николаевского облисполкома. Перед партией и народом считаю себя правым, а Тряпицыну верю во всем. Свободненская республика – пустой разговор. Это он тебя на бога берет».
«А я обе руки подниму, чтобы обосноваться в Свободном, – перебил его Нечаев, – сами посудите: зачем нам телепаться до самой маньчжурской границы?!»
Но Анатолий их уже не слушал. Тряпицынские откровения ударили его в самое сердце. Не успели мы уйти, как на улице послышался рев животных, крики, щелканье бичей. Это подоспели Корнеев и Ганемидов с гуртами истощенного дальней дорогой и бескормицей скота. Анатолий поспешил к ним и с той ночи, кажется, не ложился спать. Нужно было подкормить животных перед новым перегоном, обеспечить фуражом. Да и люди требовали внимания. Дуся варила на всех, обстирывала, чинила одежонку, даже врачевала. Оба они совсем закрутились.
У Анатолия не клеилось с демонтажом оборудования: не было слесарей и необходимых инструментов, а враг мог нагрянуть не сегодня – завтра. Тряпицын ни во что не вмешивался, только однажды у него прорвалось: «Смотрю-терплю, не вывезешь в срок – пеняй на себя…»
Иван Васильевич вдруг замолчал. Стремительной походкой, волоча по траве кавказскую бурку, прошел высокий смуглый человек, повел в их сторону матовым, с желтоватым белком, глазом. Бросив бурку у воды, он растянулся на ней сам и, насвистывая, стал, как в зеркало, смотреться в прозрачные струи реки.
– Ангел смерти, – шепнул Саня, – пойдемте отсюда.
Харитонов сжал его руку:
– Чтобы возбудить подозрение? Лучше болтайте какие-нибудь пустяки.
Гриша и Саня наперебой стали рассказывать о лагерной жизни, рисуя все в самом розовом свете.
Оцевилли-Павлуцкий, вслушиваясь, прижмурил глаза: до чего же все самовлюбленны и глупы! Рыбная ловля, цветочки… А на самом деле?..
«Иван, ты меня понял?» – спросил тогда Тряпицын. Он кивнул головой. В ту ночь выпили немало, но и не больше, чем обычно, и расходились на рассвете. Он шел аллеей молодых березок. Они уже выпустили клейкие листочки. Он срезал ветку, но она оказалась слишком короткой; бросил ее и отделил от ствола другую. В конце аллеи белел дом управляющего приисками, в нем жили теперь Комаровы. Жили, но уже не будут. Здесь вообще никто не будет жить. Все уедут. Сегодня. В семь часов. Мысли путались. Он поднялся на крыльцо. Хотел постучать в дверь веткой, но она была слишком тонкой. Так, прутик… но пахла хорошо. Он стоял лицом к двери и так вот размышлял. А за спиной всходило солнце. Розовое. Он узнал это потому, что светлая дверь стала вдруг теплого, телесного цвета. А потом она распахнулась, и в ней, как в раме, появилась Комарова. В белой кофточке, а лицо ее, освещенное солнцем, было розовым, и неубранные волосы рассыпались по плечам.
– Вы? – удивилась она. Она всем говорила «вы» и всегда удивлялась. – За нами? Так рано? Видите, еще не открыты ставни…
– Я их открою, – он облизнул сухие губы, – открою…
– Что ж, за такую любезность я угощу вас кофе, – засмеялась она. – Открывайте все, а я возьму молоко.
Он распахнул створки ставней на одном из окон. Он очень торопился проникнуть в дом, пока она еще в кладовке, и бесшумно перемахнул сени. В темной комнате, на круглом столе, горела спиртовка: синий язычок пламени и над ним высокий кофейник.
– Душа моя, ты? – послышался из соседней комнаты голос Комарова.
Он метнулся на этот голос. Анатолий в белой рубашке сидел на постели и натягивал сапог. Солнце било в окно. Комаров поднял голову. Пуля ударила в висок, он даже не вскрикнул и откинулся на белые подушки, сразу же окрасившиеся кровью. Вдруг стало страшно: что если жена убитого услышала выстрел, убежала и поднимет тревогу? Нужно было запереть ее в кладовке. Он выбежал в холодном поту. Она тоже вошла из сеней с кувшином, до краев наполненным молоком.
– Почему… – начала было она, но он не дал ей на этот раз удивиться и выстрелил. Пуля попала в кувшин и оцарапала ей руку, иона стояла. Тогда он выстрелил почти в упор еще и еще, и она упала лицом вниз. Крови было очень много, и она смешалась с молоком, а поверху поплыли тонкие черные волосы. А спиртовка зашипела и погасла: убежал закипевший кофе. Очень сильно пахло тогда кофе, и лучи солнца пробивались из спальни, и…
Оцевилли-Павлуцкий заскрежетал зубами, поднялся и пошел, волоча по траве свою бурку.
– Наконец все было готово, – продолжил свой рассказ Харитонов. – В семь утра должны были выступить. В пять все были подняты страшным известием, что убиты Комаровы. Всем нам эти люди за короткое вместе прожитое время стали дороги и близки. Многие восприняли эту смерть как дурное предзнаменование. Один Тряпицын, казалось, не был удивлен и даже не попытался скрыть своего злорадства. «Собаке собачья смерть», – только и сказал он и стал торопить с отъездом, даже не взглянув на убитых.






