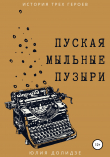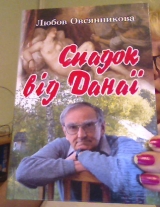
Текст книги "Наследство от Данаи"
Автор книги: Любовь Овсянникова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 27 страниц)
– Перестань стрелять глазами и смотри на меня спокойно! – требовала Татьяна Николаевна, учительница математики, если я шалила на переменах. – С тобой учитель разговаривает, а не мальчики щекочут по углам.
Это была, конечно, гадость, причем гадость вдвойне, учитывая, что я ее не заслуживала. Пару раз учительница попыталась поставить мне заниженную оценку, но из этого ничего не вышло. Наши диалоги на уроках, когда она вызывала меня к доске, превращались в поединки, за которыми с удовольствием наблюдал весь класс, замирая на время. Кто знает, внимание ли учеников или ее внутренняя порядочность приводили к тому, что она не продолжала корриду бесконечно, а спокойно ставила пятерку и при этом не куксилась от негодования. Я лично отдаю предпочтение второму объяснению. Я любила Татьяну Николаевну как учителя, она прекрасно знала предмет и была талантливым методистом, а это дорогого стоит. За это можно было снести не только раздражение и хамство. Нельзя же от одного человека требовать всего сразу. Большинство наших учителей были милыми людьми, но и только, в остальном же – бездарными и безликими. Я позабыла их имена. Со временем Татьяна Николаевна стала относиться ко мне ровно и доброжелательно. Как это случилось, неважно. Это другая история, а я вам рассказываю не всю историю моей жизни.
Сидя у Людмилы перед зеркалом я напрягала язык и подставляла его под нижнюю губу, выдувая изнутри холмик между губой и подбородком, где была природная впадинка, требующая исследования. Но там ничего не оказывалось, кожа была гладкой, без признаков пор, как и на щеках. Повторив прием в отношении уголков губ, я получала тот же результат. Приходило решение измерить длину языка. Это было просто. Если я доставала высунутым и изогнутым вверх языком кончик носа, то у меня все в порядке. Почему-то считалось, что длинный язык – это признак породы. Нет, у меня все было не так, и кончик носа языком я не доставала.
Я брала зеркало в правую руку, отводила ее как можно дальше и принималась изучать свой облик со стороны. Да-а, довольно задиристая внешность, ехидненькая. А что придавало мне такой вид, определить не удавалось. Дело было не в лице, а в его выражении, потому что наш классный руководитель Петр Вакулович, едва войдя в класс, останавливал взгляд на мне и подозрительно присматривался, щуря глаза.
– Садитесь! – гремел он.
А потом, не отрывая от меня взгляд, выяснял с угрозой в голосе:
– Дилякова, вы снова со мной не согласны?
– Согласна, – поспешно заверяла я, понятия не имея, на что он намекает.
Так продолжалось до самого окончания школы. И теперь я иногда пытаюсь порасспросить его, что он тогда имел в виду, да он уже не помнит того – стар стал, глуховат. Да и на что мне это?
Рассматривая свое бледное отражение с чуть наметившимися бровями, жиденькими короткими ресницами, с впалыми щечками, не знавшими румянца и соблазнительных румян, я даже не огорчалась, я недоумевала: что во мне заводит учителей. Нос – продолговат и умеренно тонкий с четко ограненным кончиком – был хорош. Однако ему не хватало хоть маленькой горбинки, чтобы считаться по-настоящему красивым. И все же нос был моей гордостью. Нежные крылья так славно довершали его скульптурность, как несколько асимметричная нижняя грань переборки сообщала впечатление гармонии, а прозрачный тупой кончик – утонченность всему облику. Ушки. Они были маленькими и ладно посаженными близко к голове. Их раковинки мне нравились. Да что толку, если их скрывали распущенные волосы. Да, нос – это серьезно, но даже в сочетании с ушками, хоть бы они и были открытыми, он не может изменить, думала я, общее от меня впечатление.
Естественно, пока я рассматривала себя и размышляла о своей внешности, мы с подружкой без умолку болтали. Пересказать, о чем говорят две девчонки, каждая из которых к тому же занята собой, сложно.
– О, супчик! – могла, например, сказать я. – А я сегодня приготовила блинчики с творогом.
– Хм! – могла скептически хмыкнуть Людмила. – Сладкие блинчики на ужин? Не нашла ничего лучшего.
Я провоцировала ее единственно для того, чтобы с садистским удовольствием заметить:
– Так ведь это на дэсэ-эрт, – пробуя на вкус интересное слово.
Людмила из желания поупражняться в гордости не спрашивала, что же я приготовила из основных блюд. Да это и неважно было. Главное, что я выпендрилась, а она на этом попалась.
Такие диалоги, сотканные из деталей каждодневья, в которые вплетались новые знания, добытые из книг или оперативного, текущего опыта, заполняли наши встречи, происходящие по сто раз на дню.
– Чем занималась? – тоскливо спрашивала Людмила, так как все свободное время я обычно имела в своем распоряжении, а у нее была тьма обязанностей по дому и хозяйству.
– Читала-писала, гуляла в саду, – все школьные годы я вела дневник, в который записывала впечатления от прочитанных книг, появляющиеся при этом мысли, наблюдения за погодой, за сменой времен года, Люда об этом знала.
– Ох-ох-ох! Скажи-ите, какие мы у-умные, – а я не обращала внимания ни на ее дурашливый тон, ни на слова. Ей хотелось поумнеть за мой счет, а мне было не трудно это устроить.
– Франциско Гойя, «Обнаженная Маха», – невозмутимо уточняла я о книге, которую читала или осмысливала после прочтения.
По родовой привычке я поднимала вверх указательный палец, подчеркивая особое значение сказанного. Только, в связи с тем что правая рука была занята зеркалом, вверх взмывал палец левой руки, при этом взыскательно рассматриваемый мною со всех сторон. Затем мое внимание вновь привлекало отражение в зеркале.
Я пробовала морщить лоб, хмурить брови, смотреть косо из-под ресниц, собирала губы дудочкой или растягивала их в мнимой улыбке. Я изучала свое лицо дотошно и требовательно, ведь мне с ним предстояло прожить всю жизнь, и я хотела знать, как оно выглядит в состояниях радости и горя, удивления или досады.
Пока я открывала в себе новые черты, Людмила приготовила бульон, отварила в нем картофель и теперь намеревалась добавить туда вермишель. Она высыпала порцию вермишели, оказавшейся в пачке последней, в небольшую миску и залила ее теплой водой. Сосредоточенно наблюдая за моими упражнениями, она мешала мокрую вермишель ложкой.
– Что ты делаешь? – наконец заметила я алогичность ее действий.
– Вермишель мою.
– Зачем?
– А ты что, бросаешь ее в суп грязной? – отпарировала она с ехидной насмешливостью, не нарочитой, а свойственной ее тону.
– Ха-ха-ха! – я отставила зеркало и отдалась стихии смеха.
Я сдвинулась на край стула и качалась, поднимая к подбородку ноги, согнутые в коленях. Затем я протягивала их, разводя в разные стороны и удерживая на весу, потом чертила ими восьмерки и делала «ножницы». Ноги были мерилом смешного, а вовсе не раскаты смеха, всегда глуховатого у меня.
Целую секунду Людмила оторопело смотрела, не соображая в чем ее оплошность. Сообразив же, намеренно усугубила ситуацию: зачерпнула ложкой раскисшую вермишель, медленно подняла ее над миской и принялась тщательно обнюхивать, кривясь и морщась, приоткрыв рот и с гримасой отвращения высунув кончик языка.
– Имени… имени Франциско Гойя, – пыталась сказать я через икоту и спазмы хохота.
– А так ничего, да? – невозмутимо подвела итог моя подружка.
11
– Все, дети, все, – подняла руки Низа Павловна, когда школьники разочарованно загалдели, что на улице еще стоит день, а запасы рассказов у нее уже исчерпались.
– Вы обещали рассказать и о своих родителях, – напомнила Низе Татьяна Коржик.
Низа Павловна сникла: в самом деле, обещала.
– Об отце и маме когда-нибудь в другой раз расскажу, а сейчас, – она взглянула на часы, – еще есть время. Давайте вспомним наших бабушек и прабабушек. Знаете, о чем я подумала?
– О чем?
– Нет!
– Скажете, – хором ответили слушатели на разные голоса.
– Я хотела бы написать книгу обо всех-всех дивгородцах, погибших от рук фашистов. Но это дело буксует уже на стадии собирании материала. А вы же здешние, каждый день видитесь с теми, к кому мне иногда сложно попасть. И вообще, наездами очень тяжело располагать собеседников к печальным воспоминаниям, ведь для этого нужно хорошо знать людей, к которым обращаешься с вопросами, и иметь достаточный запас времени, чтобы выбрать соответствующие нужному разговору обстоятельства. Я рада, что вас пришло так много, поэтому и подумала, не лучше ли за это взяться вам? Кое-что у меня уже есть. И я с вами этим поделюсь для начала, для зачина. А дальше вы продолжите книгу сами. Идет?
– Не сами, а в соавторстве с вами, – сказала Вукока, изученным жестом отбрасывая на спину густые волосы, и лукаво взглянула на Павла Дмитриевича, который ходил кругами вокруг них и слушал Низины воспоминания.
– Хорошо. Вы собирайте материал, а там разберемся, – согласилась Низа.
***
Существует интересная легенда о том, как в Дивгороде возникла фамилия Тищенко и кто первым получил ее. Эту легенду донесли до нашего времени записи и пересказы, которые в течение нескольких поколений делались членами семьи Павла Дмитриевича. Так вот то, что первый Тищенко появился здесь очень давно, свидетельствует факт чрезвычайной разветвленности и многочисленности рода, носящего эту фамилию. И очень зажиточными, как о том мечтал Умный Мойшик, они едва ли были, так как многие из них жестоко болели, в частности на чахотку, передающуюся от отцов к детям.
К сожалению, не выпала из той закономерности и семья Тищенко Филиппа Андреевича, который, женившись, выстроил себе дом по соседству с родителями Евгении Елисеевны. Интересно, как это начиналось. Это было в 1918 году, как раз после Октябрьской революции, о которой дивгородцы слышали, но которая на их жизни тогда еще не сказалась и потому они ее в расчет не принимали. Филиппова теща, баба Павлиха, боевая и энергичная женщина, после замужества дочери выхлопотала на ее имя бумагу на владение земельным наделом здесь, на Степной улице. При социализме делалось это просто, без паразитарных земресурсов и архитектурных управлений, – записали в сельском совете, что надел площадью такой-то, расположенный там-то предоставляется для строительства дома тому-то. И все – это был закон! После этого Павлиха, не доверяя хвастливым местным мастерам-самоучкам, сама отмерила шагами длину и ширину дома, показала приглашенным на строительство дядькам, где забивать колья, обозначающие углы дома, и приказала начинать работы. Строительство закипело чуть ли не назавтра и проходило полностью под контролем заказчицы, выступающей еще и в роли главного консультанта. Стоит этот дом, построенный под надзором простой неграмотной женщины, по сей день, и еще лет сто простоит, если никто его не разрушит умышленно.
В довоенные и послевоенные годы Филипп работал рядовым рабочим механического завода «Прогресс», где производилась сельскохозяйственная техника. Как и все, ходил на работу и с работы в засаленной одежде, черный от мазута. Я немного знала его уже дедушкой. Когда-то он, вероятно, был высокого роста, стройным, а мне помнится уже сутулым от возраста, хмурым, немногословным. Дед Филипп все время тяжело кашлял, а когда случалась особенно агрессивная атака, выходил на улицу и прятался от своих домашних за угол дома. Выходило так, что становился как раз перед нашими окнами. Здесь он склонялся к забору и освобождался от мокрот. Может, поэтому-то его и назвали Заборнивским, а затем так начали называть всех его родственников.
Соседом Филипп Андреевич был уживчивым – никогда ни с кем не ссорился, хотя и тесной дружбы не водил. Все больше сидел за воротами на скамейке и в одиночестве любовался солнышком. Кто останавливался возле него, с тем любил поговорить, а кто проходил мимо, того не задевал.
Мне хорошо помнится, что он был шутником, очень остроумным человеком, говорил мало, но метко и с нотками легкой, безобидной насмешки. И сейчас слышится его низкий голос с характерной хрипотцой. После слов, сказанных им, все, кто был рядом, каждый раз взрывались смехом.
– О, Филипп уже смешит кого-то, – говорил мой отец, зачуяв хоровой смех.
Когда-то и я, играясь неподалеку, стала свидетелем одного розыгрыша.
К его жене, бабе Саше, пришла местная модистка, тетка Неплюйша. Женщина звезд с неба не хватала, но водила себя чисто и опрятно. В отношениях с людьми была подчеркнуто манерной, воображая, что так должна проявляться вежливость. Кое-кого это раздражало.
– Нет ее дома, – прохрипел дед Филипп, откашливаясь после выкуренной самокрутки.
– А где это она? Мы же договаривались, что я приду.
– К родителям на полчасика побежала, – дед освободил место на скамейке. – Садись, подожди. Сейчас она вернется.
Неплюйша культурно присела на краешек, немного попрыгала на скамейке, будто это была не деревянная доска, а резиновый мяч, покашляла, не зная о чем говорить, затем нашлась:
– Завезли нам в магазин селедку.
– Ага, – поддержал разговор дед.
– И соленую-соленую!
– Ты смотри, – отреагировал на слова Неплюйши вежливый слушатель.
– Я и говорю, чего оно.
– Что чего?
– Вообще, чего селедка соленая? – спросила модистка.
– Вот тебе и на! Так ты ничего не знаешь? – дед начал разводить женщину на шутку.
– О чем?
– Селедка же в море живет.
– Знаю. И что из этого? – Неплюйша искоса взглянула на деда, который, оказывается, придает значение тому, что и малый ребенок знает.
– А там же вода солонющая, как рассол.
– Да вы что? – оттопырила ухо женщина. – Не слышала такого. А от чего?
– Ой, мама! Ты, вижу, темная, как ночь безлунная. Да ведь туда круглые сутки соль составами прут и высыпают.
– И-и-их, а я-то думаю, чего мимо нашего села поезда на юг гур-гур и гур-гур по ночам. А оно вон что оказывается. Прямо составами, говорите?
– Конечно! – уверил Неплюйшу Филипп. – А в каждом составе, учти, не меньше сотни пульмановских вагонов.
– Ну, если составами... Тогда, канешно, чего же рыба не будет соленой.
За пару недель всезнающей – после разговора с Филиппом Заборнивским – невезучей Неплюйше всунули в магазине тухлую селедку.
– Воняет! – закричала она, развернув покупку. – Я издали слышу. Меняй! – обратилась к продавцу.
Тот подал ей другую рыбину, третью, но вся рыба в бочке оказалась некачественной. Продавец начал извиняться перед покупателями.
– В море соли недодали! – провозгласила Неплюйша. – Сэкономили, чтобы украсть.
Интересно, что и после того, как модистке открыли, что дед Филипп пошутил, она продолжала ему верить.
– Не рассказывайте мне, – отмахивалась сердито. – Вода же в море соленая?
– Соленая, – признавал какой-нибудь сторонник голой истины.
– Так чего же ты твердишь не то, что надо? Филипп Андреевич глупости говорить не будет.
***
Жена Филиппа Андреевича, баба Саша, выросла на соседней улице, там и проживали ее родители. Как ни странно, ее отца и мать я знала. Дедушка Павел немного столярничал, поэтому всегда носил с собой дух свежего дерева, стружек и еще чего-то, ужасно уютного и надежного. Несколько раз я бывала в их доме, даже знаю, где что там стояло. И двор помню, на который набрасывала тень старая развесистая груша-дичка – густолистая, богатая на маленькие желтоватые плоды, твердые и терпкие.
В глубокой старости дедушка плохо видел. Однажды он попросил жену, уже известную нам бабу Павлиху, согреть ему дождевой воды для мытья главы. Баба Павлиха приготовила то, что он просил, и пошла, как здесь говорили, до людей – посидеть за воротами. Это был у дивгородцев вид доступного и приятного отдыха. Дело было под вечер и заходящие лучи солнца, к которым она сидела лицом, кротко щекотали кожу, обнимали сложенные на коленах руки, пригревали расслаблено протянутые вперед ноги.
Вдруг сюда донесся обиженный крик дедушки. Что такое? – бабка поднялась и метнулась во двор, где на табуретке дед приспособился мыть голову. Видит: стоит тот горемыка, беспомощно склонившись над миской, а в его волосах запутались кусочки вареного картофеля и жареного лука, с головы свешивается вниз длинная лапша, а с нее лениво скапывают тяжелые капли куриного бульона. Дед, оказывается, помыл голову супом, приготовленным бабкой на ужин.
– А-а, несчастье! – запричитала она. – Разве ты не видел, что это суп?
– Так оно же, как не крути, тоже жидкое и горячее, – оправдывался дед. – Я его развел холодной водичкой и – на голову...
Позднее это приключение супруги часто вспоминали, конечно, с тихой, обреченной печалью.
Их дочка, а для меня баба Саша Заборнивская, была тихой и незаметной. Я любила ее, хотя она о том, возможно, и не догадывалась. Ту любовь привила мне мама, часто рассказывая, что моя бабушка Евлампия, о которой я расскажу позже, и баба Саша дружили. А все, что касалось моих старших родственников, для меня с детства было наполнено особенно дорогим смыслом и значением – по зерну я собирала факты из жизни своих предшественников и записывала в дневник.
Эти подруги были великими труженицами, милыми женщинами. Изредка им выпадала свободная минутка, тогда они собирались на посиделки и пировали, лакомясь домашними яствами и запивая их наливками. Конечно, хмельное быстро разбирало их и они веселились. Иногда к ним присоединялась Елизавета Григорьева и баба Настя Негриха.
Боже мой, о каждой из них можно писать отдельную книгу!
***
Нынче внуки бабы Негрихи потерялись где-то в соединенных штатах, как раз там, где живут «негри», хотя не все – некоторые из них все-таки остались здесь.
Мой отец когда-то учил ее сына Ефима слесарному делу, а потом долго работал вместе с ним. Они доверительно дружили, поддерживали друг друга в трудные времена, обменивались редкими и интересными книгами, которых тогда трудно было достать.
Как-то Настя загрустила и перестала разговаривать. Молчит день, второй. Сын заметил это и обеспокоился.
– Мама, что случилось? Чего вы молчите? – спросил Ефим у нее.
– Такое в мире делается... Чего уж говорить? – махнула она рукой.
«Моя мать, – рассказывал отцу Ефим, – вообще такая: услышит что-то по радио и ходит, переживает. А потом начинает ругаться на того, кто, по ее мнению, был виновным».
– Что делается? – уточнил у нее сын. – Где делается?
– Слышала я, ученые вывели нового зверька – голого, как человек, и черного, как собака. Зачем, спросить бы...
– Ученые? Не знаю о таком, – удивился Ефим. – Как этот зверек называется?
– Какое-то негри, – покорно ответила старая и опять вздохнула.
– Что вы мелете, мама? – взорвался Ефим. – Хорошо, что вы эту ерунду сморозили при мне. А если бы кто-нибудь другой услышал? – и он объяснил матери ее ошибку.
Долго в поселке помнили ту бабкину печаль, а ей самой припечатали имя Негриха.
Часто Настя спрашивала у Ефима о том, что ее интересовало. Например, однажды ни к селу, ни к городу ударилась в науку о войсках, войне и полях битвы.
– А почему вот оружие называют пустолетом? Ну, «пусто» понятно – убивает всех, никого не оставляет. А почему «летом»?
– О, Боже! – поднял ее сын вверх глаза. – Ну, спросите что-то человеческое. Чего вы все время выдумываете, мама?
– Так интересно ж... Чего пусто только летом? Оно что, зимой, в холода, не стреляет?
– Причем здесь зима и лето! Мама, или вы заговариваетесь?
– Так пусто ж летом...
– Ой, горе мне с вами! – воскликнул ее сын и не стал ничего объяснять, видно, нужных слов не нашел.
Ефим понял, что у матери возник интерес к грамоте, и она теперь его замучает. Поэтому он подарил ей «Словарь иностранных слов», который нашел с большим трудом и купил за большие деньги.
– Берите, – бухнул как-то тяжелый том на стол. – Изучайте, чтобы у вас каши в голове не было. Только без меня.
Настя читала словарь, как читают роман, – подряд. Конечно, не все понимала, еще меньше – запоминала, а остальное – отчаянно путала.
А еще Настя любила выпить, чего стыдилась и старалась, чтобы этого не никто заметил.
– Давайте, девчата, наливочки пригубим, – говорила та из подруг, которая угощала гостей домашним зельем. – Оценим, что у меня получилось, – с теми словами выпивала каплю и отставляла рюмку.
– Нет, нет, – я не буду, – лукаво отговаривалась от угощения Негриха.
– И чего там? – настаивала хозяйка. – Хлебни хоть глоточек.
– Сохрани боже! Ты что? Я ж не пью. У меня от спиртного апогей наступает.
– Только попробуй, – продолжали уговаривать ее, несмотря на «апогей», так как хоть и не знали, что оно такое, но привыкли к бабкиным придумкам.
– Ну, разве что капельку, – соглашалась в конце концов Настя и выпивала добрых полчарки. – Ой, и не распробовала! – выкрикивала, наспех заедая питье. – Ну, разве что еще на язык брызну, – допивала она налитое и потом бралась по-настоящему за еду.
– Давайте, – поступало закономерное предложение, – еще по одной с Богом.
– Нет! – торопилась откликнуться Настя. – Я ж не пью. Говорю тебе без приоритету.
– Вот не ломайся, как сдобный бублик в помойнике. Пей! – прикрикивали на нее.
– Ну, разве что капелюшечку, разве что пригублю, – обещала Негриха.
Эти отговорки «я не буду» и «разве что капельку-капелюшечку» продолжались в течение всего застолья. И пока другие по глотку допивали налитую им вначале рюмку, Настя успевала хлопнуть несколько полных, и делалась никакой, как сосиска.
***
Елизавету Григорьеву всю жизнь преследовала нужда. Как говорят в таких случаях в народе, ничего она всласть не съела и ничего не сносила себе в удовольствие, так как смолоду осталась вдовой с тремя малыми ребятами. Весь век тяжело работала в колхозе под дождями и под снегами, в мороз и в жару, не ленилась. Зато сыны у нее выросли всем на зависть: что красивые, что добрые душой, что работящие. И вот один из них привел в дом молодую жену Любу. Чтобы приласкаться к новой семье, невестка подарила свекрови красивые панталоны: длиной до колен, белоснежные, с прошвами, с прозрачными оборками, еще и вышитые кое-где цветным мулине.
– Смотри ты! – засветилась от удовольствия Лизавета и подняла с одной стороны юбку. – Прямо буржуйская одежка. Такую и людям показать не стыдно.
– Носите на здоровье! – обрадовалась Люба, что угодила с подарком.
С того времени и пошло:
– Ой, платье ж мне купили! – хвасталась, бывало, какая-нибудь модница. – Красивое, как трусы у бабы Лизы.
А почему те трусы вошли в местную поговорку? Потому что Григорьевша после этого начала носить короткие юбки и все старалась больше наклоняться перед людьми, чтобы им было видно ее обновку.
К тому у нее и повод был – она держала козу, дававшую много молока, признанного местными знатоками за высококачественное. Коза была с норовом и никого кроме своей хозяйки подпускать к себе не хотела. Рогами людей не тыкала, но доить не давалась. Еду из чужих рук и то не брала. Даже если баба приносила ей траву, сорванную кем-то другим, она ее тоже не ела. Прямо привередливая была коза!
Вынуждена была Лизавета убираться возле нее сама, а коза ж – не корова, понаклоняешься за целый день возле нее вдоволь. Короче, похвастаться перед односельчанами шикарным бельем у бабы возможность имелась, и вполне невинная. Но судьба трусам досталась трагическая.
Произошло это так. Как-то в свободный день пришла Григорьевша к бабе Саше Заборнивской. Как раз туда наведались и остальные подруги. Слово по слову, сговорились выпить. Баба Саша – наливку на стол, Настя Негриха – «я не буду» и «разве что капелюшечку», а старая Григорьевша немного понаклонялась перед женщинами, светя пятой точкой, наряженной в прославившиеся трусы, и молча присела к столу. Выпили, закусили, захмелели. Дальше им захотелось еще погулять, поговорить, и они налили по второй. А где вторая, там и третья – негоже ж православным останавливаться на парной. Только дело дошло до песен, как бежит огородами Люба, Григорьевская невестка.
– Мама, засиделись вы в гостях, пора козу доить!
– Сдои один раз сама. Сколько ты будешь привыкать к ней? – огрызнулась та.
– Так это ж не я привыкаю, а ваша коза...
– Сдои сама, дай посидеть с людьми, – повторила Лизавета.
С тем Люба пошла назад. Никто не обратил внимания на это событие. Но минут через двадцать женщины услышали блеяние разгневанной козы, а позже к нему прибавился рев Лизаветиного сына.
– Подняли шум-гам! – вознегодовала Лизавета. – Пусть убираются, наживают ум да сноровку.
Не успела она это сказать, как из ее двора понесся уже членораздельный вопль.
– Мама, скорее сюда! Коза Любу насмерть забила!
Баба Лиза охнула, прижала руки к груди и ни слова не говоря, подхватилась и побежала. Кратчайшая дорога в ее двор лежала через огороды, которыми сходились усадьбы двух соседних улиц. Межа у каждого была своя: у кого она имела вид запруды из прошлогодней ботвы, у кого стояли столбики, кое-где были вырыты незатейливые рвы. А огород Григорьевых отделялся от соседского высоким новеньким штакетником, недавно сделанным хозяйственным сыном, Любиным мужем. В конце концов, его не сложно было перескочить, но не в бабкином же возрасте. А она именно на это и отважилась.
Крик во дворе Григорьевых не стихал, только в нем начал различаться голос «забитой насмерть» Любы, что говорило об ее благополучном воскрешении.
– Горюшко, – перекрестилась баба Саша. – Кажется, пронесло.
И вдруг женщины услышали еще один голос, очень знакомый, хоть и измененный ужасом.
– Спасите, люди! Гады, куда вы подевались? Ой, отцепите меня!
– Это же Лизавета кричит, – схватилась Евлампия, моя бабушка. – Пошли за нею.
Когда они добежали до межи, перед их глазами открылась такая картина: баба Лиза висела, зацепившись за забор своими драгоценными трусами. Ее голова с отекшим красным лицом болталась где-то внизу, а ободранные о неотесанные штакетины ноги торчали вверх. Кулаками она колотила о землю, стараясь пойти по ней хотя бы таким образом. Но трусы не отпускали.
– Что там с моими? – сдавленным от прилива крови голосом спросила она, увидев возле себя чьи-то ноги и догадавшись, что это прибежали подруги. – Слышу, будто Люба жива.
– Жива, жива, – успокоила ее Евлампия, первой пришедшая в себя от увиденного. – Пропали твои трусы, подруга.
– Как?! – снова упала в шок Лизавета и дернулась со всей силой, вывернув из земли столбец, на котором держался забор. – Ой... – ее голос потонул в треске, с которым пополам разрывались трусы, обнажая ягодицы.
Лизавета еще сильнее задрыгала ногами. Оставив попытки удержаться за землю, она подхватила ниспадающие на лицо лохмотья и начала закрывать ими оголенный срам. Потеряв опору, ее тело обвисло на уже довольно сильно расшатанном да и не рассчитанном на такие нагрузки штакетнике. Он не выдержал и с грохотом завалился вместе со своей пленницей, разрывая на ней не только белье, но и юбку.
В этот миг к матери подбежал сын и увидел ее лежачей навзничь с вывернутым забором на груди, с обнаженным до пупа телом.
– Мама! Ой, боже ж мой! – бросился он к ней.
– Где Люба? – пролепетала Елизавета.
– На крыше сидит.
– Хай Бог милует! Чего она туда залезла? – баба уже стояла на ногах и держалась за лоб. – Голова кругом идет, – пожаловалась.
– Пить надо меньше и головой вниз не вешаться, – буркнул сын. – Еще и ваша коза... Люба едва убежала от нее.
***
Когда я говорю «баба», «бабушка», то не потому, что эти женщины были в преклонном возрасте, а потому что это было поколение моих бабушек. И тон моего рассказа не печальный и не плаксивый не потому, что мне не болят их трагические судьбы, а потому что они для меня – живые и теплые, я будто вижу их рядом, ощущаю битье их сердец. Ведь только так они обретут среди нас свое бессмертие.
Вечер того дня подруги провели не менее экзотично, чем полдень.
– Пошли на ставок купаться, – предложила снятая с забора Лизавета. – Снимем усталость.
– Да, пойдем освежимся, – согласилась баба Саша.
– Я только козу сдою. Подождете? – спросила у подруг Григорьевша.
– Мне пора домой, – махнула на прощание Настя Негриха, проживающая на другом конце села. – Вы уж без меня.
– И я пойду, – сказала Евлампия. – Елисей не любит, когда меня долго нет.
Лиза поймала взбешенную чужими приставаниями козу, привязала. Затем взяла стульчик и села возле нее, начала доить. Движения у нее были по-пьяному широкие, размашистые. Она отводила правую руку с дойкой далеко вправо, будто замахивалась на кого-то, а потом сжимала дойку, дергала вниз и заводила ее далеко влево. То же повторяла с левой дойкой. Время от времени доярка обеспокоенно посматривала в ведро.
– Вот зараза, целый день гуляла, а молока не принесла, – брюзжала она. – Ведро пустое, как степь в октябре.
– Ты посмотри, какое у нее полное вымя, – показала баба Саша на козу. – Чего ты ссоришься с животным?
– А чего же ведро не звенит от струй молока? Га? – допытывалась Елизавета.
Ее подруга присела, нагнулась, заглядывая под козу.
– Потому что ты руками размахиваешь, будто тебе делать ничего. Все молоко мимо ведра проливается. Посмотри, что ты делаешь! – крикнула баба Саша, показывая туда, куда вылилась еще одна струя из дойки.
– Стой, проклятая! – в сердцах крикнула Лиза на козу. – Крутишься, как наша Любка перед зеркалом. О, а молочко уже и выдоилось!
Дойка закончилась. Коза получила облегчение, а ее хозяйка – облизалась. Но, несмотря на это, она с благодарностью похлопала свою кормилицу по бокам, затем прихватила стульчик и отнесла его в сарай, грохнув там пустым ведром.
Солнце уже коснулось горизонта, когда Лизавета и Саша пришли на берег ставка. Ребятишки разбежались по домам, равно как и взрослые, которые приходили сюда вымыться перед сном. Все вокруг успокоилось и затихло. Где-то разминался на всенощную сверчок, и исподтишка заводилась нетерпеливая лягушка.
– Здесь уже никого нет, – сказала Лизавета. – Глянь.
– Ага, – согласилась наша соседка. – Можно купаться без одежды.
Они разделись и бултыхнулись в нагретую за день воду. «Ой, как хорошо!», «Ух, и бодрит же водичка!» – эти восклицания неслись на берег и отбивались от раздолбленных глинищ высокого правого берега, повторяясь несколько раз эхом.
Все-таки кто-то увидел купальщиц, когда они, стоя на густом лугу в чем мать родила, высыхали под ветерком, чтобы не мочить одежду.
– Мама, ну чего вы придумали голой купаться ночью? – выговаривал бабе Саше дома сын Николай.
– Сы-ынок, ты уже знаешь? – испугалась та.
– Добрые люди в глаза тыкали, что у меня мать несерьезная.
– Прости меня, сынок. Извини! Клянусь тебе, что больше и к воде не подойду, – извинялась бедная женщина ни за что ни про что.
***
Павел, старший сын Филиппа и Саши, погиб на войне, и Николай принял его обязанности на себя. Был он светловолосый, кудрявый, такой же шутник, как и Филипп. И вдобавок хорошо рисовал, а еще от деда Павла научился столярничать. И тем потом кормился всю жизнь. Как и отец, Николай жестоко болел туберкулезом, хотя в послевоенные годы, скажу, забегая наперед, удалось ему вылечиться окончательно. В их семье лишь Роману, младшему из братьев, посчастливилось родиться здоровеньким.