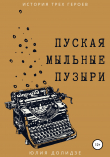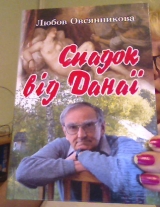
Текст книги "Наследство от Данаи"
Автор книги: Любовь Овсянникова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 27 страниц)
***
Под зиму Циля и думать забыла о своих подозрениях, о чужой женщине и мужниной неверности, – рассказывал Надежде и Анатолию Павел Дмитриевич на следующий день.
– Кум, ответь, что с ней было? – энергично тряс рукой Иван Яйцо, выспрашивая о Циле Садохе, и при этом гудел, словно огонь в кузнечном горниле. – Неужели, в самом деле, поделано?
– Сам же сказал, сглазили ее, – смеялся Халдей.
– Не шуткуй, браток, я сурьезно спрашиваю. Мне, может, для пользы дела надоть.
– Элементарный невроз, нервное расстройство, зачастую случающееся у впечатлительных женщин, особенно в таком возрасте. Только оно протекало у нее тяжело, с легкими фобиями, слуховыми галюцинациями и страшными сновидениями.
– Ага, пойняв. А со мной? – снова хлопотал он. – Тудыть-перетудыть, чую, этот нервоз – заразный. Он и меня застукал был, га?
– Иван, ты как ребенок! – Павел Дмитриевич качал головой. – Ну зачем ты слова перекручиваешь?
– А что? Та девушка, знаешь, как гонялась за мной. Не на шутку, браток.
– Никто за тобой не гонялся, успокойся, и никакого невроза у тебя не было.
– А что было?
– Было то, что ты, защитник обиженных, спал в своих «засадах» и видел сны!
– Я?! Спал?!
– Согласись, сладко в душную ночь поспать среди цветов или подремать в доме под открытым окном. Другое дело, почему тебе снился один тот же сон.
– Да! Почему? – Иван задиристо выпятил вперед грудь.
– А ты не догадываешься?
И Павел Дмитриевич напомнил куму Ивану, что когда-то давно в том доме, где теперь жили супруги Садохи, коротала век одна вдова с дочерью Надеждой, редчайшей красавицей. Когда Надежды исполнилось пятнадцать лет, она влюбилась в Григория Кобзаря.
Того парня, как и его младшего брата Юрия, воспитывала бабушка. Внуками, осиротевшими в голод 1947-го года, одинокая женщина очень дорожила и, конечно, на сердечное тепло для них не скупилась. Поэтому Григорий, хоть и не был красавцем, от бабушкиной ласки приобрел особый шарм, притягательный для женщин. Он относился к ним с уважением, даже почтительностью, всегда улыбался и умел найти весомое слово в случае, когда требовалось кого-то взбодрить. Это буквально сводило женщин с ума. Надежда не стала исключениям.
Но ей, еще девочке, он взаимностью не ответил, и она, закрыв непрозрачными занавесками окна, повесилась в доме знойным июльским днем. Записки с объяснением своего поступка не оставила, и ее смерть жители поселка еще долго объясняли проявлением темных, потусторонних сил.
Иван, конечно, хорошо знал Надежду при жизни, а потом забыл, так как давно это было. И вот при благоприятных обстоятельствах в нем треснула скорлупа, где хранилась та память. В бездне подсознания он увидел то, что долго и тяжело там пряталось. Возможно, ему снилось бы что-то другое, если бы он не проводил свои «засады» на усадьбе, где разыгралась эта трагедия.
– Смерть, друзья, имеет свою энергетику, остающуюся после человека на земле и никуда не исчезающую, – с печалью в голосе заключил Павел Дмитриевич свой рассказ. – Если стремишься жить без тревог и печалей, никогда не возвращайся туда, где ты знаешь, что она приземлялась.
Татьяна возвратилась домой, когда солнце разогрело воздух до полной неподвижности. Делать ничего не хотелось, но она боялась развеять свежие впечатления от услышанного, поэтому уединилась и записала рассказ, который выбрала для своего сочинения.
3
Как-то проезжал Павел Дмитриевич мимо усадьбы Ивана Ролита, и тот его увидел.
– Кум! – позвал, а когда машина остановилась, пригласил: – Давай, причаливай ко мне. Жизнь такая короткая, черт ее знает, хоть посидим.
Он развалился на скамейке возле своего двора, измятая сорочка на груди была расстегнута, волосы всклокочены и весь вид – неопрятный, как у цыгана. На нем были изношенные до крайности ботинки и грязные штаны с выдутыми коленями. При этом Иван зевал и от безделья почесывал то подмышки, то грудь.
У самого Павла Дмитриевича настроение было хуже некуда, подавленное, что случалось с ним крайне редко. Такие минуты переносить в одиночестве ему было тяжело, и тогда он тянулся к людям, к разговорам, чтобы преодолеть нападки печали. А здесь видит, что и у Ивана не все благополучно, поэтому решил принять приглашение на праздные посиделки.
– Чего это ты сидишь среди бела дня, как больной? – спросил и подал руку для приветствия.
Иван оторвал зад от скамейки, замер на полусогнутых ногах, пожал протянутую пятерню и тяжело плюхнулся назад.
– Отдыхаю.
– Что ты делал?
– Ничего.
– Ага, а отдыхаешь после чего?
– После сна.
– А жена чем занята?
– Дверь красит.
– А я вот еле дополз, – пожаловался Павел Дмитриевич.
– Чего? – спросил хозяин равнодушным голосом, будто тут сидел не он, а его тень, сам же он находился в высших эмпиреях.
– Заправиться ничем. Бензин стал таким дорогим, что мне никак не по карману. Хоть воду заливай, такое горе. – Павел Дмитриевич говорил искренне, не представляя, как будет обходиться без машины.
—Заправляйся на государственных заправках, чего ты их объезжаешь?
– А где они теперь есть, государственные?
– Как? – спрашивает кум. – Ты же заправляешься у жулья, набиваешь им карманы, действуешь в ущерб простым людям. А надо поддерживать государство.
– Если б ты, Иван, – говорит ему собеседник, – не гавкал, если не знаешь сути дела.
Иван, правда, не обиделся, все-таки не тут находился, это точно.
– Там у нас на углу вчера или позавчера стоял бензовоз, и мужики несли бензин канистрами. А ты говоришь.
– И ты знаешь, чей то был бензовоз? – спросил Павел Дмитриевич.
– Откуда? Не знаю, конечно.
– Так с чего ты взял, что он был государственный?
– Потому что мужики не поехали покупать у жуликов, а взяли здесь, из машины.
– Это тоже были жулики, как ты их называешь.
– Разве такое может быть, чтобы жулики уже и сюда достали?
– Может, государственных заправок давно и в помине нет, – сказал Павел Дмитриевич.
– А куда они подевались? – растерялся кум Ролит.
Павел Дмитриевич сдвинул плечами и замолчал. Повздыхали, помолчали.
День близился к завершению, хоть солнце еще стояло достаточно высоко, но жара начала спадать, зарезвился свежий ветерок. Над миром зазвенела жизнь, невидимая глазу: жужжали комары, гудели осы, с посвистом рассекали воздух ласточки.
– Слушай, Иван, чего ты такой небритый? – начал новый разговор Павел Дмитриевич, поняв, что с кумом ничего досадного не случилось.
– Нечем побриться, нет лезвия, – при этом Иван Ролит достал из кармана бычок, окурок, размял его и потянул в рот.
Павел Дмитриевич, глядя на это, растерялся:
– Кум, ты чего, дошел до края? Нет денег, так бросай курить, не позорься. Зачем ты таскаешь измятые окурки? Пеплом обсыпался, аж пыхтит от твоего тряпья!
Замечание было очень кстати – кум Ролит даже у знакомых собирал бычки, набивал ими карманы, а потом дома сушил и употреблял.
Но огрызался, на всякий случай:
– Хорошо, что вам пенсию своевременно платят. А нам вот уже полгода не приносят.
– Разве мы не на одной почте ее получаем? – спросил Павел Дмитриевич, прикидывая, чем черт не шутит в часы перемен.
– Хотя бы и на одной! Но у вас одна почтарка, а у нас другая. И не приносит, зараза.
– Такого не может быть. Мы получаем деньги вовремя. Ты что? – начал горячиться гость.
– Ну вот, пожалуйста, а мы уже полгода не видим ни копейки.
– Не заливай.
– А я тебе говорю, что полгода не получаем денег. Вон, спроси у моей жены, – показал кум Ролит на Лидию, мотавшуюся по двору.
– Нечего и спрашивать, этого просто не может быть. Подумаешь, почтарка вам здесь погоду строит! Кто она такая? Деньги на почту приходят? Приходят. Куда же они деваются?
– Вот прицепился! – сердито ударил ладонью по скамейке кум Ролит. – Лида, иди сюда, – позвал он на помощь жену.
– Что такое? – вышла та за ворота и стала рядом с мужчинами.
Павел Дмитриевич не мог успокоиться: мало того, что этот сонный кум ничего не знает про бензин, так еще и про пенсию выдумки выдумывает, брехун.
– Кума, – обратился к Лидии сам гость, – сколько месяцев вы не получаете пенсии?
– Мы? – удивилась та. – Все вовремя получаем. Вчера, вот, принесли за этот месяц.
– Таки получаем? – деловито переспросил Иван.
– Вечером, – напомнила ему жена. – Ты что, забыл? Мы тут сидели возле ворот, когда почтарка пришла.
– Разве это была пенсия? За какой месяц? – бросился уточнять оскорбленный спорщик.
– Пенсия, конечно! Ты, Иван, иной раз, ей-богу, как придурок.
– И что, нам не должны ни копеечки?
– Не должны, – терпеливо доложила Лидия. – К сожалению. Это я к тому, что денег всегда мало, – объяснила она гостю свою шутку.
– Ну, тогда я не знаю. Я денег в руках не держал. Не знаю.
– А в чем дело? – обратилась кума Лидия к Павлу Дмитриевича.
– Кум жалуется, что вам полгода не приносят пенсию. Позвал, чтобы ты подтвердила.
– Что вы его слушаете? – всплеснула она руками, потом показала в сторону: – Вон видите пенек?
– Ага, – у Павла Дмитриевича от внимания засветились глаза, он даже прикусил уголок нижней губы: вот сейчас услышит что-то интересное.
– Так вот лучше у него спросите. Не получите ответа, так хоть не наслушаетесь глупостей. Он у меня мелет, что в голову стукнет.
Гость махнул рукой, дескать, бывает иногда, и вздохнул. Говорить было не о чем. Уже и длинные тени легли на землю, расстелили по ней плоские отражения людей, деревьев, зданий, изменили пропорции, удлинили их, добавляя всему стройности и неопределенно-мистического значения. Все на миг замерло перед вечерними хлопотами.
Будут дела, будут и разговоры.
Кум Ролит сосал размоченный табак, смотрел вдаль, не обращая внимания на критику со стороны жены, на обидные сравнения. Ничто земное его не задевало в высоком созерцании жизни. Жена даже опустилась на скамейку и минуту посидела рядом, она молчала и озадачено покачала головой, имея в виду что-то свое, невысказанное, возможно, и не понятое самой. Отдохнула немного и пошла работать дальше.
Приглашенный на вечерние посиделки Павел Дмитриевич поднялся и потопал вслед за кумой, посмотреть, с чем она толчется у порога. Кума возилась с краской – пробовала «освежить» входную дверь. Гость остановился и начал наблюдать. Движения у женщины были медленные, выверенные, ловкие, вызывали любование, как вызывает его всякая работа, выполняемая с удовольствием.
Павел Дмитриевич перевел взгляд на банку с краской, где виднелось что-то грязное: или жидкость с вяжущим материалом, или вяжущий материал с весьма сыпучим. Невольно взглянул на дверь. Там краска расплывалась бесформенными пятнами, стекала вниз, твердея на ходу, образуя маленькие колючие комочки, высыхающие и отпадающие на землю.
– Что это у тебя в банке? – не понял Павел Дмитриевич.
– Краска, – терпеливо объяснила Лидия, словно слепому или малому.
– Какой-то она странный вид имеет, – гость деликатно кашлянул.
– Это ребята в «пожарке» выбросили, так как она засохла, а я подобрала, размочила в солярке и вот крашу, – Лидия работала в районной пожарной части то ли уборщицей, то ли дворником, и по укоренившейся привычке ничего не выбрасывать таскала домой всякую гадость.
– Вижу, ты кума бережешь, работаешь сама, как пчелка.
– Я в эти дела не вмешиваюсь, – огрызнулся хозяин от калитки.
– Почему?
– Ты попробуй этой кадре угодить, вот.
– Почему я должен пробовать? А ты пробовал?
– Нет, – говорит Иван, – но знаю точно, что зря старался бы.
Солнце коснулось горизонта, бросая в пространство густые красные лучи, заливающие мир прозрачным розовым светом.
Иван покинул свою дислокацию и подобрался к компании. Кума на это не отреагировала – молча сопела, красила дальше.
Павел Дмитриевич возобновлять прерванный разговор не стал. Взял руки в бока и осматривал округу. Посмотрел на солнце, отметил, что оно перед заходом темнеет, становится не таким ослепительным, а его диск прибавляет в размере. Потом окинул глазом предвечернее небо, проследил за облачком, одиноко плывущим в сторону запада, и упал взглядом на землю. Глаза остановились на огороде, где кум с кумой выращивали картофель. В его взгляде растаяло равнодушие, прорезались заинтересованность и внимательность. Он еще некоторое время рассматривал то, что открылось его взору, потом начал инстинктивно протирать глаза, будто снимал с них невидимую пелену. Снова долго вглядывался в картофельные заросли. Беспокойство, охватившее его, не ослабевало и невольно проронилось жалобой:
– Почему-то все розовеет перед глазами. То ли солнце сегодня такое ядовитое, то ли старею уже.
– Нет... – неторопливо сказал кум. – Не беспокойся относительно зрения.
– Да? – с надеждой откликнулся Павел Дмитриевич и взглянул на Ивана, ожидая дальнейших объяснений.
– Ага. Это личинки американские картофель обсели. Доедают уже, – объяснил хозяин.
– О как! Так чего ж ты сидишь?
– А что я должен делать?
– Спасать картофель. Люди что-то же делают, ведут борьбу с этими вредителями: собирают с кустов или кропят ядом.
– Она, было, – показал Иван на жену, – поехала к сестре в Херсон, и бросила все. А я в эти дела не вмешиваюсь.
Павел Дмитриевич бросается на защиту огорода и огородных насаждений:
– Лида, ты, кажется, уже приехала из гостей! Брось эту дверь, она еще года два постоит неокрашенная. Лучше займись картофелем!
– Мы не брызгаем его, – ответила та спокойно, удобнее умащиваясь на детском стуле с кисточкой в руках. – Я все посчитала. Вы знаете, сколько надо потратить на химикалии для обработки картошки? Уйму денег! Поэтому я жуков каждый день собираю руками. А вот меня не было, и они развелись. Теперь жду, пока вырастут.
– Почему? Разве не лучше уничтожить личинки? Они такие прожорливые, что пока вырастут, так и вас поедят.
– Буду ждать. Личинки собирать не хочу. Они такие липкие и мерзкие, что к ним и притрагиваться противно. Бр-р! – дрыгается Лидия. – И вдобавок их высеялось, что маку. Вы что? Разве их все соберешь?
– Так обрызгайте! – терял гость терпение, едва не срываясь на крик.
– Э-э, нет! Этого делать нельзя.
– Всем можно, а вам – нельзя?
– Если не брызгать, так у меня и картопелька, и травка есть. Я, скажу вам по секрету, картофель никогда не пропалываю, прорываю только, то есть время от времени собираю урожай щирицы, березки, других сорняков и все лето кормлю ими поросят. А если побрызгать? Тогда траву надо выбрасывать. Зачем же такой убыток терпеть? Вы мою мысль поняли?
– Понять-то я понял, но хочу уточнить: так вы огород никогда не пропалываете?
– Сохрани бог! Говорю же, я удаляю сорняки руками, вырываю их, да и все.
– Вы что? А как же земля? Помню, как-то приходил к вам, когда вы картофель копали, так она была твердая, как камень. Иван матючья гнул в три погибели, загоняя в нее лопату. За ломик кое-где брался. Всех богов вспоминал, всех святых и архангелов, а также их матерей.
– Ой, не напоминай, – встрял Иван. – Я картофель ненавижу лютой ненавистью. Да пропади она пропадом на всем белом свете, пускай ее люди забудут, пускай она, гадость, с земли не вылазит! Она мне не нравится. Если бы не эта глупая женщина, – он показал на Лидию, – я без картофеля век бы прожил.
– То есть ты совсем не ешь картофель? – переспросил Павел Дмитриевич и запрятал лукавую улыбку в уголки губ.
– Нет! – рубанул кум Иван рукой воздух. – Я – мучной человек.
Вечерело, расползлись густые сумерки. То здесь, то там слышалось бряканье посуды – люди начали собираться к ужину. Накрывали столы, выносили сякое-такое столовое причиндалье, готовились вволю поесть в прохладе, отдохнуть и поговорить о разных пустяках.
Заторопилась и кума Лидия.
– Сейчас и мы что-то поставим на стол. Чего ты сидишь, Иван! – прикрикнула на мужа. – Выноси стол во двор. А я сейчас помою руки и приготовлю ужин.
– Это можно! – взбодрился кум.
Павел Дмитриевич пошел к машине, стоящей около ворот. Пошарил под сидением и достал бутылку хорошей водки. Крякнул, предвкушая нехитрое удовольствие, громыхнул дверцей и возвратился во двор, где посредине уже стоял стол. На нем успели появиться домашний хлеб, сало с мясной проростью, салат из помидор и огурцов, краснощекие яблоки.
– Так, – сказал он. – Все есть, а гаряченького не видно, – и он поставил между тарелками с едой свою бутылку.
– Поддерживаю твой почин! – подхватил игру кум Иван. – Лида, выручай, чтобы твой муж не оказался брехуном.
– Ой, миленький, разлюбезный мой, – умилилась жена. – Вот-вот закипит вода. Я тебя не подведу! Приготовлю все, чего ты хочешь, – приказывала, а тем временем выставляла на стол малосольные огурчики, все в крапинках мелко порезанной зелени; сваренные вкрутую, коричневатые, как загорелая кожа, куриные яйца.
– А картопельку да с зажарочкой, – напевал кум Иван, снимая хрупкую, чуть темноватую кожуру с молодого лука и измельчая его в подтопленное на сковородке сало. – Картофель почистить или в «мундирах» отварить? – спросил, отставляя с огня чайник с кипятком.
– На черта она нужна? – вмешался гость. – Обойдемся отваренными рожками.
– Сдурел? – вытаращился на него хозяин. – Где это видано, чтобы водку закусывали вареной мукой?
– Почисть! – тем временем послышался голос Лидии.
– А где она?
– В ведре. Глянь за дверью, я сегодня молоденькой подкопала.
– Ага, ага... Как же вы не видели? – цитировал Иван поговорку из побасенок присутствующего кума.
В конце концов расселись. Выпили по первый, принялись за закуску.
– Бери, Павел, картопельку, – угощал Иван своего кума, которым гордился за его талант рассказчика, за известность в писательских кругах. – Ты – наш кум дорогой, наш просветитель, какую же ты нам вкусненькую водочку принес, – ласкал гостя словами, а за этим не забывал подкладывать разваренный белый картофель в свою тарелку. – Это новый сорт, – комментировал невинно, – в этом году впервые посадили. Эх, и урожай же будет, помоги нам боже! – прикрыл веки в предвкушении вкусной еды.
– Ты же говорил, что не ешь картофель, – улыбнулся гость.
– Нагадай козе смерть, – буркнул Иван.
– То-то и оно, – заметил Павел Дмитриевич.
За столом воцарилась тишина, настали святые минуты – люди ели.
***
– Кум! – ни свет, ни заря послышался от ворот голос Ролита.
Быцык угрожающе зарычал, и кум Павел вышел на крыльцо.
– Это ты? – не смог скрыть удивления. – Чего орешь, как резаный?
– Здоров! – бодро ответил Иван. – Давай съездим в Третьякову к моей родственнице, – предложил невозмутимо, будто и не он потревожил утренний покой, почитай, всей улицы.
– Зачем?
– У нее груши уродились. Два деревца в этом году вошли в пору, как облитые стоят. Вот такие величиной, – показал кулак. – Дюшес. Сладкие, как мед, душистые, как степь, а нежные, как неизвестно что: за сутки гниют на ветвях и опадают. Надо безотлагательно снимать и – на переработку их!
Павел Дмитриевич почесал затылок, припомнив, что вчера не заправился бензином.
Иван тем временем наклонился туда, где за забором стояла канистра, достал и поставил ее на виду.
– Я со своим горючим.
– Ну, если так, то можно, – согласился Павел Дмитриевич.
Кум Иван не преувеличивал, груши, в самом деле, были спелые и вкусные. Его родственница не знала, куда посадить негаданных помощников, не знала, чем угостить их.
– Может, борщику гаряченького? Или вареничков налепить? А сметанки не желаете? Она у меня – хоть ножом режь. Да с молодым лучком ее... – хлопотала возле них хозяйка.
– Борщу хорошо бы, так мы еще не заработали, а вот чего-то холодненького попить можно, – попросил Павел Дмитриевич.
– Молока из погреба принести?
– Нет, водички, если есть вкусненькая.
– Есть, есть, из криницы, – подала женщина запотевшую кружку.
– Я молочка выпил бы, если б меня спросили, – напомнил о себе Иван.
– А Господи, да разве у меня его нет? Сейчас.
Пока Павел Дмитриевич одолевал кружку водички, кум напился молока, не успевшего остыть после утренней дойки, и мужики принялись за работу. Более мягкие и желтые плоды съедали прямо на дереве, так как их в ведро класть нельзя было – подавятся, а слои тугоньких плодов отделяли один от другого листьями хрена. Говорят, что так они сохраняются дольше. Перезрелых груш было много, поэтому сборщикам урожая перепало полакомиться ими вволю, чтобы долго не хотелось.
На обед, хоть хозяйка, видно было, приглашала от души, оставаться не стали. За четыре часа, что ушли на собирание груш, разгорелся день, насела жара, и аппетит, перебитый фруктами, пропал. Как ни старалась Иванова родственница отбояриться «угощением», пришлось платить за работу частью снятого урожая, тем не менее мужественно рассталась с его доброй третью, полностью загрузив багажник машины. С тем они и уехали.
– Везем женам работу, – констатировал Павел Дмитриевич.
– Ага, – поддакнул кум.
Солнце миновало зенит, но жгло беспощадно. Такая погода стояла уже с неделю – жатва! Как зависает жаворонок высоко над полями, что едва различается на фоне неба его точка, как начинает долетать оттуда песня, одолевая тяжелое марево раскаленного воздуха, значит, наступает пора собирать хлеб. Тогда людям и Бог помогает – не бросит на землю ни капли дождя. И растекается над миром, обнимая его сухими руками, жара, благоухая разнотравьем и черной работой до седьмого пота.
Изнурило и мужчин от тех игр с грушами: не тяжело было, но утомительно. А здесь еще духота в раскаленной металлической коробке, безветрие, пыль выхватывалась из-под колес, настигала машину, вертящимися клубками влетала через открытые окна и оседала в салоне. Дышать было ничем.
Кум Иван мирно клевал носом. И вдруг подпрыгнул на сидении.
– Стой, ой стой, умираю!
Павел Дмитриевич не успел ничего спросить. Резко остановил машину, глаза вытаращил на кума, а тот – прожогом айда в кусты. Вскоре оттуда послышались кряканье и стоны.
– Кум! – крикнул Павел Дмитриевич.
– Га!
– Ты там живой?
– Нечистый бы поднял эту родственницу и трижды об землю хрястнул. Лучше бы я борща горячего наелся, чем ее молока, ее груш гнилых. Ведьма средневековая, метла распатланная, ступище деревянная. Знала же, что со мной случится, а промолчала... Чертяка, зараза болотная...
– Да не ругайся ты, как антихрист! Ополоумел что ли? Разве можно такое на родственницу говорить.
– Зажалела мне молока, гадюка, теперь живот наизнанку выворачивает, – Иван вышел из кустов, держа в руках расстегнутые штаны. – Какая она мне родственница? Седьмая вода на киселе.
– Ты уже, как дед Анисим. Почему штаны не застегнул?
– Ой, братцы, не доеду домой живым, так крутит внутри, так бурлит. Не мешай болеть.
– Так ехать или подождем?
– Поехали помаленьку, только не тряси меня.
– Горе мне с тобой. Как дитя малое! Когда ты успел молока напиться, что я не заметил?
– В том-то и дело.
– Ты что, не знаешь, что молоко с грушами – это гремучая смесь?
– Забыл.
Останавливались часто. В конце концов часа через два произошел перелом. Ивана попустило, и он снова начал подремывать.
Павел Дмитриевич боялся ехать быстро, чтобы не разбудить новую революцию в животе кума. От медленной езды сделалось еще более душно, так как тяжелый воздух совсем не двигался вокруг них, а хрупкие человеческие легкие не в состоянии были преодолеть его всеобъемлющую инерцию. Казалось, что следующий вдох сделать уже не удастся. Не удастся доставить в легкие загустевший, как мед, воздух, напитать кровь каплей перегретого кислорода. Смерть сделалась видимой. И от нее надо было обороняться доступными способами.
– Ты смотри! – разбудил Ивана его смешливый кум.
– Га? Что?
– Пока ты метил дорогу, мы неизвестно куда заехали, – сказал он растерянно. – Твоя Третьякова будто в другом мире лежит! Сто дорог от нее идут и все мимо Дивгорода. Может, нас леший водит?
– Лешие только ночью водят. А ты, если не знаешь географии, не брался бы ездить.
Они остановились на окраине хутора Полевого, откуда уже хорошо и, главное, красноречиво просматривались высокие промышленные сооружения Дивгорода, его многоэтажные жилые дома.
– Где мы оказались? – закручинился Павел Дмитриевич, осматривая окрестности поселеньица в несколько скособочившихся халуп.
– Как где, ты что, не видишь? Это Тургеневка.
– Что-то для Тургеневки тут хат маловато, ну да ладно. Тогда отсюда я легко дорогу найду, – издевался дальше водитель над кумом, зная его абсолютное неумение ориентироваться на местности, которое тот тщательно скрывал.
Подъехали совсем близко к своему поселку, остановились. Иван снова побежал на профилактику в кусты, а Павел Дмитриевич вышел из машины, вдохнул пробирающий чистотой до костей степной воздух.
– Кажется, мы снова заблудились, – сказал он. – Я по всему вижу, что это чужое село, а какое – не пойму.
– Это? – Иван показал на Дивгород, лежащий теперь перед ними, как на ладони.
– Ага.
– Так это же Тургеневка!
– Ты говорил, что перед этим была Тургеневка. Чего ты мне голову морочишь?
– Я не специально.
– Тогда говори, куда дальше ехать, ты здесь бывал десятки раз и должен ориентироваться.
– Холера его знает, езжай куда хочешь. Я все села наизусть не учил.
Дальше поехали молча. Шутка исчерпалась. Посадки давно отцвели маслинами, и теперь оттуда повевало запахом созревших терпко-сладких ягодок. Это благоухание было не таким стойким и щемящим, как цветы в мае, но разогретая солнцем скудненькая мякоть диких плодов отдавала иной, неуловимой полнотой, теплой печалью по весне и светлым заблуждением о вечной жизни.
Ощущения переполняли душу, переливались из нее куда-то в сокровенные резервуары, смешивались там с родовой памятью предков и выныривали осмысленным восприятием мира. Казалось, человеку что-то приоткрывается в нем, оставаясь, однако, неосознанным, что оно давно знается душой, давно живет в ней в состоянии дремотном, пассивном. И только в случае необходимости старинные знания всплывают на поверхность и напоминают о себе неуловимой интуицией.
Возможно, эти мысли промелькнули в путешественниках одновременно и они ощутили себя ничтожными крохами перед стихией знаний, остающихся в них наследием веков. Возможно, обоим захотелось подняться над этой стихией и ощутить пусть иллюзорную собственнуюзначимость, как поднимается над морем утлый дельтаплан и за миг до посадки на берег притворяется, что покорил океан.
– Ты, кум, если лучше меня знаешь дорогу, так не намекай на это, а говори прямо, – оскорблено отозвался Иван, запоздало поняв, какую шутку играл с ним водитель.
– Прямо поперед себя, – уточнил Павел Дмитриевич языком того белоруса, которого уже и след простыл в Дивгороде, а они его все цитировали.
– Точно! – согласился Иван и, довольный собой, прибавил прибаутку последнего дивгородського сапожника Григория Колодного. – Делай дело, чтоб я видел.
А дальше была зима и вечерние чаи с грушевым вареньем, где каждый ломтик плавал в сиропе, будто янтарный.
4
На следующий день после визита Акулины и Татьяны Павел Дмитриевич пребывал в хорошем настроении, и с самого утра напевал себе что-то под нос и приставал к жене с вопросом:
– Как ты думаешь, почему вдруг детям захотелось моих побасенок?
Евгения Елисеевна как раз делала то, чего никому не доверяла, – выкапывала картофель. В конце концов и доверять эту работу ей было некому – они с мужем жилы вдвоем, обе дочки обосновались в городе.
А если говорить конкретно о картофеле, то любимому мужу она поручала весной – копать лунки при его посадке, летом – обрабатывать кусты химикатами, а осенью – заносить урожай в погреб. Вот и все. Остальное делала сама. Вообще любила на огороде возиться, любила запахи земли, перепрелых картофельных корней и завядшей овощной ботвы, а также дожившего до осени усыхающего бурьяна.
– Я вот думаю, может, не надо было рассказывать? Это ж я у родной дочери хлеб отбираю. А она о чем будет писать? – вдруг забеспокоился Павел Дмитриевич.
– Оставь, не волнуйся, – успокоила его жена. – У нашей дочери идей и без твоих побасенок достаточно, было бы здоровье писать. И потом, она где-то там живет себе, а тебе надо здесь с людьми контакт не терять.
– Нет, надо с ней согласовать. А, как ты думаешь?
– Пойди позвони, пока у нее есть время, свободное от процедур. Там возле аппарата лежит листок с номером больничного телефона.
Возвратился Павел Дмитриевич к жене минут через двадцать удовлетворенный и даже вдохновленный разговором с Низой.
– Сказала, рассказывай все, что помнишь. Если – подчеркнула! – дети в дом идут, это хорошо. Дети приносят счастье, благосостояние и долголетие.
– Ну вот, а ты сомневался.
– Слушай, кончай копать, – захлопотал возле жены Павел Дмитриевич. – Солнце снова припекает.
– Вот наберу ведро доверху и все. Иди, ставь чайник, попьем гаряченького и спрячемся в тенечек аж до обеденной дойки.
На обеденную дойку Павел Дмитриевич жену возил на машине. Не хотел, чтобы она перегревалась под солнцем, в их возрасте это опасно. А утром пусть бегает взапуски с Манюней, это полезный моцион.
Однако попить чайку им не удалось.
Залаяла Жужа, опережая Быцыка, да так залилась, будто во двор завалил цыганский табор, – вызывала хозяев к гостям. У Жужи уже пена изо рта летела, когда хозяева появились во дворе с ведром картофеля.
Оказалось, пришли Пепикова дочка и Толик Кука. Кого-кого, а Надежду Тимофееву Павел Дмитриевич не думал, не гадал увидеть в своем дворе. В отличие от самого Пепика, они с матерью так обиделись на него после рассказа о Николае Егоровиче, что не приведи Бог. Темные люди, не понимают, что существует литературный вымысел, утрирование материала, преувеличение, чтобы сообщить произведению большую выразительность, достоверность.
– Зачем вы ославили моего мужа? – при встрече взялась в бока Вера Ивановна, жена Пепика. – Он же не немой, а лишь заикающийся. Что теперь о нем люди подумают?
– Какие люди?
– Всякие!
– Всякие ничего не подумают.
– Такое выдумать и «ничего не подумают»! – перекривила она виновника ее злого раздражения.
– Конечно. Пойми: тем, которые знают Николая Егоровича, известно, что он не немой. А тем, кто не знаком с ним, вообще все до лампочки. Разве можно думать о том, кого не знаешь?
– Так они же из рассказа узнают! Что вы прикидываетесь, будто не понимаете меня? – наступала на насмешника Пепичка.
– В рассказах всегда преобладает выдумка. Это известная истина.
– Пошли вы, Дмитриевич, к чертям! Ей-богу, если бы не ваш возраст, то не знаю, что бы я сделала.
– Это другое дело, – засмеялся он. – Если б же не мой возраст... – намекнул, что и она, дескать, ему по душе.
– Сколько вы будете шутить? Тьху! – гневалась дальше Вера Ивановна. – Еще и при ребенке!
– А что я плохого сказал? И вообще, не я затеял эту перепалку.
Так они поговорили, и после этого при встречах будто не замечали друг друга. Наиболее неприятным было то, что свидетелями ссоры стали и эта девушка, Надежда, и много других людей.
– Дядечка Павел, – сказала теперь девушка. – Извините нам. Я все поняла и маме объяснила.