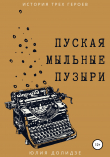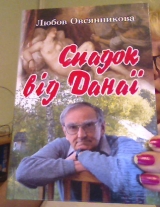
Текст книги "Наследство от Данаи"
Автор книги: Любовь Овсянникова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 27 страниц)
– В тебе таки много есть восточного. Удивительно, как кровь человеческая несет через века и поколения традицию, на которой она замешана! А восточная традиция общения с людьми – это и есть доброжелательное и изысканное гостеприимство. Без нее, наверное, было бы невозможным распространение христианства. Ведь Христос нес людям весть о сокровищнице их душ, то есть пророчил, в благодарность за ночлег. Через приветливость и сердечность беседы склонял их к своей теории. И вот теперь я наблюдаю то же самое – наши домашние беседы обогащают молодые души. Только теперь не проповедник идет к людям, а люди ищут его, такого, который без вранья утолит их жажду прекрасного и правдивого. Люди больше не доверяют тем, кто нагло врет с экранов телевизоров. Может, его, злодея коробчастого, вовсе выключить, а?
– Это ты преувеличила, – не обратил Павел Дмитриевич внимания на последний вопрос жены. – А если быть точным, то вообще все выдумала, – он говорил на манер охотничьих побасенок Петра Макаровича Трясака. – Иисус для проповеди выбирал высокую пустынную гору или светлое спокойное озеро.
– Да знаю я! Знаю, читала. Но и ты любишь отдыхать возле тихой воды. Вот, правда, гор здесь нет... – подколола его жена. – Не задирай нос, я же тебя не с Христом сравниваю, а говорю о твоей восточной сущности. В конце концов я не виновата, что вы с Иисусом одной крови. Ведь Ветхий Завет утверждает, что Авраам не просто родился в Уре Халдейском, а даже после переселения на другие земли его потомки еще в двух поколениях возвращались на родину предков, чтобы взять себе жену именно оттуда. Так вот, великие имаот[1] – тоже ассирийки. А если серьезно, то Христос говорил, что синагога тесна для тех великих слов, которые он произносил, что для его мыслей нужен простор, открытое небо, широкая пустыня, морская гладь. Но и тебе, я вижу, лучше, когда ты с людьми общаешься не в четырех стенах. Почему так?
– Нынче есть версия, что Авраам родился в Египте и об Уре Халдейском Танаи[2] написали, стараясь после Вавилонского плена[3] найти какую-нибудь культурную общность с вавилонянами, то есть с халдеями, которые их сумели победить. – И Павел Дмитриевич задумчиво процитировал недавно прочитанное об Иисусе Христе: – «И миру навеки запомнились эти сомкнутые в молчании уста, опущенные вниз глаза Господние».
– Не желаешь иметь такого родственника? – жена взяла обычный для их вечерних разговоров тон – полушутливый, задиристый, в котором им удобнее было говорить о вещах, возвышающихся над бытом. – Хорошо, я предложу другое. Некоторые авторы утверждают, что Иисус был украинцем, а Галилея – это ответвление Галиции.
– Ага, теперь ты хочешь присоседиться к Христу? – засмеялся муж, налегая на слово «ты». – Неужели, в самом деле, такое пишут?
– Я тебе говорю! Но это еще не все чудеса. Оказывается, Месопотамия была заселена выходцами с Таврии и, значит, шумеры – это наши мелитопольцы. Так что ты – здешних кровей вместе со своей Халдеей.
– Где ты это вычитала?
– У Каныгина.
– Кто такой? Почему я не слышал?
– Низа говорит, что научный работник. Она как-то встречалась с ним, он производит впечатление человека, весьма увлеченного своими идеями.
– О, Низина деликатность о многом говорит. «Весьма увлечен...» – намек на проблемы со здравым смыслом.
– Я просмотрела то, что ты читаешь, и знаешь, что подумала по поводу гипотезы о египетском происхождении евреев?
Павел Дмитриевич отложил в сторону газеты и с любопытством посмотрел на жену. Она продолжала:
– Если Моше Рабейну[4] вывел в пустыню опальных жрецов Атона, то, конечно, они должны были сорок лет топтаться по ней. Сначала просто надеялись переждать тяжелые для себя времена, считали, что в Египте что-то изменится к лучшему и им можно будет вернуться. А когда убедились, что этим чаяниям сбыться не суждено, то долго обдумывали, куда податься, где осесть, под каким предлогом посягнуть на земли Ханаана, которые им пришлись по душе. На это тоже ушел не один год. Ведь захватить заселенные земли под свое владение стремительным набегом они не могли, так как их было мало, и они обратились к историческому обоснованию своих претензий. Определенное время ушло, чтобы запустить выдуманный ими миф в среду ханаанцев, психологически приучить их к нему. Этот ход у них сработал. Вот так появился миф, что Бог приказал Аврааму переселиться с Ура Халдейского в Ханаан.
– И значит, евреи – это арабы, как и египтяне... Где же истина?
– Возможно, как всегда, посредине? В самом деле были евреи, вышедшие с Ура Халдейского. Они переселились на землю Палестины и всегда жили там, не имея в своей истории никаких душещипательных приключений. А с другой стороны был Египет, где произошли известные события с Эхнатоном и его революцией, неудачная попытка религиозного переворота с целью сосредоточения верховной власти в одних руках. После поражения Моисей вынужден был бежать от репрессий и выводить из-под них своих пособников. Он, как образованный человек и верховный жрец Атона, хорошо знал историю соседних народов. И вот в пустыне ему приходит мысль воспользоваться тем, что наследники Авраама были чужеземцами в Палестине. А раз так, то их могли преследовать, какая-то их часть могла слоняться по миру в поисках лучшей доли. И он отождествил себя с халдейскими бродяжками, нагородив россказней о египетском периоде жизни и возвращении оттуда на родные земли.
– И значит, никакого египетского рабства и плена не было. Очень правдоподобно...
– Не удивляйся, дорогой, что я сказала о Христе. Когда речь заходит о Востоке, то сразу именно он приходит на ум, как высшее и ярчайшее его олицетворение. Вдобавок Христос говорил на твоем родном арамейском языке.
– Иисус говорил на сиро-халдейском диалекте.
– Разве это не то же самое?
– Я просто уточнил. Арамейский язык имел два диалекта: западный – сирийский и восточный – халдейский. Первым пользовались в Сирии, а вторым – в Вавилонии. Христос знал оба диалекта и часто пользовался ими одновременно.
– И это называлось сиро-халдейским диалектом?
– При жизни Христа на таком языке говорили почти все грамотные евреи, пользующиеся халдейской Библией Таргум.
– Рассуждая по аналогии, и наш казацкий язык, соединивший в себе русский и украинский, – тоже иллюстрация сложных исторических процессов, отраженных в повседневной культуре народа.
– Конечно, – согласился Павел Дмитриевич. – Но она, несчастная, попала в когти политических спекулянтов и стала поводом к опосредствованному геноциду. Стала орудием уничтожения носителей этой интересной языковой архаики.
Собеседники тяжело вздохнули и беспомощно замолчали. Так всегда, о чем бы ни зашла речь, она обязательно приводила к острым вопросам текущего периода, где супруги далеко не всегда находили общий язык.
Затем Павел Дмитриевич и Евгения Елисеевна зажили жизням героев, о которых читали в книгах, и надолго выпали из тех долгих суток, из июльской ночи и вообще из того времени.
8
На следующий день родителей в конце концов навестила Низа Павловна, приехала утром, по холодку. Перенесенная болезнь не отразилась на ее внешности, но это никого не удивляло, как и не успокаивало, – Низа Павловна имела счастливую особенность всегда хорошо выглядеть. Даже иногда грустно шутила по этому поводу.
– Дочка, как ты нас напугала! – бросилась к блестящей, будто она была новой, машине Евгения Елисеевна, чтобы обнять вышедшую из нее дочку. – Еще и на машине. Хоть бы ты за руль не садилась в неуверенном состоянии.
– Ничего страшного не случилось, – улыбнулась Низа, обнимая одной рукой маму, а второй вынимая из салона сумку. – Моя вегетатика затеяла капитальную перестройку и немного выбилась из ритма. Только и всего. Счастье, что своевременно вмешались врачи.
– Еще и рано тебе хворать этой вегетатикой...
– Тут уж ничего не поделаешь.
– А как Сергей поживает, он вернулся из командировки?
– Только вчера приехал.
– Как бы так устроиться с работой, чтобы не мотаться по командировкам? Твоя болезнь – надолго, и теперь тебя нельзя оставлять дома одну.
– Как-то устроимся...
Они прошли в дом, где их, завидев гостью в окно, ждал Павел Дмитриевич, держа марку и скрывая нешуточную озабоченность дочкиным состоянием здоровья.
Весть опередила события, то есть Низа не успела почувствовать, что приехала домой, собственно, психологически ее здесь как бы еще и не было, а школьники уже узнали о том. Удивляться не приходилось, так как приближалось первое сентября, ученикам выпускного класса аж кричало определяться с сочинением, и многие терялись, где брать темы. Кто же упустит случай встретиться с писательницей, пусть даже она приехала на день-два, чтобы увидеться с родителями и побыть там, где прошло ее детство?
В первый день, спасибо им, беспокоить гостью не стали, а со следующего – пошли звонки. Сначала от тех, кто считал себя Низиной родней, хоть бы и дальней, а потом и от малознакомых. Чувствовалось, что Дивгород изменился, и люди стали другими в хорошем понимании – деликатнее, но и настойчивее: дети умели культурно извиниться, в хорошей манере спросить разрешения прийти, а тогда наседали не на шутку и выкачивали из Низы максимум информации.
– Подождите, – смеялась она, когда к ним шумной стаей завалили школьники, – ведь мы – конкуренты. Мне самой нужны темы, мысли, интересные сюжеты! – оборонялась Низа от натиска.
– Что вы сравниваете? – наглел на глазах Сергей Рудык, щеголяя красивой внешностью, как это умеют делать, еще неосознанно, физически развитые парни.
– А вы расскажите о себе, как начинали писать, как ощутили влечение к литературе, – советовал кто-то.– Воспоминаниями поделитесь. Это ведь тоже прошлое нашего поселка, принадлежит его истории.
– И о своих родителях расскажите, а то они у вас слишком скромные. Павел Дмитриевич все больше о других рассказывает, а о себе ни гу-гу.
– О чем вы написали первый раз?
– Расширенное интервью, – качнула головой Низа Павловна. – Ну что ж, придется. Тогда слушайте ответы по порядку.
Возле нее собрались Татьяна Коржик, Киля Калина, Василий Мищенко, Сергей Рудик, Игорь Куница, Вукока – а как же! – и Олеся Верхигора, которая и привела сюда всю компанию, пользуясь тем, что ее бабушка когда-то рассказывала маленькой Низе много хороших «страшилок» из народного хоррора[5].
9
Тогда как, и сейчас, лето было на исходе. Настал поздний август и после июльской жары принес первое, еще робкое похолодание. Люди почувствовали облегчение, особенно приятное в утреннюю пору, после ночей, уже по-осеннему свежих. А днем солнце еще пекло, будто наверстывало пасмурные дни, когда шел дождь, а может, просто не хотело уступать свои позиции. Однако донимало оно лишь в солнечных закутках, а на свободном пространстве повевал прохладный ветерок и приносил приятную бодрость. Воздух, настоянный на разогретой увядшей ботве, спелых овощах, яблоках, дынях, был сложной приметой осеннего преддверия. От его вдыхания возникало острое ощущение быстротечности времени, быстротечности жизни, неотвратимости разлук, чего-то еще мудро-щемящего, обреченно-унылого, но очень знакомого, что будто было неожиданным приветом из таких седых глубин, откуда ничто не долетает, только эта непонятная причастность к потере вечности.
Родители выкапывали картофель, а девочка играла рядом, развлекая себя незаметными вещами: где-то сломала сухой стебель, повертела его в руках, а потом согнала им со скрипучей свекольной листвы прозрачного мотылька. Затем потопала дальше по огороду, склонилась над подсохшим кустиком паслена, сорвала чернильного цвета ягодку и потянула в рот.
– Выбрось! – увидел отец. – Это нельзя есть.
Ребенок послушался, а через минуту ее внимание привлек сверчок, усевшийся на выкопанном картофеле, ссыпанного горкой, который образовывал целую пирамиду. Сверчок был в яркой зеленой одежде и имел веселые глаза. Девочка потянулась, чтобы достать его, залезла на горку, но влажноватые клубни собранного урожая под весом маленького тельца начали скатываться вниз. Она не удержалась на ногах, упала на спину и съехала по картофелинам, как на роликах, до самой земли, развернув почти всю горку, и в тот же миг забыла о виновнике своих стараний.
– Доця паля, – спокойно известила родителей.
– Ничего, – откликнулась мама. – Доця встанет, и снова все будет хорошо.
– Доця тане, – смирно повторил ребенок, поняв это как дельный совет, затем перекатилась набок, встала на четвереньки и ловко вскочила на ножки.
Вдруг снова услышала знакомое сюрчание – пение сверчка. Теперь он сидел на кусте георгин и будто звал ее за собой – при ее приближении, когда она еще не намеревалась потрогать его, а лишь хотела рассмотреть внимательные умные глаза, снимался и скакал дальше во двор. «Доця» погналась за ним, одолела несколько метров, снова едва не упав, а потом, поняв, что не догонит беглеца, развернулась, направляясь назад к родителям. И здесь увидела приоткрытую входную дверь в дом.
Что-то ее поразило, какое-то несоответствие приобретенным представлениям о мире. Но что это было и где оно было? Она остановилась, в раздумье осмотрелась по сторонам и снова устремила заинтересованный взгляд на дверь. Так, эта щелка почему-то имела темный цвет, была почти черной. Почему? Ведь, когда сияет солнце, за дверью в коридоре всегда светло. Она ощутила привкус тайны, исходящей оттуда. Кто там такой черный притаился, спрятался и не показывается?
Ребенок была девочкой. Но эта девочка имела много мальчишеских черт, в частности, такую – она тянулась именно к тому, чего не знала и чего от незнания опасалась. Оно дразнило ее воображение, заостряло любопытство, вызывало желание исследовать, выучить и перестать бояться. Страх она не любила, и врожденный ум, очевидно, передавшийся ей по генетической линии от предков, подсказывал, что избавиться от него можно лишь тогда, когда будешь четко представлять то, что его вызывает. Поэтому девочка тихо, насторожено подкралась к двери – ей больше не хотелось испугать кого-то, кто там находится, как она испугала сверчка. Она хотела прекрасной встречи пусть с кем-то или чем-то, чтобы можно было закрыть глаза от восторга и «ах!» – всплеснуть руками.
Девочка толкнула дверь, и от этого щель немного увеличилась. Через нее в коридор впрыснула ослепительная полоса солнца, упала на пол, когда-то давно вымощенный кирпичными плитками, теперь стертыми и покрытыми густой сеткой мелких трещинок, отразилась от них и рассеялась по помещению, сделав серым закованное стенами пространство, вырисовав в его глубине еще одну дверь, ведущую в столовую.
Остановившись на пороге, девочка попробовала приоткрыть дверь шире, но это ей не удалось – дверь была массивная и тяжелая. Девочка продолжала всматриваться в глубину коридора, и ей казалось, что с каждым мигом туда прибывает все больше и больше света, будто оно стекало сюда отовсюду, как вода в лунку, – это ее глаза постепенно привыкали к сумраку.
Солнечный свет имеет не только яркость для зрения, но и тепло для осязания – он нагревает предметы. Девочка изо всех сил налегла на нагретую до горячего состояния дверь и все-таки приоткрыла ее. Затем переступила порог и стала босыми ножками, трогательно замаранными огородным черноземом, на поверхность кирпичного пола. Прикрыв от удовольствия веки, вслушалась в приятное тепло, почувствованное ногами, не такое влажное, как на перекопанной земле, а сухое, легкое, неприлипчивое. Ветерок сюда не доставал, не обвевал ее – загорелую, одетую лишь в трусики – свежестью и прохладой, и ей стало тепло сверху тоже, даже не тепло, а горячо – солнышко как раз разгорелось вовсю.
В коридоре оставался сумрак, неуклюжий и притихший, он все еще страшил и притягивал. Отец очень любит свет, солнышко и всегда широко открывает входную дверь, так что здесь не остается ни единого темного пятнышка, становится нисколько не страшно. Воспоминание об отце отвлекло девочку от нечетких намерений, ее покинуло ощущение таинственности, и она передумала заходить в помещение, раздумывая, чему отдать предпочтение: побежать к родителям или побродить по двору. Но в это время из серого вместилища коридора послышалось мяуканье маленького котенка, будто он звал на помощь.
– Киса, киса, – откликнулась девочка. – Кис, кис, кис! – позвала громче.
Она мужественно пересекла темное пространство коридора и зашла в столовую, где было светло и тепло от солнечных лучей, вливавшихся сюда из окна. Киски она не нашла, а ее слепое еще дитя, в самом деле, ползало посредине комнаты. Если бы не плакало, то попало бы кому-нибудь под ноги. Девочка взяла невесомое тельце и, лаская его, отнесла в коридор на отведенное для него место. Слепой сосунок их Муськи ощутил запах родного гнездышка и, не веря своему счастью, беспокойно заползал, тычась то в одну сторону, то в другую, пока в конце концов не успокоился. Тогда девочка с облегчением возвратилась в столовую.
Вот уж она здесь похозяйничает! Возможность остаться в доме одной, чтобы никто ей не мешал, выпадала не часто, а если сказать точнее, то она вообще не помнит такого. Шкаф с посудой? Нет, это вполне знакомая вещь. Диван? А что там интересного? Окно? Да, оно выходит во двор, и теперь можно взглянуть, каким он кажется с такой высоты.
Девочка деловито осмотрела кухню. Она знала, что ей нужно, – маленький стульчик, который мамочка иногда подставляет под ноги, когда вышивает скатерть. А она сама обожает сидеть на этом стульчике перед духовкой, когда вокруг холодно, а в плите гудит огонь, согревает дом и дышит из духовки теплом. Но это зимой, а сейчас – давно уже лето.
Стульчик она нашла в гостиной под столом, на котором стояла швейная машина. А-а, это мама вчера шила ей новое платье и снова подставляла стульчик под ноги. Очень удобная вещь этот стульчик, и не тяжелый. Девочка притащила его в кухню, пристроила перед стулом, стоящим под окном у обеденного стола, залезла сначала на стульчик, а дальше и на стул. Наклонилась через спинку стула, опершись локтями на подоконник. Эге, отсюда двор не виден, где-то под межой их усадьбы бегали куры, а за ними гонялся глупый песик Кабик. Маленький еще, совсем щенок. Это они с отцом недавно принесли его от дедушки Полякова. Папа, когда ласкал щеночка, повторял: кабыздох, кабыздох.
– Не мели при ребенке! – прикрикнула на него мамочка.
– Что здесь такого? – не понял отец, он вообще любил редкие словца и записывал их себе, это «кабыздох», наверное, тоже где-то вычитал или услышал.
Девочка далеко не глупая, как думает мамочка, она поняла, что запрещенное слово состоит из двух таких, которые означают пожелание песику смерти. А это нехорошо. Все в природе должно жить. И поэтому мама наругалась на отца, хотя и видела, что он просто шалит, как ребенок.
– Каба, – повторила за отцом девочка, так как она, понимая взрослых, выговаривать всего еще не умела.
– Ха, смотри! – обрадовался отец. – Доця придумала песику имя. Он у нас будет Кабиком.
Кабику нравилось гонять кур, а когда он очень надоедал им, они его клевали, и тогда шутник убегал восвояси. А вон и Муська охотится на воробышков! Хочет мясца съесть, чтобы молоко ее деткам было. Конечно, зимой есть мыши, а летом, папа рассказывал, они жир на полях нагуливают, поэтому киске приходится довольствоваться воробьями. А что с них возьмешь? – одни перья.
Девочка долго наблюдала за Кабиком и Муськой, но вот ее друзья убежали, и она загрустила без дела. Можно было бы еще что-то интересное высмотреть из окна – отсюда так хорошо было видно! – но тогда надо забраться на подоконник. А как? Она повернулась к столу, попробовала влезть на него, но не смогла преодолеть высоту, на которую надо было поднять свое тело. И все же не оставляла попыток. В конце концов ей удалось лечь на столешницу грудью и, подтягивая себя руками, задвинуться на нее дальше, пока ноги не повисли в воздухе. Она приложила еще немного усилий и в итоге уселась на стол. Поле зрения не расширилось. Как и раньше, оно всего лишь достигало забора с соседями, зато теперь было виднее, что делается под стенами дома. Хотя здесь ничего не делалось. Стало неинтересно, снова захотелось выйти на улицу.
Слезть со стола девочке не удавалось. Обратный порядок действий оказался безуспешным: опущенные ноги не доставали до стула и страшно зависали в пустоте. Обхватив края стола, девочка попробовала удержаться на руках и все-таки съехать вниз, но длины рук не хватало, чтобы дотянуться ногами до твердой основы. В какой-то миг ей показалось, что она навсегда останется на этой острой кромке стола и ни вперед, ни назад не сдвинется. Край стола сдавливал грудь и вминал живот, мешал дышать. Взвесив все, она решила отдохнуть, а потом искать помощи. Оставив предыдущие попытки, возвратилась на стол и села, поджав под себя ноги.
О том, чтобы звать взрослых, не думала – было очевидно, что ее не услышат, как не кричи. Она осмотрелась, подняла голову и увидела то, что ей могло пригодиться, – на настенной полке лежали кучка тетрадей, книги и газеты. Ага, в тетрадях пишут, а книги и газеты – читают. Это не подходит. Сбоку она увидела еще один предмет. Это была книга – большая и толстая, отец в ней иногда что-то записывал. Так это книга или тетрадь? Надо разобраться.
Девочка встала, осторожно шагнула по поверхности стола, подошла к полке, взяла книгу-тетрадь, резко наклонившись от внезапной тяжести и едва не уронив свою ношу, такой тяжелой та оказалась. Пришлось положить ее на стол и отдохнуть. Так, что мы здесь имеем?
Толстенная книга в плотном переплете оказалась разлинованной тетрадью. А внутри все было исписано отцовским почерком. Девочка закрыла книжку и села на нее. О, стол стал выше! Так это же и стул станет выше, если на него положить книгу? Идея ей понравилась.
Поглощенная заботами о том, как положить тяжеленную книгу на стул, девочка не услышала, как в дом кто-то вошел.
– Что доця здесь делает? – спросил отец.
– Цитае, писае, – ответила она, так как трудно сказать, что это было в ее руках: книга или тетрадь.
– Как? – выхватил отец книгу. – Ты ее обрисовала?
– Не, доця цитае, писае.
Отец просмотрел книгу, убедился, что она цела и невредима, и положил назад на стол.
– Как ты здесь оказалась? Ну-ка слазь!
– Доця нимизе.
– Не умеет... А как же ты залезла?
Девочка молчала, не знала, как это объяснить. А отец тем временем понял, что малышка сама не слезет.
– Слазь сначала на стул, а я тебя поддержу, – предложил он ей.
Девочка снова уцепилась за книгу и начала тянуть ее на край стола, чтобы бросить на стул и таким способом сделать его выше. Отец остолбенел.
– Что ты делаешь?
– Видись, доця не стистане. Доця на кизю стане.
– Охо-хо-хо! Подожди, – сказал ей отец, продолжая смеяться, и позвал в сторону двери: – Женя! Женя! А иди, посмотри, какую мы изобретательницу в доме имеем! Нет, ты подумай, говорит: «Доця не достанет, доця на книгу встанет».
В дом вбежала встревоженная мамочка.
– Вот посмотри! Посмотри! – отец был приятно возбужден, и девочка поняла, что она делает что-то хорошее, и отец ею гордится, но что, понять не могла.
– Давай, давай, покажи маме, как ты будешь слазить, – торопился отец, а девочка, мало его понимая, окончательно подтянула книгу на край стола и ждала.
– Скажи, как ты будешь слазить, а? – растолковывал отец, что от нее нужны только объяснения.
– Доця не стистане, доця на кизю стане...
– О Господи, – всплеснула руками мамочка. – Оно же еще такое маленькое!
– Как ты это придумала? – отец хотел от девочки большего, чем та могла, поэтому она не отвечала. – Без книги слазь, – приказал отец, убирая книгу.
Девочка снова легла животиком на стол и начала спускать ножки вниз. Она вела себя смелее, но, как было и до этого, ощутила, что ножками не достанет до стула.
– Слазь на стул, слазь, – настаивал отец. – Я подхвачу тебя, не бойся.
– Доця нимизе лязиць. Видись? – она замахала свободно свисающими со стола ножками, демонстрируя сказанное.
– Умничка моя! – отец растроганно подхватил ее на руки и поставил на пол.
А когда они втроем вышли во двор, он, поразмыслив, сказал жене:
– Знаешь, это символически, что она взяла именно мой дневник, чтобы с его помощью слезть со стола.
– Так ей ведь только два годочка! – продолжала удивляться мама. – Она будет разбираться в технике. Видишь, как придумала?
– Но это была книга семейной хроники! – отец подчеркнул последнее слово. – Нет, она будет писательницей.
Разве Низины родители могли тогда знать, что она у них будет и кандидатом технических наук, и писательницей одновременно?
Но судьба, как видите, подает людям свои вещие знаки, надо только уметь расшифровать их.
10
– А что-то из более позднего детства помните? – спросила Тамила Вукока. – Смотрите, как нас много, а рассказ пока что один.
– А надо еще? – прищурила насмешливый глаз Низа Павловна, очень похоже на то, как это делал ее отец Павел Дмитриевич.
– Еще! – дружно запели гости.
– Расскажу вам о курочке Лале и своей подруге Людмиле, о том, какими мы были в ваши годы.
***
Длинная хата под двускатной крышей, в которой жила семья моей подруги, была угловой – торцом выходила к улице, а фасадом – к безымянному переулку. От улицы хату отделял палисадник, а между двором, всегда заросшим густым, как ковер, спорышом, и переулком лежал широкий участок земли с реденьким садом, в котором преобладал вишняк, и огородом. Более основательный сад был разбит в противоположном от улицы конце усадьбы. Там же располагался и роскошный малинник – место примечательное и лично мною любимое. Забора вокруг усадьбы не было, но ее границы по всему периметру обозначались деревьями: вдоль улицы – старыми белыми акациями, со стороны переулка – рядом пирамидальных тополей.
Участок огорода, примыкавший к улице, обычно засаживался картофелем, однако там развивалась лишь обильная ботва, а клубни не завязывались, хотя на других участках огорода картофель давал хорошие урожаи. Здесь же из года в год буйствовала бесполезная растительность: сильные стебли поднимались высоко над землей, переплетаясь верхушками, усеянными белыми гроздьями соцветий. Бурьяна между свившимися кустами не было, разве что на свободных пятачках земли расстилалась березка, а затем вскарабкивалась по картофельной ботве на самый верх и подставляла солнцу свои розоватые граммофончики.
Но хозяева упорно высаживали здесь картофель, а зачем – непонятно. Почему нельзя было посадить, например, фасоль, раз уж грунт непременно отдавал предпочтение развитию надземной части растений?
Мне всегда хотелось забраться на эти грядки, особенно в жаркие дни, не без оснований полагая, что там, под ботвой, прохладно и хорошо. А когда шел дождь разлапистые картофельные листья, расположившиеся каскадом друг над другом, стойко встречали удары очумелых капель, издавая при этом нечто вроде крика, наполненного восторгом и азартом сопротивления.
В Дивгороде дожди шли не такие как везде. Так я полагала. Дело было не в том, что на землю выпадало много осадков, даже не в том, что зачастую вместо капель они изливались более крупными порциями, до сир пор остающимися без названия. Особенность дивгородских дождей состояла в другом: эти безымянные порции падали друг за дружкой безлакунно, словно небо и землю связывали невидимые нити, по которым и устремлялась вода. Казалось, стоит потянуть за одну из них и в руках окажется целое облако, хлюпающее и брызгающее дождем.
Дожди я встречала восторженнее, чем их встречал соседский картофель. Соответственно и мой восторг выражался в несколько более эксцентричных формах. Я надевала купальник, брала мыло и шампунь, выходила на открытое пространство (зачастую это была середина двора) и купалась под струями, словно под душем. Ух, как мне это нравилось! Энергично массируя голову, я взбивала горы пены на волосах и мыла их, пока они не начинали скрипеть от чистоты и обезжиренности. Коже доставалось еще больше, и в конце купания она горела от растираний, все мышцы давали о себе знать, потому что просто мыться мне было скучно. Мытье я сочетала с прыжками и бегом, с наклонами и поднятием тяжестей (предпочитая пятикилограммовые гантели). Это было зрелище, что надо. Я отлично разбиралась в дождях, знала их нрав и повадки, могла прогнозировать их поведение, естественно, для того чтобы удобнее пользоваться ими.
В отличие от других, у которых стояли заборы или их заменял ряд декоративных деревьев, наша усадьба была огорожена кустами желтой акации, подстригаемыми папой с регулярностью раз в год – осенью. К середине лета эта изгородь значительно увеличивалась в высоту, но это не скрывало меня от любопытных глаз, до которых мне дела не было.
Жители нашей улицы – забобонистые! – вначале посматривали на меня с осуждением и негодованием, а потом привыкли и стали посматривать с тревогой – простудится. Но со временем смирились и вообще перестали реагировать. Правда, подражать никто не осмеливался. Зато в жаркие дни все женщины стали ходить в своих дворах в купальниках, даже откровенные старушки. А купаться под дождем? Нет, тут нужен был особый кураж. Но, кроме меня и Людмилы, детей отчаянного возраста на улице не было, и куражиться было некому.
Так и получилось, что купающаяся под дождем я стала местной приметой теплых летних дождей. Если меня не видели, то спрашивали:
– Низа уехала, что ли?
Однажды пустился очередной проливной дождичек, который по моим прогнозам должен был продлиться не менее полчаса. Верная себе, я уже вышла на середину двора, поставила там видавший виды самодельный табурет, на котором разложила шампуни, мыло, мочалки, массажные щетки и все такое, когда услышала всполошенный крик Людмилиной бабки, бабушки Федоры.
– Куда? Кыш домой! Домой говорю! А чтоб тебя дождь намочил. И-и-и! Ой! Ой! – визжала она так, как визжит всякий, кому за шиворот внезапно – и запно тоже! – попадает вода.
Бабушка Федора не знала о моих купаниях под дождем, и стала жертвой этого незнания. Все могло обойтись, если бы она не кричала так громко.
Кого это она домой загоняет? – озадачилась я и вышла на улицу из-за своей акациевой ширмы.
– Свят-свят-свят! – отшатнулась бабушка Федора, увидев меня в купальнике.
– Что случилось? – по инерции спросила я, хотя все уже поняла и тут же, без паузы, пошла в наступление: – Куда это вы нашу Лалу загоняете?
Бабушка не ждала разоблачений и растерялась. Откуда ей было ведать, что эта пестрая курица есть какая-то там особенная Лала?
– Га? Ваша? Так она в моей картошке цыплят вывела.
– Картошка ваша, а Лала и цыплята – наши.
Лала, наша умная курочка, впервые снесла и высидела кладку, выбрав под гнездо эти бесполезные картофельные заросли на чужом огороде. Не удивляйтесь, что ей это удалось, ведь в те годы колорадского жука в наших краях и в помине не было. Мы даже в страшных снах о нем не слышали. Так что посадки картофеля не страдали от внимания людей – росли себе в первозданной неприкосновенности от прополки до прополки, которых за сезон производилось не более двух, да и те были до начала ее цветения, до того, как ботва, развившись, сама уже заглушала сорняки.