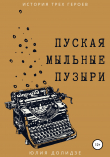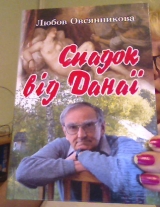
Текст книги "Наследство от Данаи"
Автор книги: Любовь Овсянникова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 27 страниц)
Так вот, когда в поссовете нового созыва распределяли обязанности, Ивану Тимофеевичу поручили работать в комиссии по семейному воспитанию детей. Дескать, он сумеет, в случае надобности, и хулигана укротить, и о детях, имеющих таких отцов, позаботиться.
Люди отнеслись к его новым полномочиям одобрительно, и с тех пор Иван Яйцо потерял свободное время, больше ни себе, ни своей Чепурушечке не принадлежа. Ибо почитай ежевечерне к нему бежала кто-нибудь из женщин с просьбой защитить от пьяного мужа. Отказа женщины не знали: Иван, получив «сигнал», бросал домашнюю работу и шел разбираться с дебоширом. Долго приводил его в сознание, а потом сажал на стул – бывало, что от щедрот кузнецкой руки угощал перед этим хорошим подзатыльником – и начинал воспитывать.
– Не зли меня, браток, – предупреждал, – в следующий раз приложусь от души и, не приведи Боже, убью.
Воспитывая, говорил вещи простые, но искренние и доходчивые. Гляди, на день-два человек запомнит их, уймется. А потом, конечно, все повторялось, так как еще и господу Богу ни разу не удалось изменить природу человека.
«Вызовы» случались, в основном, в семьи, где возраст супругов лежал в пределах 25–45 лет. Молодые мужья еще не потирали об жен кулаки, а старики теряли кураж.
А тут вдруг явилась к Ивану Цилька Садоха и села во дворе важно: настраивалась на серьезный разговор. Из всего выходило, что готовилась к нему долго и имела иной мотив, чем жены пьющих мужей.
– Что, Циля, скате? – спросил Иван, по привычке сокращая слово «скажете», при этом он тщательно вымывал руки под рукомойником, так как накануне работал в огороде.
– Неудобно мне к вам, Тимофеевич, обращаться, но вынуждена. Вы знаете, – она вытерла указательным и средним пальцами заплесневелые уголки рта, – что мой Савел не пьет, не гуляет, вообще – тихий и порядочный человек. А сейчас... будто ему поделали, начал домой женщину приводить.
– Какую? Кого? – оттопырил уши депутат. – Не слышу ответа.
– Ничего не знаю, я ее не видела.
– Гувурите по существу, а не таинственными намеками, – от волнения Иван часто переходил на официальный язык, каким он его себе представлял.
– Так он же ее на позднюю ночь приглашает, когда я уже сплю. У нас... – она потупила взор, но затем продолжала: – У нас уже года два отдельные спальни. Он выбрал себе дальнюю, ту, что за светлицей будет, а мне досталась меньшая, рядом с кухней.
– Если вы спите, то откуда знаете, что делает ваш Савел? Га? Уважаемая, мне надо картофель полоть, а не ваши выдумки слухать.
– Они всю ночь смеются, толкутся там, а я просыпаюсь и не сплю. Плачу-плачу, плачу-плачу, а сказать некому. Кто меня защитит, сироту? Вот и пришла к вам. Может, он меня бросить задумал?
«Сироте» недавно перевалило за шестьдесят, а Савелу было года на четыре-пять больше.
– Поговорите с ним, – просила она дальше. – Он власти послушный. Пусть не издевается надо мной.
– Скажите откровенно, чего вы не выйдете к ним и не гаркнете? – деловито поинтересовался Иван.
– Стыдно мне. А еще не хочу Савла гневить, тогда я его точно потеряю. Нет, лучше вы. Только не говорите, что я к вам приходила.
– А чем же я мотивирую? С какой, мол, стати?
– Не знаю.
– Вы, Циля, не на все предметы имеете ясное представление, и это вводит меня в заблуждение.
– Ну, скажите, например, что были неподалеку, услышали смех, разговор. Вот и решили зайти, узнать, что и как.
– Вотето можно, – Иван взволнованно укротил вихор на голове. – Только нащот ночи будет необъяснимо. Хотя, канешно, это непорядок, что он с чужой женщиной тое-другое делает. Как же быть?
– Придумайте что-нибудь. Ой хорошо было бы его на горячем поймать!
– Я подумаю.
– Да хват вам морочить друг друга! – прикрикнула на них Чепурушечка. – Одна психичецая, а второй и рад стараться. Иди ужинать, – царапнула мужчину воробьиным кулачком по спине, думая, что достает его кузнечным молотом.
Циля не то чтобы обиделась на эти слова, но подобрала мокрые губы и пошла домой.
– Нынчи ж пойду я, Галя, в засаду. Этого дела нильзя пускать на самотек, – задумчиво изрек Иван за ужином.
Стояла летняя пора, июль, жара. Температура даже ночью не падала ниже двадцати пяти градусов. Люди мучились от духоты. На ночь открывали настежь окна, входные двери и люки чердаков, старались добиться хоть квелого сквознячка. Но нет, вязкий воздух стоял неподвижно.
– Как на войне, Чепурушечка, – обдумывал дальше свой план Иван Яйцо. – Возьму языка.
– Гляди, чтобы тебя какая-нибудь трясца не взяла! Придумал ночью шляться...
– Галя, я – депутат, и решительно настроенный защищать семейные отношения!
– Галимей ты, а не депутат, – ответила Галина Игнатовна. – Другие в кабинетах сидят, бумажки перебирают, а ты – в засадах валяться.
– Не все умеють, Галя, работать в полевых условиях. Для этого особая смелость нужна.
– И-и-их! Дурак ты долговязый. Что с тебя взять? Нету ума...
– Долг зоветь! Мне люди доверяють! – ударил себя в грудь Иван.
Затем пошел. Прихватил плотный мешок, чтобы подстелить в случае, если придется где-то прилечь, – не торчать же на ногах неизвестно сколько времени.
Двор Садохи утопал в цветах, где преобладали гладиолусы – всегда вытянутые, как местная дурка Фаня, и длинные, как Григорий Телепень. Иван их не любил. Так посмотреть – красивые, яркие, крупные. Чего еще надо?
– Бесит, браток, – объяснял, бывало, Иван кому-то из любопытных, – что снизу у них уже все посохло, а сверху новые бутоны распускаются. Ни то ни се.
– Зато они долго цветут, – гляди, возражали ему.
– Глупые они, как наша Зоха Водопятова: снизу – похороны, а сверху – свадьба! Ты уже или зеленей, или засыхай. Да еще и цветут с одной стороны. Чисто камбала – два глазу с одного боку. Не гневи меня, браток, не прекословь!
– А почему же у тебя весь палисадник в мальвах? Они цветут по тому же принципу: сверху-снизу.
– Так-так, так-так, – соглашался Иван. – Только мальвы не срезают и не пихают в букеты для подарков, а эти... так и смотрят, как бы тебе настроение испортить.
Дело в том, что Ивану выпало родиться в июле, когда этих гладиолусов – хоть пруд пруди, и ему всегда их дарили, поздравляя. Он нес веник гладиолусов домой с кислой миной, закинув его на плечо, как в селе носят лопаты, грабли или сапы.
То, что Цецилия Садоха отдавала предпочтение гладиолусам, как вот сейчас убедился Иван, не указывало на ее большой ум. Та-ак, кажется, не зря Савел смеется по ночам с чужими женщинами, – подумал он и осмотрел диспозицию. Окно Савеловой спальни выходило как раз на улицу, впрочем, хорошо был виден и свет в комнате Цили, – комната смотрела в сторону переулка.
Но сначала в доме светились все окна, и было видно хозяев, мыкающихся из комнаты в комнату. Слоняются, ужинают на кухне, – вел протокол Иван. Несколько поздновато... Или чай на ночь пьют? О, перешли в зал, смотрят телевизор. Это надолго.
Не боясь, что помнет цветы, – черт с ними! – Иван разостлал посреди палисадника свой мешок и прилег. Что же за краля зачастила к Савелу втайне? А что, он ничего: высокий, стройный, худой. Лицо как нарисовано, брови – кустами и, словно птицы на взлете, от переносицы до висков разлетаются. Не кусты, – поправил себя Иван, – а посадки из кустов. А еще, наверное, женщин заводит то, что он никогда не улыбается, только сверкает черными глазищами из-под своих «посадок», как злой колдун. Зараза, вот тебе и колхозный конюх! Летом и зимой ходит в бурках, кнутом по ним похлестывает и – зырк-зырк во все стороны. А раньше не слышно было, чтобы прелюбодействовал на стороне. Или бес в ребро?
Зори нависли над Иваном и заговорщически подмигивали ему. Как хорошо! Когда есть такое небо над тобой, то разве можно чувствовать себя одиноким. Он еще раз бросил взгляд на окна, увидел свет в обеих спальнях. Разошлись по своим углам и читают. Это не меньше чем на полчаса.
Иван снова лег навзничь, сладко зевнув. И тут... Вот оно! Он увидел, как ко двору подкралась темная фигура. Это была женщина, ее голову покрывал платок. Руками она придерживала его под подбородком. Задний угол платка закрывал спину, спускался еще ниже и кистями доставал ей почти до пят. А впереди два длинных конца свисали между коленами, то попадая между ногами, то разлетаясь в разные стороны. Женщина осмотрелась направо-налево и, убедившись, что свидетелей нет, стремительно пошла к веранде.
В этот миг в Цилиной комнате свет погас, а в Савелевой тускло загорелся ночник. Предательски скрипнула входная дверь, в тишине комнат зашелестели торопливые шаги посетительницы. Все было настолько ярким, реальным, наполненным мелочами и деталями, что это трудно передать словами. У женщины светились глаза, светилось даже дыхание, искры отлетали от рук, когда она сняла с головы накидку и положила себе на плечи. Толстые русые косы, разделенные прямым пробором, были уложены так, что конец левой соединялся у основания с правой, а конец правой – с левой, отчего они тяжело свисали на шею двумя дугами, обращенными выпуклостью вниз.
Иван осторожно повернулся набок, стараясь не выдать своего присутствия. Каждый миг что-то менялось, появлялись новые детали и рождали в нем новые ощущения. Казалось, он ощущал тепло ее желания, жажду ее страсти и беспомощность удовлетвориться. Так как Савел спал! Женщина оказалась невысокого роста, но плотненькой. Она была удивительно молодая, белолицая, с розовыми устами, раскрасневшимися щечками. Ее большие серые глаза – глубокие и печальные – располагались далеко от переносицы, и все лицо с мягкими округлениями имело хоть и продолговатую форму, но не было узким. Красота девушки – как ее можно было называть женщиной, такую юную? – поражала и, как все прекрасное, казалась знакомой.
– Ха-ха-ха! – вдруг засмеялась она, широко раскрывая рот и демонстрируя белые ровные зубы, стоящие один в один, будто ненастоящие.
Легко закачались занавески и тем отвлекли на себя Иваново внимание. Он не заметил, как девушка оторвалась от пола и зависла над Савелом, распластавшись птицей.
– Ха-ха-ха! – смеялась она, и у Ивана мороз пошел по коже.
– Ги-ги-ги! – отрывисто вздрагивал, будто в предсмертных судорогах, Савел.
Тем не менее он просто крепко спал и ровно дышал, а это «ги-ги-ги» выскакивало из его утробы каким-то сверхъестественным храпом.
Иван не стал ждать, пока Савел проснется, он уже понял, что этого не будет: горемыка не ведает, не знает, что вокруг него – и с ним! – творится. Двумя прыжками наблюдатель приблизился к открытому окну. Сейчас косы паразитке повыдираю, – подумал Иван. Но не успел осуществить намерение. Не успел не только расправиться с теми роскошными косами, но и добежать до окна.
Девушка бухнулась об пол, встала на ноги, а затем присела и прытко перепрыгнула через подоконник. Она прянула в сторону от Ивана, выдохнула ему в лицо запах скошенных трав, обошла его стороной и подалась вон вдоль переулка. Не раздумывая, он побежал следом. Вскоре они оказались в степи, покрытой редкой бледно-зеленой травой. Как весной! – подумал Иван. Но стояло лето, выпалившее целинную поросль, сделавшее ее рыжей, как ржавчина. Да это же ночь! – вспомнил преследователь. Здесь не только рыжее зеленым покажется, а и черт приятелем...
Осматривать окрестности быстро надоело, и пока он это понял, девушка растворилась в воздухе. Или во тьме. Подевалась куда-то. Иван еще хватался руками за воздух, в беспорядке вертелся туда-сюда, но ее словно черт языком слизал.
Приходилось мириться с правдой, что девушка от него сбежала. Ничего не оставалось, как возвратиться назад. Сколько же они пробежали? Где это он теперь находится? По правую руку должен лежать ставок, такой продолговатый и синий, где полно рыбы, а под камнями – больших раков. Они в детстве ходили туда купаться и прыгать в воду с запруды. Ставок возник перед Иваном неожиданно, словно встал из-под земли. Ого, аж за бегмовский бугор перемахнули!
Вскоре появился ветерок и принес легкую прохладу. Иван дошел до села, поравнявшись с домами, стоящими вдоль центрального проселка. Вот и крайняя улица – Степная. Он повернул на нее, прошел метров сто, взял налево и на пересечении со второй улицей вышел к усадьбе Садохи. Нырнул в заросли гладиолусов, нашел свой мешок и прилег. Что делать? Пойдешь домой – разбудишь Чепурушечку, а останешься здесь – люди утром увидят. Решил подремать до первых петухов, а потом все равно забираться отсюда.
– Таки ходит к Савлу какая-то одна, – шепотом рассказывал жене за завтраком Иван. – Молодая, почти девчонка. И знаешь, мне она показалась знакомой, а вот чья – не припоминаю. Я ее чуть не догнал, когда она убегала. Но куда мне в свои сорок лет с нею соревноваться?
– Не может быть! – всплеснула руками Галина Игнатовна. – Неужели ходит?
– Она вокруг него и так, и сяк, вьется-вьется, а он спит. Не знаю, что и делать.
– А ничего. Ты ее поймал? Нет. А его? Он себе спал. Вот и не трогай людей.
Через неделю Циля вновь заявилась к Яйцу.
– Я все поняла – они хотят мало-помалу извести меня. Вчера закрыли в спальне, чтобы я не вышла, и учинили сущий бордель: кричали, пели, танцевали. Как перед погибелью.
– Гражданка Цецилия, – вновь перешел на официальный тон Иван, – я провел эксперимент и обнаружил, что ваш муж перед вами чистый. В самом деле, лицо женского полу и не установленного имени самолично вчащает к нему. Только безрезультатно для себя. Савел спит и в ее оргиях участия не принимает.
– А как она проникает в дом? Разве это не он ее впускает?
– Не он... – Иван немного поколебался, припоминая увиденное, – она сама заходит, – сказал уже без сомнения. – Может, вы оставляете открытой входную дверь?
– Запираем, я проверяла.
– Значит, у нее есть ключ.
– Ей надо дать укорот! – рассердилась Циля. – Как вы, представитель власти, можете спокойно говорить о том, что к людям ночью вламывается какая-то пройда, бесчинствует, и не принимать меры?
– Живите спокойно, дорогая Циля. Я за это возьмусь всерьез. Безотлагательно и этой же ночью.
И снова Иван пошел в засаду. Только теперь по договоренности с Цилей он «засел» в доме: она сама впустила его, когда Савл заснул.
– Вы спите, чтобы все было натурально, – предупредил ее Иван. – Любой эксперимент дольжон соответствовать условиям жизни.
Сам же расположился на топчане, стоящем в кухне под окном. Посетительница, если снова придет и захочет попасть к Савлу, повернет налево, а топчан стоял с правой стороны от входной двери и был скрыт посудным шкафом. Как и в первый раз, надо было ждать: дело, как известно, мало приятное. Только Иван был не из тех, кого можно было считать обыкновенным человеком, он умел развлечь себя полезными мыслями. А так как мысли имеют материальную силу и излучаются из головы в пространство, доходя до окружающих, то он старался думать о посторонних вещах, не относящихся к этому щекотливому делу. Хлопот ему хватало: безотлагательно надо было сводить свинку Хомку к племенному хряку Сопику, которого держал Родион Сова. Сопик не отмечался склонностью к любовным утехам и «работал» медленно, раз или два в неделю. Поэтому к нему стояла очередь. Не дай Бог Хомка переиграет, как раз дождавшись своего дня! Мысли вошли в обычное русло, потекли тем порядком, каким ежевечерне скрашивали Ивану время перед сном. Сколько этот Родик имеет? Он за вязку берет поросенком. Это, считай, два поросенка в неделю, да умножить на четыре. В месяц выходило, что ударный кузнец и депутат местного Совета Иван Ермак этому Родиону Сове, что сидит на шее у своего ленивого хряка Сопика, – в подметки не годится. Ох, и жизнь настала! Куда подевалась справедливость?
Из спальни Цили начало доноситься стойкое храпение, а вокруг стояли тишина и покой. Вдруг слух Ивана поймал вкрадчивое клацанье замка. Он рванулся встать, даже подскочил на топчане, а потом силой воли втиснулся в него и замер.
Девушка зашла в кухню и остановилась на пороге. Она стояла долго, и у Ивана от неподвижности начали затекать руки и ноги. Но вот ломоть ночного светила – узенький, но яркий – поднялся выше над горизонтом и залил сказочным сиянием всю комнату. Девушка снова сняла платок с головы и переложила на плечи, затем простерла вперед руки и поплыла вдоль мертвых лучей ночного светила. Доплыла до противоположной стены, оттолкнулась и развернулась в обратном направлении. Ее глаза знакомо искрились, и тот воздух, который она выдыхала, брался туманцем, как бывает на улице в холодную погоду. Туманец тоже искрился, изменяя местами свою яркость и насыщенность, от чего казалось, что по нему пробегают змейки многочисленных молний.
Теперь Иван находился непосредственно перед нею, темнел под окном бесформенной массой, оскверняя романтичность ранней ночи подозрительной тенью закоулков.
– О! – с удивлением выдохнула девушка. – Ага-а-а! – злорадствовала она, потирая руки, и встала на ноги, бухнувшись об пол. – Ты откуда здесь взялся? – спросила грозно. – Ты кто такой?!
– Я? Я... – Иван поднялся ей навстречу и вдруг парализовано застыл от страшного холода.
Какой-то миг он взвешивал, откуда он струится и чем вызван, в глубине души надеясь, что страхом, обычным безобразным страхом. Спасительная надежда прожила недолго, сменившись уверенностью, что этот холод – настоящий, а не кажущийся, что он идет извне, а не рождается в нем самом. Так это, выходит, она выдыхает мороз, и он в летней духоте берется росою?!
Дерзкая мысль не успела оформиться в окончательный вывод, как Иван сиганул в открытое окно и понесся огородами к речке. Ботва картофеля, фасоли и помидор хватала его в объятия, обвивала ноги стеблями, била по бедрам и лопотала, как кричала. Иногда он наступал на тугую завязь капусты и тогда спотыкался, чуть не падал, теряя скорость. Было бы лучше улепетывать улицей, и только мысль о том, что там могут встретиться люди, удерживала его от этого. Собаки подняли гвалт и выдавали его присутствие. Они будили тишину, засыпали окраины не перебранным горохом лая, нестройным чередованием интонаций и голосов.
К тому времени Иван ошеломлено понял, что странная девушка – слепая. Просто, как у всех слепцов, у нее развито осязание на расстоянии, через воздушные волны. Сделанное открытие не успокоило его, лишь проняло липким страхом. Он убежал уже далековато, перепрыгнул через Осокоревку, пересек огород Родиона Совы – чтоб ему легенько икнулось, и чего было перемывать кости такому неподдельно живому человеку? – и оказался далеко под Рожновой. Если бы не собаки – вот сучьи дети! – эта девка дудки его нашла бы. Так они же лаяли без угомона и всем кодлом бежали следом.
Девушка не отставала, под ней дрожала земля, как под медным всадником, гудела и качалась. Что делать? Догонит! И что будет дальше? А черт ее знает. Хоть она гонится не за тем, чтобы пожать руку депутату.
– Ух! Ух! Ух! – ободряла она себя. – И-и-и-иххх!
Говорила мне мама о женском коварстве, а я не верил. Это ж ведьма! – догадался Иван. Осина! Надо найти осину, выломать хворостину и отхлестать ее хорошенько. Погоди, можно спастись чесноком! Говорят, помогает. Господи, да есть ли ты на небеси?
– Не богохульствуй! – казалось, услышал Иван окрик сверху.
О, Господи, в православии ж нет ведьм, это – католические россказни!
– Спасен буди! – снова громыхнуло от небес.
Беглец бухнулся на колени и поднял руки вверх. Чуть не завопил: «Господи, спаси и сохрани». Но о том и подумать не успел – девушка чихать хотела на небо и его голоса, она надвигалась с такой скоростью, что остановиться уже не могла, могла лишь втоптать Ивана в землю, размазать по ней, как дорожный каток размазывает разогретый гудрон. Иван завалился на бок, перекатился и попал в колдобину от огромного валуна, видно, детьми сдвинутого с места и оставленного неподалеку. Под бочком того валуна горемыка и притаился.
– И-и-и-иххх! – пролетела над ним неутомимая девушка, словно танцевала на диком шабаше, и исчезла из поля зрения.
Собачий лай затих, спасительной благодатью разлилась тишина, нигде ничто не звенело, не щелкало, не бухало, утихомирилось и замедлилось во времени, от чего лунный пейзаж ночи казался неземным. Иван еще немного полежал, подождал. Ничего не изменилось. Тогда он украдкой встал, не будучи вполне уверенным, что променад нечистой силы закончился, и крадучись потопал назад. Его шаги не отдавались эхом, были беззвучны, как у призрака. Идти стало легче, душа освободилась от страха и, хоть не пела, зато и не скулила.
Не хватало, чтобы Циля застукала, что я сбежал, – размышлял он, заходя во двор к Садохам. Иван залез через окно в кухню и снова улегся на топчан. Его ноги гудели от усталости, будто по ним пропускали ток высокого напряжения, сердце ускоренно гоняло кровь. Надо успокоиться и отдохнуть, – решил утомленный разведчик и на «раз-два-три» постарался расслабиться. Веки тяжело сомкнулись, горячая волна окатила его с ног до головы, и он резко вздрогнул в сладком засыпании. Скоро запели петухи и разбуженная ими Циля вышла из спальни.
– Ну что? – спросила у Ивана.
– Приходила, – мрачно сказал он. – Но наш диалог еще не окончен.
– Понятно…
Он потоптался, растерянно похлопал себя по бокам и откланялся. Нельзя было, чтобы его здесь видели. Объясняй тогда каждому дураку, что к чему. И чем больше будешь объяснять, тем меньше тебе поверят. А там, смотри, и Савл, если не приревнует, то все равно морду набьет для порядка.
Утром Иван отводил взгляд от Чепурушечки и молчал. А она посматривала на него и вздыхала.
– Ты бы сходил к куму Халдею, – посоветовала, провожая мужа за калитку. – Он обязательно что-нибудь придумает. Надо избавиться от этих хлопот, а то стыда не обберешься.
– А что? – согласился Иван. – Давай вечерком вдвоем сходим.
– Сходим, – миролюбиво простила его Чепурушечка, и у Ивана один камень свалился с плеч.
***
Рассказ Ивана кум Халдей слушал внимательно, время от времени посмеиваясь. Смех у него был не громкий и казался немного деланным, при этом Павел Дмитриевич отводил голову в сторону и наклонялся, будто не хотел, чтобы его смешок видели.
– Плохи дела у нашей Цили, – сказал почти серьезно, выслушав Ивана.
– Кум, выручай, так как под расстрел попадаить мой авторитет.
– Не ходи туда больше, вот и все дела. Какой может быть расстрел?
– Налицо, Чепурушечка, неразрешимая дилемма... – упрекнул Иван жену. – А ты уверяла: кум, кум...
– Если б же она к нему не цеплялась, – вмешалась в разговор Чепурушечка. – А то видишь... Не бросай его в беде, кум, ей-богу тебе говорю. Придумай что-нибудь. Ты же знаешь, какой у Цили язык. Нам теперь хоть уезжай отсюда...
– Вот, например, она снова придет, – чесал за ухом Иван. – Что я ей скажу? Слушай, а может, ей поделано?
Павел Дмитриевич в конце концов проникся озабоченностью своего друга, начал по-другому относиться к обстоятельствам, в которые тот попал.
– Дела-а-а... – он положил ногу на ногу и оперся о колено локтями. – Ну что ж, тогда давай сделаем так. Ты ей – только под большим секретом! – посоветуй обратиться ко мне, дескать, здесь дело нечистое, а этот Халдей разбирается в магии и обязательно поможет. А уж я что-нибудь придумаю.
***
Позже, будто ненароком, Циля встретила Павла Дмитриевича около заводской проходной и бросилась к нему.
– Сосед! Чего это вас не видно во дворе? – брякнула первое, что придумалось. – Или, может, вы дома не ночуете?
Еще и заедается, чтоб оно скисло! – подумал Халдей, а вслух сказал:
– Я как раз ночую дома, а вот к вашему Савлу, замечаю, одна краля липнет, – надо было ускорять процесс, а не танцевать с нею семь-сорок.
– Ой липнет, ой липнет! – аж запела та. – Что делать, ума не приложу.
Павел Дмитриевич деликатно кашлянул и неуверенно залепетал:
– Значит, это для вас не новость. Конечно, неприятно. И я, что ж, я тот...
– Дмитриевич, это мне вас для спасения послано! – вдруг обрадовалась Циля. – Я слышала, что вы часто людям помогаете. Поговорите что ли с этой злодюжкой, а?
– Если так, то можно и поговорить. Но знайте себе, что для Савла она безопасна, а вот вам, проклятая, вижу, поделала.
– О горе! – Циля перепугано уставилась на Павла Дмитриевича. – Разве ко мне деланное пристает? Я же нездешней веры, иудейка...
– Пристает, – махнул рукой Павел Дмитриевич, понимая, что она сама хочет развеять свои сомнения. – Дурное дело – не хитрое. Поэтому и говорю, что к Савлу она больше не припарит. Это я обещаю. А вот вам надо помочь, иначе будет хуже.
– А только чтобы никто не знал? А то засмеют меня наши люди насмерть.
– Ну! – пообещал Павел Дмитриевич. – Завтра, как взойдет луна, приходите к нам огородами. Да прихватите с собой фотографию, желательно молодых лет и чтобы никого возле вас на ней не было. Есть такая?
– Есть, есть!
– Тогда до свидания, – и они разошлись в разные стороны.
На второй день Циля и Павел Дмитриевич «тайно» встретились под шелковицей, отделяющей огород Халдея от вольной степи. Павел Дмитриевич принес с собой благоухание лекарств, химических препаратов, растворителей, сухих трав, крепких настоек и еще Бог знает чего. Эти ароматы редко сопровождали его, но в случае надобности, «для дела», носились вокруг невидимым облачком и создавали атмосферу таинственности и многозначительности.
Цецилия, как ей казалось, незаметно зашептала какую-то молитву или заговор, а может, цитировала Тору, но Павел Дмитриевич все равно это заметил и строго предупредил:
– Бросьте свои штучки, Циля, и не мешайте действу! В противном случае снова пойдете по хаткам напрасно искать спасения.
– Да это я по привычке... – сникла она. – Не обращайте внимания.
И тут же Цилю проняло мистическим трепетом, ибо она ощутила, что перед нею стоит человек, видящий мир иначе: шире и глубже от обыкновенных людей. Это был не скупой и преступный бес, а добрый исполин, окутанный приятным, щекочущим флером неизведанного, закрытого, притягательного. Рядом с ним отходили тревоги, отступало отчаяние, становилось увереннее на душе, возвращалось настроение побеждать жизненные невзгоды, преодолевать мелкие и досадные препятствия.
– Взгляните вверх и постарайтесь сосредоточиться, – приказал Павел Дмитриевич.
Циля задрала голову и вытаращилась на небо.
– Что вы там видите?
– Вечное движение, – почему-то шепотом произнесла исцеляемая.
– Еще что?
– И покой.
– Чудесно! – Павел Дмитриевич убедился, что у Цили «все дома», и от удовлетворения потер руки. – А теперь слушайте. Вот вам смесь от поделанного, – он подал ей узелок с измельченными травами, где специалист узнал бы запахи валерьянки, мяты и мелиссы.
Дальше тщательно проинструктировал ее, как эту смесь готовить, когда и сколько принимать.
– Главное, чтобы вы не думали о той женщине, потому что ваши мысли будут притягивать ее навет. А перед заходом солнца вы должны приходить на берег пруда, садиться и смотреть на воду не меньше часа. Вы же знаете, что, во-первых, вода очищает, а во-вторых, нравится вам это или нет, а через нее на человека снисходит Дух Святой.
– Может, лучше кропиться?
– Нет, надо долго смотреть на воду. Вам такое поделано, что надо через глаза выводить.
– И сколько так исцеляться?
– Месяца два-три. Поделанное может повергать вас в слезы, особенно перед дождем; бросать в жар, особенно как съедите скоромное; портить сон, особенно перед полнолунием. Но если вы будете добросовестной в лечении, мы победим.
Циля удивленно ловила слова Павла Дмитриевича и верила ему безоговорочно.
– А еще, – прибавил Павел Дмитриевич мелодичным голосом: – пусть Савл время от времени вывозит вас в степь, хорошо бы ближе к вечеру. Там вы неторопливо собирайте хворост, сухостой и разводите костер. Сидите и смотрите себе на огонь, припоминайте прекрасные страницы своей жизни, думайте о будущем, мечтайте о том, чего вам желается. И обязательно имейте при себе эту фотографию.
– А зачем?
– Огонь – это живая стихия, вы же знаете. С фотографии он впитает в себя все хорошее из вашего прошлого, возьмет оттуда старт, приготовится к будущему и очистит перед вами мир, проложит тропку к счастью и здоровью. Вот тогда и шепчите свои пожелания и все другое, что захотите.
Циля слушала, затаив дыхание.
– Будете наблюдать за языками огня, и, если вам повезет, то увидите фигуру своей врагини, увидите, как плохо ей будет, как к ней самой возвратится причиненная вам порча и повергнет ее в судороги. А из вас огонь начисто выжжет все поделанное.
– Ох, ох... – стонала женщина. – Как хорошо рядом с вами. Чувствую, вы-таки мне поможете.
– А потом вы зальете костер водой, возвратитесь домой, и будете сладко спать до самого утра.
***
Иван – собственно, как и Циля, о чем хорошо знал кум Халдей, – смело перенимал новое во внешних его проявлениях, но вся его наука, наивная до смеху и жалкая до слез, заключалась в этих «что вы грите?» и «гувурите по существу».
В определенном смысле он был сформирован войной. Проведя на передовой два месяца, получил тяжелое ранение в правое плечо, и был начисто списан из войск. С тех пор правая рука не поднималась выше локтя, и трудно поверить, что это не мешало ему быть ловким кузнецом.
А что те два месяца? Иван продолжал верить, что сам-один сможет преодолеть любые трудности, так как не успел понять и удостовериться, что войну выиграли не герои-одиночки, а все наши люди вместе, весь наш народ сообща. На фоне видавших виды воинов, которые в гражданской жизни вели себя мудро и тихо, он отличался энтузиазмом, экстатической ответственностью и ходатайствами о чужих судьбах. То есть тем, чем проникся на фронте и что не успело в нем перегореть или утомить его. Однажды он прибежал к куму Халдею, мокрый от переживания, с растерянными глазами, и Чепурушечку с собой привел:
– Кум, – решительно затряс рукой, – выйди на иранду, поговорить надобно.
Павел Дмитриевич вышел на веранду.
– Что случилось? Чего это ты всклокочен, как застуканный на шкоде?
– Месяц назад купил ливизитор, – выдохнул Иван трагически.
– Я знаю. Мы же вместе приливали твой телевизор. Забыл?
– Поломался! Понимаешь, згук есть, а соображения не видно.
– Да говоры ты по-человечески! – гаркнула на него Чепурушечка. – Что ты мелешь? Какой згук, какое соображение? – И объяснила сама: – Изображение у нас пропало, кум. Что делать?
– Вызывайте мастера.
– Га? Что грите? А где его взять? – разволновался Иван еще больше от непосильных забот, предстоящих ему.
Затем получил объяснение и откланялся с благодарностью.
Или как-то пожаловался на здоровье:
– Окончательно теряю слух, браток. Пора мне на клайбище. Вот пойду в премсоюз, выпишу отрез милону. Закутаюсь в него и – туда...
– Не выдумывай! Не хватало, чтобы профсоюз тебя заранее в нейлон закутывал, – ответил Павел Дмитриевич. – Живи долго.
– Так не слышу ж! Вот, бывает, вижу: земля дрожит, деревья гнутся. А от чего – не пойму. Оказывается, арахтивный самолет летит. А мне хоть бы хны – не слышу!