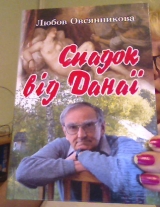
Текст книги "Наследство от Данаи"
Автор книги: Любовь Овсянникова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 27 страниц)
Время не шло Юле на пользу, а даже наоборот, – чем больше его уплывало с момента родов, тем больше она худела, теряла силу, чернела лицом. Теперь баба Федора, ее мать, ежедневно приходила к Мазурам – зять не знал, куда ее посадить! – и помогала молодой семье убираться. Или забирала двойню и везла на прогулку, чтобы Юля час-два поспала в тишине. Только это все были полумеры, кардинально не изменяющие положения, и Юле становилось все хуже.
И вот пришел час, когда утром она не поднялась с постели. Отказалась от пищи, отвернулась к стенке и тяжело вздыхала.
Пришлось бабке Федоре вместо Витька забирать к себе обоих внуков, которые уже весело топотали в манеже ножками, разрабатывая их для хождения. С мальчиком проблем не было, он теперь все ел, успевай лишь отваривать и протирать. А Лючия неделю капризничала, плакала, не хотела есть того, что ей предлагали, потом привыкла и успокоилась.
Настал май с вездесущим цветением, тонким благоуханием и приятным теплом. Федора Бараненко позвала в гости и на помощь свою старшую сестру Оксану, и та скоро приехала из Ржева, обрадовавшись возможности понежиться на южном солнце. Стояла хорошая погода и Оксана была очень довольна отдыхом.
– Если не выгоните, то я тут побуду, пока внуки в детсад не пойдут, – разгулялась она. – А что? Федора, ты будешь готовить еду и гладить белье, а я – стирать, прибираться и с детьми возиться, – распределяла обязанности, отгребая от себя то, чего не любила делать.
Дом, в котором жила бабка Федора, достался ей в наследство от родителей, поэтому и для Оксаны он был отчим.
– Я хорошо помню времена, когда тебя здесь нянчила, – говорила гостя младшей сестре. – Ты была тихой и послушной, не то что эти егозята, – кивала на мазурят, и глаза ее при этом светились нежностью.
Есть женщины, которым дано от Бога любить материнство особой любовью. Их не страшат крик и кавардак, не утомляет домашняя работа, не портят настроение бессонные ночи. Возня с детьми – это единственно приемлемая для них стихия. К таким принадлежала и баба Оксана, в отличие, например, от Евгении Елисеевны, которая сознавалась:
– Я очень боюсь детей. Это такая тяжелая ноша, такая изнурительная, а страшнее всего, что пожизненная, – хотя свою первинку обожала.
Федора слушала сестрину болтовню и кивала головой.
– Ты в своем Ржеве все равно целыми днями дома сама сидишь, так уж лучше живи у меня. Они без тебя не пропадут, – имела в виду своих племянников, – выросли, слава богу. Зачем ты им нужна?
– Ты права.
Такие разговоры повторялись каждый вечер, когда малыши засыпали, а сестры чаевничали, слушали радио, вспоминали старину и строили планы на будущее. Энтузиазма им прибавляло то, что Юля потихоньку оправлялась от неизвестного недуга и уже через пару недель встала на ноги, к ней вернулся аппетит, воля к жизни.
– Все-все-все, – сказала она в конце июня маме и тетке. – Вы свое дело сделали, дали мне передышку. Детей приучили не капризничать, забавляться игрушками, не требовать от старших внимания к себе. Вот и хватит!
Но сестры настаивали на продолжении Юлиного отдыха и заверяли, что понянчатся с детьми до конца лета.
– Ты еще не восстановилась после перегорания молока, – в один голос доказывали они. – Погуляй, пока мы у тебя есть, поезжай с мужем на море, погости у его родственников, поешь фруктов, овощей, побалуй себя вкусными и приятными вещами.
На том и сошлись.
Однако, жизнь, как известно, без проблем не течет. Снова они не замедлили явиться. С июня начала болеть коровка Лиска, резко уменьшив надои молока. Баба Федора и Евгения Елисеевна спешно договорились кормить малышей от Марты, коровки их общей соседки Нестерихе. Договорились легко – как раз Нестериха потеряла постоянных заказчиков.
Оно бы и ничего, но очень хитрой была у Лиски болезнь – скотина с каждым днем таяла, не ела, неохотно двигалась, а скоро совсем перестала подниматься на ноги и наконец издохла. В селе поднялся переполох, ведь Лиска ходила в стадо. Пригласили ветеринара, проверили других коров. Все они оказались здоровыми, как и та, которой не стало.
– Не знаю, что сказать, – разводил руками Аркадий Серый, извиняясь перед бабой Ириной. – Ваша Лиска была абсолютно здорова.
– Чего же она окочурилась? – зычно выказывала недовольство Оксана Баранка, словно ей больше всех болело.
– Знаете, – повернулся к ней ветеринар. – У коров тоже есть нервная система. Ее могли испугать...
– Испугать? Корову?
– На это больше всего похоже, – настаивал на своей версии Аркадий Серый. – У нее был нервный стресс, перешедший в истощение.
Оксана перекрестилась, а потом стыдливо задержала руку в воздухе и перекрестила дохлую Лиску.
– Спаси, Господи, Лиску на том свете за ее добро, – сказала чистосердечно. – Сколько она кормила наших деток? – спросила у Ирины.
– Витька полгода, а Люду два месяца.
А еще через два месяца, в сентябре, так же издохла и Марта. Нестериха от горя сама чуть не отдала Богу душу, – она по наименьшим подсчетам на полтора-два года оставалась теперь без молока.
Павел Халдей выгодно купил на Терсянке – считай, за бесценок – двух крохотных телочек и подарил их пострадавшим женщинам – Ирине Хасенко и Нестерихе – в подарок за то, что помогали кормить Шуру.
– Жди теперь, пока подрастет моя Квитка, – плакалась Нестериха. – Еще неизвестно, какой она коровкой станет.
Марте повезло меньше, чем Лиске, – ее некому было оплакивать, кроме хозяйки, конечно, – Оксана Бараненко заболела и уже несколько дней не выползала на улицу.
Падеж скота как-то сблизил Ирину Хасенко и Нестериху, хотя они и жили неподалеку одна от другой, но до этого случая тесно не общались. Теперь же решили вдвоем посетить заезжую гостью и припомнить, как вместе росли, как к парням бегали, а заодно поговорить о своем горе, посудить-порядить, что это за напасть такая и откуда она них свалилась. Федора в дом не пошла, осталась гулять с внуками на улице. А Оксана лежала, закрыв глаза, безучастная ко всему, отстраненная, еле-еле ее вывели из этого состояния и разговорили.
– Я вам откроюсь, – прошептала она, – а вы не смейтесь и не рассказывайте никому. Подумайте каждая наедине, взвесьте, что и как, а завтра мне скажете, не ополоумела ли я.
– А что такое? – Хасенчиха скосила глаза на Оксану, заподозрив, что ту лихорадка бьет. Но нет, ее глаза были чистыми, только уставшими.
– Не заходи издалека,– и себе откликнулась Нестериха. – Ты о чем твердишь?
– О Юлькиных малышах говорю. Кажется, кто-то из них... Думаю, что это девочка, Люда... Кто бы мог подумать? Такая здоровенькая, веселая, так хорошо развивается, уже что-то говорить начинает...
– Что ты лепечешь? О чем толкуешь?
– Она... несет зло своим близким, вообще всем, кто с нею сталкивается.
– Ты в своем уме? Нечего мне до завтра думать, я тебе сегодня скажу, что ты умом тронулась, – заявила баба Ирина.
– Не спешите, – больная оживилась и двинулась на диване, стараясь встать. – Смотрите, сначала она чуть не свела в могилу свою мать, пока та кормила ее грудью. Кстати, Витьок не зря отказался брать в рот сиську, из которой его сестричка тоже пила молоко. Он здоровенький, значит, его реакцию следует учитывать. Дальше. Девочке начинают давать молоко от Лиски, и через два месяца Лиска околевает. Люду кормят молоком от Марты, и еще через два месяца так же околевает Марта. А теперь вот я...
– Что ты? Ты же ее своей грудью не кормила! – с придыханием сказала Нестериха.
– В понедельник гуляла, держа ее на руках, играла с нею, разговаривала. Она смеялась, плескала в ладони, повторяла за мной разные звуки. Вдруг в один миг все это с нее сошло, она изменилась в лице, стала серьезной и как толканет меня руками в грудь. Я так и свалилась, как подкошенная. Упала на спину, а она села мне на шею и снова начала смеяться и плескать в ладони, а глаза острые-острые сделались, внимательные-внимательные, будто она изучает меня.
– Так ты ушиблась? – догадалась о недуге слушательница.
– Нет, я упала на кучу сухой ботвы. А только теперь меня силы оставили и жить не хочется.
– Это у тебя от глупых мыслей.
– Вот видите, что вы мне говорите. А я вас предупреждала, чтобы не спешили. Подумайте до завтра, а потом поговорим.
– Хорошо, подумаем, – ответила за обеих Хасенчиха, которая до сих пор больше помалкивала. – Ведь это у нас коровы подохли, не у тебя. А ты выбрось все из головы и выздоравливай.
– Не встану я больше. Вот увидите.
– С чего это вдруг? – рассердилась Ирина. – Несешь какую-то околесицу!
– Люда у нас – ведьма. Я ее очень любила, привязалась. Федора больше с мальчиком возилась, он, дескать, не знал материнского молока, искусственник, а я к девочке ласкалась. Вы, мои дорогие, на всякий случай не ходите сюда больше и дома свои посвятите с попом.
– Нет, ты таки заговариваешься. А что врачи говорят?
– То, что и ваши ветеринары говорили, дескать, это у меня от стрессов. А какие здесь стрессы? Война давно закончилась, за мужем сердце отболело, дети живы-здоровы, письма пишут, – показала на стол. – Все устроены, семейные, не бедствуют. Какие стрессы, я спрашиваю?
– Им виднее, – гости посидели еще несколько минут и начали расходиться по домам.
***
Хасенчиха и не думала скрывать бред больной на голову Оксаны от свояка Павла Халдея, и в тот же вечер пошла к ним в гости. Качая на коленах крепенькую Шурочку, сосредоточенно перебиравшую бусинки на ее ожерелье, она добросовестно рассказала про подозрения Оксаны, все время вопросительно посматривая на слушателей. А те перебрасывались между собой взглядами во взаимном бессловесном согласии, где читалось что-то наподобие «я так и знал» или «вот, видишь». Придется приглашать батюшку и святить дом, двор и хлев, – единственное, что баба Ирина поняла для себя из этих переглядываний.
– Я ей сказала, что она ополоумела, – закончила она свой рассказ.
– Ага... – вздохнул Павел Дмитриевич. – Ты нас угостишь чайком? – обратился затем к жене.
– Вот тебе, чаек! Человек в дом свежее молоко принес, а ты – чаек.
– Молоко? Где вы взяли? – посмотрел тот на гостью с блеском любопытства в глазах.
Ирина молча отвела в сторону взгляд, будто спрашивали не у нее.
– Или не будешь пить? – спросила затем. – Козочку себе купила, так как Мася не скоро будет доиться, – объяснила о подаренной телочке. – Как без молока? Привыкшая я...
– Буду пить, – пообещал Халдей. – Козье молоко – это просто лекарство от всех болезней. А чаек все равно неси, – сказал он жене.
– Вот еще! – ответила она и ушла ставить на огонь чайник.
Павел Дмитриевич заговорщически подмигнул бабе Ирине:
– Оксана вам хорошую мысль подала, посвятите свой двор для профилактики.
– А дальше что? Боюсь я...
– Чего вам бояться?
– Мазуры меня беспокоят...
– Если слова Оксаны произвели на вас такое впечатление, то ничего не давайте им, что бы они ни попросили.
– Как с людьми жить? Вдруг обратятся с чем-нибудь, что тогда?
– Отправляйте ко мне. Скажите, что у вас этого нет, а у Халдея, дескать, есть. Вот и все.
– А Оксана?
– Загляну как-то, – пообещал Павел Дмитриевич.
Гостя, получив заряд бодрости, благодарно обцеловала свояков и потопала домой. Павел Дмитриевич провел ее за калитку, а потом, когда та помаленьку растаяла в темноте, долго смотрел на небо, отыскивая там что-то, ему одному понятное. Луны не было, стояла пронзительная звездная ночь, тихая и задумчивая, без пения сверчков, без шороха падающего с ветвей листья. Казалось, вот если бы сейчас сделалось холодно, то зазвенело бы вверху неземным звоном, тонким-тонким и хрустящим, будто стеклянным.
– Как Иван к детям относится? – спросила жена, когда он возвратился в дом.
– Не знаю. Я же у них не бываю.
– Но вы видитесь иногда.
– Да. Кажется, он ни разу не заговаривал о детях.
О многом еще хотелось узнать Евгении Елисеевне. Но она интуитивно понимала, когда можно мужа расспрашивать, а когда не следует этого делать, отдавала должное его дару видеть скрытое природой от других и никогда без крайней надобности не беспокоила. Разве что он сам захочет что-то рассказать, уточнить или посоветоваться.
Однако ее муж не мог все знать, на все обращать внимание и всему помочь. Он придерживался одного правила, собственно, магического закона: никогда не вмешиваться в чужие дела без приглашения или просьбы и не говорить того, о чем не спрашивают. Это был Закон Невмешательства в естественный ход событий, закон ненавязывания своей воли миру.
Теперь он, конечно, присмотрится к мазуровому отцовству. Оно должно быть прохладным, во всяком случае, относительно девочки, ведь она – более активная. Интересный поворот событий. Такое, значит, он носит в себе! Но знает ли об этом? Или не знает? Вероятно, нет, так как решился родить детей. А как быть с Оксаной? Обещал тетке, что зайдет к ней.
Повод, чтобы зайти к сестрам Бараненко, нашелся сам собой. Прибежала тетка Федора:
– У меня ведро с цепи сорвалось и бултыхнулось в колодец. Теперь воды достать не могу. Не вытянете, Дмитриевич?
Пришлось ему брать с собой якорек на четыре крючка, длинную веревку и идти вылавливать утопленное ведро. Пока стоял над срубом и манипулировал тем нехитрым инструментом, тетка Федора пожаловалась, что сестра заболела.
– Что с ней?
– А неизвестно! – сказала легко и неожиданно для себя прибавила: – Худеет, как Лиска, и не ест. – После этих слов замолчала, словно ее громом ударило, и продолжила другим тоном, с нотками нерешительности-сомнения-уверенности: – И с Юлей так было...
– Как-то вы все в одну кучу сваливаете. Еще это ведро туда прибавьте, – улыбнулся Павел Халдей и в конце концов, подцепив ведро за дужку, начал осторожно вытягивать, чтобы оно не сорвалось с крючка.
– И откуда оно все к нам пришло? – плакалась дальше тетка Федора, не реагируя на утешение соседа.
– Из космоса, – показал он кивком на первые звезды, проклюнувшиеся на небе, не дожидаясь, пока солнце уйдет на покой.
– А спасаться от него чем?
– Все, принимайте работу, – Павел Дмитриевич, пропустив мимо ушей последний вопрос, вылил из поднятого ведра мутную воду и приладил назад оторванную цепь.
– А то, – поблагодарила она. – Не дай бог, Оксана серьезно сляжет, я с ног свалюсь.
– Пора детей Юле отдавать, устала ваша сестра с ними.
– Юля их давно забрала бы, но Иван не торопится, да и я не настаиваю.
– Дети должны жить с родителями. Тогда и тетка Оксана выздоровеет.
Относительно сказанного Павлом Халдеем можно было бы думать так: раз уж отец наградил свое потомство отягощенной наследственностью, то он один и имеет против ее внешних проявлений самый стойкий иммунитет. Юля тоже выработала в себе соответствующую защиту, ведь она генетически связана с мужем.
Сентябрь заканчивался дождями, порывистыми ветрами, ранним холодом. Кроны большинства деревьев он осветлил, облив желтым или ярко-багряным, кое-где обтрепал им бока и теперь щедрее просеивал сквозь них на землю свет солнца. А тополя успел раздеть полностью – еще с августа их листья почему-то поскручивались, взялись темными пятнышками и обсыпались. Почему? – спрашивал себя Павел Дмитриевич и не находил объяснения.
Но впереди еще было второе бабье лето, было тринадцатое октября, когда перед Покровом природа, будто в последний раз, приветливо улыбается людям, а жена Павла Дмитриевича отсчитывает свои года, начиная чертить новый круг пребывания на земле. Впереди еще было тепло.
– Она успеет по теплу доехать домой, – невольно промолвил он, имея в виду тетку Оксану.
– Не могу же я ее выгнать, – буркнула баба Федора.
– Скажите, дескать, вы уверены, что ее болезнь приключилась от перемены климата. Она смолоду приспособилась к северным широтам и теперь здесь, южнее, когда тепло переходит в холод, приспосабливаемость организма изменяет ей. Пожилым людям, к сожалению, противопоказано бросать насиженные места, особенно весной и осенью. После этого она сама в Ржев полетит.
Так Оксана была спасена от «злой беды», о которой себе надумала. Провести отъезжающую пришла и Ирина Хасенко. Прощаясь, в разговоре не затрагивали болезненные темы, только тихо смачивали веки влагой, понимая, что они могут больше не встретиться.
– Прости меня, Ириночка, – обнимала Оксана подругу. – Я в восьмом классе тебе пальто чернилами облила. Помнишь? Не успела ты покрасоваться в обновке, как я тебе ее испортила. А ты потом еще три года его, бедненькая, с пятном носила.
– Это ты прости меня, дорогая, – взаимно винилась тетка Ирина. – Помнишь, я когда-то разбила супницу из вашего нового сервиза, и тебя отец отлупил за это?
И все-таки в их настроении ощущалась радость и облегчение от определенности на будущее: одна уезжала от несчастливого для нее места, возвращалась домой, где, ощущала, залижет раны, словно побитая собака, и будет долго и спокойно жить; а друга думала, что отныне ведает, в чем состоят возникшие проблемы, чем они спровоцированы. Кроме того, тетка Ирина знала, у кого искать совета и спасения, если придется.
Этого нельзя было сказать о Федоре. Собственная неуместная оговорка про Лиску навела ее на подозрения, усиленные неясными намеками старшей сестры и тоской, которые были, по ее мнению, скорее правильными, чем ошибочными – ее внуки таки не как все люди. Она боялась думать об этом даже наедине с собой, не то чтобы сказать кому-то. И как всегда случается, со временем то, о чем она люто молчала, начало излучаться наружу, толкаться в чужие головы, переходить в чьи-то мысли, выстреливать в окружающую среду красноречивыми взглядами, порождать слухи.
Подвижная и щебетливая девчонка, сделав первые шаги и устав от этого, цеплялось за подол и тянулось вверх, доверчиво просилось на руки, не ведая темных бабкиных мыслей. Разве оно может причинить какую-то беду своим родным, это светлое, жизнелюбивое дитя?
А Витя, мягенький и неуклюженький толстячок, неповоротливый и ленивый? Доверчивая улыбка не сходила с его лицо, а глаза – кроткие-кроткие.
– Ады, ады! – показывал он толстым пальчиком на птиц, и было не понять, то ли он зовет их: «иди», то ли приглашает бабушку: «погляди».
Неужели на нем лежит непроявленный грех и отражается на родных и близких людей несправедливостями, потерями и болезнями?
Легко было гнать от себя дурные мысли, насмехаться над собой, укорять себя. Но ведь не выбросишь из головы Юлю, дочку, не забудешь ее желтое, бескровное личико, угасающий взгляд, синюю прозрачность рук. А вдруг правда, есть такое невидимое зло, живущее в невинных душах, несчастных тем, что они не по своей воле являются его носителями? Как обезопаситься от него? И кого здесь надо лечить, кого спасать?
Федора мучилась своими сомнениями, выжигавшими ей душу, раскалывающими мозг, разрывающими сердце, но не утихающими с течением времени. Вспоминались слова того чертовски вещего соседа, что дети должны жить со своими родителями. Кто же возражает? Почему эта беда упала не на нее? За себя она не боялась, собой готова была пожертвовать в любое время ради собственного ребенка.
– Это бессмысленные, дикие россказни! – взорвался негодованием Павел Дмитриевич, когда она решилась и пришла к нему с ведром орехов будто угостить, поблагодарить за спасенную сестру, а на самом деле хотела ненавязчиво и незаметно посоветоваться. – С чего вы это взяли?
– Сдалось мне... Сопоставила то да се...
– Дети уже дома, возле родителей. Как им там вместе живется? Хорошо, уютно. Тетка Оксана, сестра ваша, успокоительные письма шлет, пишет, что выздоровела. У нашей тетки Ирины телочка Мася подрастает, козочка доится, и в Нестерихиной Квитки рожки уже режутся, скоро к бычку запросится. Все кругом хорошо. А вы?
– Видьте, диагнозов-то ни у кого не было. И у Юли...
– Диагнозов не было потому, что их не было. Болезни не было. Юля устала от тяжелой беременности двойней, от родов, от резвых малышей. Тетка Оксана весьма ревностно взялась помогать вам и тоже перегрузилась. А Лиска и Марта подохли от старости. Вы знаете, сколько им было лет?
– Нет.
– Так вот, и их хозяйки не знают. Тетка Ирина, например, купила свою Лиску у чужих людей, которые выезжали в Казахстан. Может, Лиске уже тогда было десять лет. Вы хоть не говорите никому про свой бред.
– Да Боже избавь! – подняла руки тетка Федора и тяжело опустила их на колени.
***
– Ну, как дела, свояк? – спросил Павел Дмитриевич, подходя ближе к Ивану Моисеевичу Мазуру, который маячил в толпе мужчин, наблюдая, как те лакомятся пивом. – Чего это вы здесь ротозейничаете, а не присоединяетесь к людям?
– Спасибо, – на все вместе ответил тот. – Посмотрю, что они запоют после того, как оторвутся от кружек. Может, пиво горькое или водой разбавлено, – на последних словах он показал глазами в сторону буфетчицы Мули Луконенко.
– А я рискну.
Павел Дмитриевич достал из кармана вяленую плотвичку, положил ее на стол и пригласил угощаться свояка:
– Садитесь, не брезгуйте.
Для настоящего почитателя пива одной тарани хватило бы на десять его кружек. Но ни Павел Дмитриевич, ни тем паче Иван Моисеевич не принадлежали к ненормальным с вывалившимися животами, хотя и любили унять жажду “хмельным квасом”, как говорил Павел Дмитриевич, особенно в жару.
– Ну и жара, – с укором в сторону неба сказал Павел Дмитриевич, ставя на стол две наполненные кружки. – Хоть бы облачко какое набежало на солнце.
– Парная, – поддакнул Иван Моисеевич, сдувая пенную шапку со своего бокала и прищуривая глаз перед первым глотком. – Юля еще с осени мечтает о том, как возвратится на работу, – начал затем рассказывать о настроениях в своей семье. – Говорит, что дома скучает, хоть и устает очень, засиделась. А я не знаю, что ей посоветовать.
Мазур явно провоцировал Павла Дмитриевича на подсказку, как им с женой лучше поступить, но тот постарался сменить тему – не век же его свояку чужим умом жить. Пусть учится сам принимать решения.
– А дети как? – вместо этого спросил Павел Дмитриевич.
– А что с ними станется? – разочарованно ответил тот, разгадав маневр своего собеседника. – Растут...
На этом разговор затих. Каждый цедил сквозь зубы холодный напиток, заедал его кусочками твердого, высушенного соленого мясца из рыбы и думал о своем. В последнее время воображение Павла Дмитриевича было занято новым домом, который он собирался строить. Он перебирал в мыслях все мелочи, стараясь ничего не упустить перед реализацией проекта. Знал, что хлопот со строительством дома будет через край, но и понятия не имел, что они начнутся сразу. И вот, пожалуйста, теперь не может завезти красный кирпич, потому что кирпичный завод выполняет срочный заказ какого-то строительного треста из областного центра и частным застройщикам свою продукцию не отпускает. Придется брать силикатный, белый. А он же хуже! Очень увлажняется, тепло не держит, грязнится со временем. Да и боя в нем много.
– Что вы мне скажете, – обратился к Ивану Моисеевичу, – начинать строительство или еще год-два подождать, когда с красным кирпичом свободнее станет?
– Ждать не советую, – на удивление категорично заявил Мазур. – Жизнь – вещь быстротечная. Пробежит, не заметишь. Поэтому не следует отказывать себе в том, чтобы лишний год пожить в хорошем доме. Теперь все берут на строительство силикатный кирпич. Вы траншеи под фундамент уже выкопали?
– Нет. Отдохну здесь, а дома как раз начну копать.
– Пойду и я с вами. Помогу. Это исторический момент.
***
Закончилась зима, прошла весна, пролетело и это знойное лето. Малышам исполнилось по два года. Юля больше не болела, но былое здоровье и жизнелюбие к ней не вернулись. Иногда казалось, что она превратилась в механическую куклу, бесстрастно и бездумно выполняющую запрограммированную работу.
В детские ясли двойню отдавать не хотели, а до детсада надо было еще год ждать. С этим Юля и пришла в наступившем сентябре к Евгении Елисеевне, зная, что той тоже пришла пора возвращаться на работу в школу, к своим ученикам, к бесконечным стопкам тетрадей с сочинениями и диктантами.
– Как вы надумали поступить с Шурой? – спросила Юля.
– Буду еще год дома сидеть.
– Не надоело, на работу не тянет?
– Тянет, но еще год потерплю.
– А потом?
– Потом свекровь с ней понянчится, мы уже договорились.
– А я своих маме не отдам, – грустно сказала Юля, даже с какой-то обреченностью в голосе. – А мужнина родня далеко, да и родня эта не такая, как должно быть...
В дом вошел Павел Дмитриевич и занес с собой благоухание хорошего мыла – только что пришел с работы и искупался под душем.
– О! У нас гости, – искренне обрадовался он. – А почему грустные?
– Надоело дома сидеть, – созналась Юля с уверенностью, что он вполне понял эту короткую фразу.
– Так ты же сейчас в гостях!
– Я серьезно. Замучилась с детьми. А в ясли отдавать боюсь, болеть начнут.
– Это ты так советуешься, что с ними делать? – пошел напрямик Павел Дмитриевич.
– Да, – хило улыбнулась родственница.
– Пригласи к ним няньку.
– Где на няньку денег набрать?
– А будешь отдавать ей свою зарплату.
– О, какой же смысл?
– Тот, что ты ищешь: будешь среди людей, накопишь себе трудовой стаж, отдохнешь от пеленок. А денег у тебя как сейчас нет, так и тогда не будет, потерпишь.
– И правда!
До родов Юля работала в колхозе бухгалтером. Здесь заработок был не очень большой, зато компенсировался широким кругом знакомых, так как колхоз объединял в себе не только большую часть жителей поселка, но и всех жителей окрестных хуторов. Так что нянька нашлась быстро. Это была молодая девушка из многодетной семьи жителей хутора Ратово. После окончания школы Груня – Аграфена, так звали девушку – в институт не поступила, а идти на производство или в колхоз не хотела.
– Ой, какие хорошенькие! – воскликнула она, когда впервые зашла к Мазурам и увидела на ковре двух «тушканчиков», игравшихся детской железной дорогой. – И совсем не похожие.
– Чух-чух-чух! – повела на нее игрушечный паровоз Люда. – Наеду на тебя. Видишь?
На смотрины няни, приглашенной к внукам, пришла и тетка Федора, их бабушка. После этих Людиных слов она покрылась бледностью, взмокла и, ухватив со стола газету, начала обмахиваться.
– Убегай, наеду-у-у! – игралась Люда. – Видишь? – переспрашивала упрямо.
– Вижу, – смеялась Груня.
– У нас двойня, – объясняла тем временем Юля.
– А что такое близнецы?
– Обязательно однополые и похожие, как две капли.
Юля показала Груне ее комнату, помогла разобрать чемодан, ознакомиться с домом. Затем пошла готовиться к предстоящему выходу на работу.
Баба Федора осталась присматривать за внуками, которые спокойно забавлялись интересной игрушкой и не нуждались в чьем-то внимании. Она вышагивала от окна до двери, от двери до шкафа и не находила себе места. Казалось, она стремится тут-таки сравняться с землей и не принимать больше участия в человеческих заботах.
– Проведи меня немного, – попросила Груню, когда та пришла готовить детей ко сну. А на улице после многих вздохов решилась, взяла девушку за руку, заглянула в глаза: – Говорят, что устами ребенка глаголет Бог. Слышала такое выражение?
– Да, слышала.
– Значит, берегись поезда, девонька, никогда не ходи по шпалам.
В те времена в Дивгороде не было дорог с твердым покрытием, поэтому после дождей или в осеннюю непогоду люди ходили по шпалам, спасаясь от размокшего чернозема.
– Хорошо, – пообещала Груня, ничего не поняв и приняв слова бабушки Федоры за старческое чудачество.
***
Наблюдая за двухлетним человечком, можно полностью представить, каким он вырастет. Характер его если и не сформировался окончательно, то определился в ценностных категориях и в темпераменте, равно как проявились творческие наклонности и дарования. Так же вырисовалась внешность.
Вопреки тому что Люда хорошо развивалась, она обещала быть весьма некрасивой. Ее глаза приобрели какую-то стариковскую, сказать бы откровенно, – неприятную для окружающих, остроту и оставались холодными даже тогда, когда другие черты лица воссоздавали гримасу улыбки. Острый нос удлинился и выгнулся вверх костлявым бугорком. Губы были бесформенными, всегда мокрыми, с розовыми заедами в уголках. Ладно скроенное тельце двигалось топорно, неуклюже, при этом ровные ножки казались выгнутыми колесом. Туфельки девочка затаптывала наружу, и при ходьбе они терлись внутренними боками. Чулки постоянно перекручивались, сползали и укладывались гармошкой на ножках. Девочка казалась хронически неопрятной, всегда грязной, неумытой.
Но все эти недостатки компенсировались умственными способностями. Ее физические нелады совсем не замечались на фоне сообразительности, сноровки ко всему, за что бы она ни бралась. Люда имела крепкую память, по-взрослому развитую логику, вместе с тем чувствительную душу и доверие к людям. Это вызывало удивление, восторг, чрезвычайно трогало и принуждало заботиться о ней с особой нежностью, с особой теплотой. Девочке было присуще тяготение к знаниям. Не просто любопытство по отношению к среде обитания, как у всех живых существ, а именно к знаниям абстрактным, которые не лежат на поверхности явлений. Непостижимо она умела различать то, что приходило к ней из наблюдений, и то, что приобрело человечество в течение своей истории. Вещи, понятные интуитивно, ее не захватывали, а открытые предшественниками законы мира притягивали жадное и нетерпеливое внимание, желание разобраться в них.
– Книжку не просто сделали, – объясняла она детям, с которыми игралась, – сначала ее придумали и написали.
Жадность к интеллектуальным нагрузкам сочеталась в девочке с абсолютным непониманием людей, она не ощущала морального ущерба, если он у кого-то был. Ее легко было обидеть, обмануть, принудить грубостью или угрозами отдать свое. Она могла целый день не есть и отдавать все лакомства своему прожорливому братцу. Так же могла мужественно отказаться от чего-то привлекательного для себя и часами толковать то, что ему казалось непонятным. Самоотречение и беззащитность – это, наверное, самые точные слова, которыми можно было ее охарактеризовать. Людмилка не умела защищаться, если не слушали ее доводов, были глухи к словам, она не способна была поднять руку на живое создание и во всех детских стычках, где пускались в ход кулаки, неизменно оставалась побежденной. Тогда садилась в стороне, всматривалась в одну точку где-то вдали и сидела так часами, покачивая головкой, будто разговаривала с собой или в чем-то убеждала себя. Первой на примирение не шла, но, когда к ней подходили обидчики, умела прочитывать их намерения. И если они были чистыми и искренними, то продолжала игру, не поминая обид, а если коварными – не откликалась на них.
Людмилкина беззащитность носила глобальный характер, так что иногда казалось, будто Юля рано выпустила ее из себя, когда этот ребенок еще не укрылся защитной чешуей для жизни вне лона матери.







