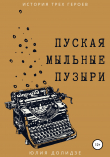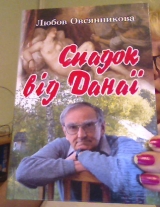
Текст книги "Наследство от Данаи"
Автор книги: Любовь Овсянникова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 27 страниц)
– Видишь, – с нотками укора буркнул хозяин, – дождался, что вы изменили гнев на милость.
– Не обижайтесь на нас. Очень прошу! – веселее защебетала Надежда. – Отныне я верная ваша почитательница, и горжусь тем, что вы обратили внимание на моего отца, увидели в нем интересный образ, увековечили его через произведения Низы Павловны.
– Она давно хотела к вам прийти, – вмешался в разговор Толик, – но не знала, с чего начать. А здесь оказия случилась, и вот...
– Что за оказия?
– Это мне надо. Понимаете, я должен подать на конкурс творческую работу. Это тайна, но я сказал только Надежде, хотел посоветоваться, где мне материал взять. Надо чтобы тема работы была посвящена родному краю. А что здесь у нас? Степь да степь – ни легенд, ни мифов, ни сказаний. А Надежда предложила к вам обратиться. Говорит, Павел Дмитриевич тебе столько всего расскажет, что только слушай, а у меня будет повод извиниться перед ним.
– Да, – подтвердила девушка. – Это я его к вам привела. Если не возражаете, то и я послушаю. Все говорят, что вы замечательный рассказчик, и мне захотелось убедиться в этом. Не прогоните?
Павел Дмитриевич не знал, что и думать. Сначала обидели принародно, а потом: «Здравствуйте, я ваша тетя!»
– Что ж, проходите. Вот здесь можно присесть, – показал на скамейку, стоящую в тени под яблоней.
Угощать, как он любил это делать, встречая гостей, не стал – еще не прошла обида на Надеждину мать.
– Я вот слушал тебя, Толик, и думал, какие вы, молодые, расточительные на слова или даже пустомели. А у нас есть что беречь, наш край по-своему богатый и интересный.
– Чем же? – словно оправдываясь, спросил Толя.
– Вот ты говоришь «...степь, мало краеведческого материала», – начал Павел Дмитриевич. – А я думаю иногда: ну, что это такое, в самом деле, – степь? Часто слышу: «Степная зона, степная полоса...». А что оно есть, конкретно, что? Пейзаж такой или ландшафт? А может, растения или животные, которые здесь водятся? То ли климат такой? Размышляю и стараюсь, знаете, больше по-народному. Так как по-ученому – объяснение степи будет узким и малопонятным. Почему? Потому, что ученые, если это настоящие, серьезные ученые, все равно без народа не обходятся. Им же нужен фактический материал, данные экспериментальных исследований, статистика?
Толя кивнул головой, соглашаясь, а Надя, придвинувшись ближе к рассказчику, не мигая, слушала его.
– Так вот! Ну, о прохиндеях от ученой братии и речи нет, тем никто не нужен, они такое придумывают, такое городят, что умному человеку их и слушать не хочется. Создатели теорий, удав бы их проглотил, – дядя Павел сделал вид, что сплюнул в сторону, подчеркивая свое отношение к халтурщикам, и продолжал снова: – Как без нас, без народа? Во-первых, мы живем здесь, в степи, и по всем законам являемся неотъемлемой ее частью. Степь и мы – одно целое. Только степь говорить не умеет, а мы – умеем. Вот на этой основе и слиты воедино навеки. Так ведь?
Вопрос слушателям показался риторическим, поэтому они никак не отреагировали на него. Толя, полагая, что уже эти размышления могут быть ему полезны для сочинения, начал подумывать, а не делать ли по ходу беседы заметки. Но тут рассказчик сам ответил на свой вопрос, и Толя снова обратился в слух.
– Так! Во-вторых, над степью уже столько экспериментируют всякие прохиндеи, что как она, бедная, еще не исчезла совсем. Одно только сжигание стерни чересчур предприимчивыми фермерами чего стоит! Вот пичужка летит. Она ощущает, что от земли идет смерть, но ее гнездышко находится в траве, под деревом или на дереве, посреди пожарища, короче. И она летит! Летит и гибнет. И гнездо ее гибнет, и птенцы.
– Да уж… – скорбно покачала головой Надя, немало видевшая этих страшных пожаров, уничтожающих не только стерню, но и живые зеленые посадки.
Особенно ей бывало больно, когда это делали весной – деревца только-только начинали возрождаться к жизни, а их сверху покрывали огнем, сжигали под корень, как американцы напалмом когда-то выжигали вьетнамцев.
– Пример с птичкой, так сказать, частный случай, – между тем продолжал Павел Дмитриевич. – А что, не гибнут в огне зайцы, лисицы, козы, куропатки, фазанчики, ежики – всякая тварь, которую нам от щедрот Всевышнего подарено? Гибнут! Нет счета нашим потерям. Я уж не говорю о кротах, червячках, разных там сусликах, жучках земляных. Это и дураку понятно. Там, в грунте, живого столько, что в сравнении с ними мы все вместе – мизерная часть. И такое оно для равновесия природы необходимое, что выверять ему цену дело напрасное, все равно, что считать звезды.
– Как же люди в старину обходились? – тихо то ли спросил, то ли просто от удивления и негодования сказал Толя.
– Осел, если его считать самым тупым животным, – гений в сравнении с теми, кто сжигает стерню, – взволнованно говорил рассказчик. – Его подергаешь за хвост, он и отзовется, кричит что-то свое, но ведь отвечает, общается. А эти? Сколько ни говори, что, дескать, вы несете смерть, и себе в том числе, – молчат. И значит, придурки – это для них похвала, а не оскорбление. Эт, занесло меня куда... Так вот, вместе с пестицидами, гербицидами и маньяками-поджигателями экспериментов над степью было больше, чем она в состоянии выдержать. Но степь молчит! Она, хоть и живое создание, а безголосое, нас для того породила, чтобы мы ее голосом были.
– Значит, – повторил Толик уже высказанную Павлом Дмитриевичем мысль, – сказать слово в защиту степи и от лица степи можем только мы, жители степи. Как же ученым без нас? Никак! Мы – голос степи! Однозначно.
– И наконец, в-третьих, – с довольным видом, что его мысли разделяют слушатели, говорил Павел Дмитриевич. – Ну, нагадят здесь невежды, у которых вместо головы на плечах – мешок с ворованными деньгами, покажут себя, натешатся властью над поруганной природой, наносятся, выдирая из матушки-земли то, чем она смогла разродиться, и тю-тю – поехали урожай продавать да наше богатство на чужих курортах тренькать. А степь начинает лечить себя, зализывать раны. Кто это видит? Кого это интересует? Караул, спасите! – ибо никто и никого. А мы здесь бессильно соболезнуем и все. Нам помочь ей – дудки! Руки связаны. Не мы хозяева, рылом не вышли. Такие адские времена настали. Говорят, бедность не порок, а большая подлость. Вот мы и есть подлые перед своей землей, так как помочь ей не можем, не имеем права. В конце концов, не способны помочь и себе, так как мы – дети степи – гибнем вместе с нею. Уроды, мордующие степь, это хорошо понимают. Итак, они не просто воры, они – каины-братоубийцы. Так вот, спрашиваю, когда поведут этих миллионеров на крови и ученых-мошенников на Страшный суд за издевательство над живой природой, то кто пойдет свидетелем? Мы, степные жители. Поэтому я и не хочу размышлять по-ученому. Не те теперь пришли научные работники, не ту науку пропагандируют. А главное, не тем они нынче занимаются и не тем служат.
5
Итак, степь, как я ее себе представляю, это вот что. Возьмем, например, зиму. Травы, толоки, холмы, поля, луки – все спит, отдыхает. С ними вместе отдыхают и люди.
Вот лежит дядька на диване: книг начитался – на год вперед, телепередач насмотрелся – до отвращения, отоспался, бока отдавил. Сердитый от скуки, а сало под кожей растет и нарастает, свербит ему и щекочет, чешется.
А тут еще жена с варениками затеялась: тесто – липкое и ползучее, везде мука рассыпана – шага не ступить; начинка к вареникам – пахнет аж голова кругом идет, дровца акациевые потрескивают в камине – душа дрожит и млеет и вот-вот растает.
«Да что это я расклеился?» – думает дядька. Хватает кирзовые сапоги, фуфайчину, кое-как цепляет на голову малахай, хорошо, когда еще буркнет жене: «Пойду, проветрюсь», а то и молча выскакивает на улицу. И айда в чисто поле!
Дышит не легкими, а всем телом, хватает морозный воздух, как спасение, будто утоляет там, внутри себя, какую-то непонятную жажду. Идет! – разгребает неуклюжей походкой чистенький снег, лежащий ровно, нетронутый, беззащитный. Голова кружится от первозданности. Свой след на земле – вот он. Смотри – глубокие следы от сапог свидетельствуют: я живу! Я существую, я – есть!!!
И прется вперед, не зная, куда и зачем.
А степи ни конца, ни края не видно. Куда ни кинь глазом – прозрачно-белое марево развернулось, красота такая, что дух перехватывает, ни о чем больше думать не хочется. Этот утленький горизонт, которого, кстати, почему-то не видно, уже никем не воспринимается, как край или граница. Отбегает он от дядьки пугливым козленком и, гляди, прячется за шаткими занавесами снега. Знает дядька, что если бы за ним и видно было что-то, то снова лишь степь – ровную, как стол, свободную, раскованную.
Дядьке и горе не беда, теперь ему сделалось тепло, уютно посреди простора колыбельного, как в раю. Только ветерок повеет да повеет иногда, поднимая из-под ног облачко снежной пыли. А то еще, случается, завьюжит, закрутится спиралью и поднимет вверх столбик серебристой рыхлой суспензии, потом бросит на землю поверх лоснящейся глади снегов колючие кристаллики мороза.
А здесь и ночь не замедлила, исподволь опускает на людей, на свет божий черную простыню, непрозрачную и холодную. «Мантия мрака» – бьет дядьке в голову фраза из какого-то стихотворения, так как степняк – он же лирик, он поэзию уважает, знает ее, только стыдится сознаться в этом.
Если хотите, я тоже могу стихи читать хоть и несколько часов подряд. Знаю их множество.
Только сейчас нас беспокоит этот дядька, что загулялся в степи, загостевался и забыл, что надо всему меру знать и возвращаться домой. Несется, будто гоголевская «птица-тройка», угомона не знает. Уже так разогрелся, что лоб покрылся испариной. А ему еще больше хочется движения: отчаянного, решительного, вопреки стихии. Мышцы – горят силой, жилы – аж скрипят и растягиваются, освобождаясь от неподвижности и остатков покоя.
Гульк! – ударит дядьке в глаз темнище, сплошная, без огонька, без сияния небесного. Да ведь ночь уже! Людоньки, где вы? Ого-го-го! – кричит гуляка. Думает: «Поиграю силой, сейчас как гаркну, так и снег с деревьев облетит». Ого-го-го!! – кричит еще сильнее. А снег не облетает, так как деревьев нигде не видно – чистое поле вокруг, безлюдное и безогненное. Вот тебе и проветрился.
Остановится дядька, крутит головой туда-сюда, туда-сюда, вращается на все четыре стороны, а там – мрак беспросветный. Где-то на горизонте начинают зажигаться звезды. Так кто теперь по ним умеет читать? Отстали мы от предков своих, одичали. Вот уже и Большую Медведицу хорошо видно, а где Полярная звезда – не найти. Ага, соображает отчаянная голова, надо соединить прямой линией крайние звезды ковша Большой Медведицы, продолжить их вверх и там, возле Малой Медведицы... Нет, не вспомнит, запутался.
Значит, звезды не помогут добраться домой. А упорство и азарт прошли, только хочется быстрее попасть туда, где горят акациевые дровца, где пахнет летом и где его ждет жена с варениками.
Но вот в конце концов замечает дядька огоньки. Первая реакция – броситься навстречу. Но что-то удерживает. Присматривается. Мама родная! – блуждающие огни. Да это же волчьи глаза светятся! Целая стая их там. И тогда уже выбирать не приходится – изо всех сил мчится, несчастный, в противоположном направлении. Волки, конечно, не то, чтобы глупые, но не совсем умные. Они стараются обойти свою жертву с боков. А здесь что нужно? Стратегия? Э-э, нет, дружок, – ноги прыткие.
От страха у дядьки ноги удлиняются и удлиняются, скоро становясь такими длинными, что он делает семимильные шаги. А дальше так быстро ими перебирает, что ноги мелькают, мелькают, пока им и это не надоедает и они сливаются в одну ногу. Эта единственная нога то удлиняется, делая шаг вперед, то сокращается, пролетая над землей, то удлиняется, то снова сокращается: туда-сюда, туда-сюда. Чух-чух, чух-чух! Надоедает ноге и это однообразие, и она превращается в колесо. Дядька – кум королю: он уже не бежит, не летит, а катится себе на сказочном возочке без воинствующих политесов. Пока волки зайдут с боков и подойдут ближе, так наш дядька докатится до дома, и преследователи удавятся слюной. И что интересно: подмечено, что в таких случаях колесо страха, на котором едет верхом отчаянный гуляка, решившийся без подготовки попробовать зимней степи, доставляет его точь-в-точь домой.
Прибудет дядька к своему двору, снова встает на ноги, идет. Плечи развернет – орел, щеки – пылают, чуть не треснут, а ноги – подгибаются, черт бы их побрал! Шагает до порога неторопливо, величественно, дескать, прибыли хозяин собственной персоной, встречайте.
– И где только тебя черти носят?! – встречает его жена, чисто как он о том и мечтал.
Улыбается дядька, мнимые усы расправляет, а на самом деле сырость под носом вытирает: от сильного бега сосульки там растаяли и потекли.
– Черти, говоришь? Черти есть, только мы им пока что не по зубам.
А ночью шепчет жене ласковые слова и сознается, что никогда не верил в бабские побрехеньки о степных лешаках, о разных там сапогах-скороходах, о блуждающих огнях, а отныне – верит. Сегодня этот самый леший весь вечер водил его вокруг села и водил, водил и водил и от дороги в село глаза ему отводил. А потом появились блуждающие огни, страшные-престрашные, а леший – гоп! – колесо самоходное ему подкатил. На том колесе он и добрался домой. А без него, нет, не нашел бы дороги. Даже, когда верхом на колесе ехал, так и тогда не видел ее, колесо само знало, куда его везти. Такие хитрющие создания эти лешие, такие непредсказуемые они и опасные.
Жена слушает, млеет от нежности: он какой затейник ей достался! – это, когда сердце говорит. А ум свое правит: «Напился где-то! Чем же он, проклятущий, заел, что запаха не слышно?».
***
– Именно так я понимаю зимнюю степь с точки зрения мужчины, – говорит рассказчик.
– А с точки зрения женщины? – спросила Надя.
– Об этом – позже, не все сразу, – и Павел Дмитриевич хитро улыбнулся, так как знал, что удовлетворять любопытство полностью – грех. – Встретимся вечером.
Пускай жажда познания бурлит в молодых жилах, пусть носит юношей и девушек на своих крыльях, трясет их на разбитых тележках, словом, пусть зовет в странствия.
6
Духота еще не развеялась, солнышко лишь присело над горизонтом и, устав от собственных шалостей, нацелило лучи в небо, направило на жиденькие, размазанные по его своду облака. Но воздух, застоявшийся в осаде жары, уже вздрогнул над прудами, над буйными травами, сдвинулся с места и пошел на прогулку над крышами, над деревьями, туда, где его взбивали птицы ленивыми взмахами крыльев, а затем уклонялся от их щекотки и медленно спускался ниже к земле. И от того над ее поверхностью появлялся хлипкий ветерок, повевал, будто он выскочил из разогретой духовки, – таким обжигающим был. Тени удлинились, исполосовав окружающий мир бледно-серыми копиями его абрисов, не успев накрыть землю настоящим холодком или свежестью.
А Толик и Надежда снова пришли к Павлу Дмитриевичу, держа в руках гроздья винограда и огромные дыни.
– Что это вы придумали? – вышла к ним Евгения Елисеевна. – Зачем? – показала глазами на подарки.
– Отец говорит, что дядечка Павел очень виноград любит, а вам – дыни передал. Только с лозы срезал да с грядки сорвал, еще горячие, – похвалилась Надя.
– Ничего от людей не спрячешь, – засмеялась женщина, будто малый ребенок, радуясь подаркам. – О!
Надежда захватила инициативу и на все лады расписывала свои впечатления от «Зимней степи», сетовала, что такой удачный этюд достался не ей. Дескать, даже жары не замечала, слушая о такой замечательной зиме.
– Мне импонирует фантастическое, неразгаданное, все таинственное и непонятное, – она манерно подкатила глаза под лоб, звучно всплеснула ладонями: – Чтобы – ух! – и мороз по коже пробегал. Если бы можно было всем принимать участие в конкурсе, то я непременно именно такой бы материал выбрала.
– Кто тебе не дает! – расщедрился Толик и тем перебил вопрос, который собирался задать им Павел Дмитриевич про конкурс. – Пиши, присылай.
– Ты, главное, работай, – поддержала Толика тетка Евгения, обращаясь к девушке. – А там видно будет, что из этого выйдет.
Что это за конкурс? – подумал Павел Дмитриевич, да разве за детьми успеешь что-то сообразить.
– Мистика, мудрецы, маги... – продолжала девушка. – Неужели, в самом деле, в жизни бывает что-то подобное?
– Еще и как! – подхватил Кука. – Моей маме как приснится вещий сон, так и жди, что непременно сбудется.
– У вас есть что-то о мистике? Может, что-нибудь колдовское расскажете? – подпрыгивала девушка на скамейке.
– Одно из моих собственных приключений можно с уверенностью сказать, что и мистическое, начиненное гипнозом и любовными заклинаниями.
– Собственными или как у Навуходоносора? – продемонстрировала знание истории Надежда.
– Почти один к одному, как у него, – подтвердил Павел Дмитриевич. – Только в моем случае это был не царь, не правитель, а простой мужичонка.
– Чувствую, сейчас что-то будет, – засмеялась девушка, – Чур, себе забираю этот рассказ! – и она, словно на уроке, подняла руку.
7
Жил когда-то в Дивгороде смешной человечек по имени Бовдур Фома Данилович, родом из Чернигова. Местные жители для удобства называли его Бодя. Неизвестно когда он сюда приехал. Никто не помнил, чтобы у него была семья, родители или дети. Не имел он, наверное, и специальности, так как сразу пошел работать на железную дорогу разнорабочим ремонтной бригады и не рыпался больше никуда. Как-то он работал на объекте, и вдруг ему живот скрутило. Подбежал к дощатому «скворечнику», что был выстроен для ремонтников неподалеку под посадкой, когда смотрит – висит на дереве чье-то пальто, довольно приличное.
Сначала, как со временем рассказывал сам Бодя, он вскипел, возмутившись, что какой-то чужак – так как свои не имели такой шикарной одежды и не раздевались перед входом в «скворечник» – расселся здесь, когда ему туда позарез надо, а потом решил проучить наглеца. Хапнул это пальто и – ходу! Сделал ноги, как теперь говорят.
И сразу же услышал за спиной: «Стой! Куда ты? Спасайте, грабят!».
Оказывается, рассевшийся по нужде чужак не переставал следить за своим добром через щель между досками туалета. Увидел вора и, как был, выскочил навстречу преступнику. Набегу он одной рукой застегивал штаны, а другой махал над головой: «Стой! Люди, помогите! Ловите вора!».
– Выпустить добычу я не мог, почему-то заупрямился. Случается же такое... – сознавался позднее Фома. – Во-первых, пальто было совсем новенькое, а во-вторых, – уже почти мое. Думал, что этот полуголый не догонит меня.
Его, конечно, поймали. Судьи случились серьезные и припаячили дураку пять лет. А времена были – не приведи Боже: 37-й или 38-й год, когда властвовали строгость, даже жестокость закона. Война застала Бодю в лагерях. А когда в сорок третьем Дивгород освободили, он, отбыв наказание, снова появился здесь.
Куда деваться? Ничего нет, здоровье потерял, голова вся блестит лысиной, как бутылка, в роте осталось два зуба, «чтобы сахар грызть». На человека не похожий, да еще и человеческий язык забыл, пользовался исключительно жаргоном. Господи! Приняла его к себе Настинька, была здесь такая женщина, небольшого росточка, одинокая, хоть и имела дочь-подростка Нону. Девочка, правда, была немного не в себе, но по-своему сообразительная.
Настинька одела примака, как смогла. Обувь приобрела: на правую ногу калошу, а на левую – «шахтерку» (калоша без стельки, из голой резины), кой-какое тряпье на плечи ему достала. Не голый, одним словом. Ну и, конечно, откармливать начала. Годы военные, тяжелые, но она работала в колхозе, и что-то там все-таки получала.
– Зачем ты этого дурака приняла? – спросила как-то у нее Нона.
– Молчи! Это тебе отец будет, – цыкнула на нее мать.
– Ге-ге-ге... – заревела Нонна, засмеялась. – Какой из него отец? Он, гляди, к Цапику за балку бегает.
Цапиком в Дивгороде называли одного самогонщика из заезжих поселенцев, который жил в Третьяковой, что за Собачьей балкой лежит.
Пьянство для Боди было милейшим занятием. Он умел выбрать благоприятный момент, настроение и интонацию, чтобы расположить Настиньку, умилить ее и выжать из нее деньги на «розговенье». Нона ошибалась – сам он к Цапику не бегал, так как безвылазно прогревал косточки на печи, а посылал туда Настиньку:
– И-и, Настинька, я вот сижу и вспоминаю Север. Ой, какие там были ребята! – этими словами он начинал наводить гипноз на женщину, очаровывать ее и продолжал: – Когда я был на Севере... О, если б ты видела...
– Как ты туда попал, Фомочка? – спросила слушательница.
– Да вот, попал. Нашел в Новогупаловке пальтишко, а оно оказалось не мое. Дали мне, Настинька, пятерик ни за што и послали в район реки Печоры. Но я сразу завоевал там авторитет. Бывалоча, приедут из Наркомата и идут не к директору, а сразу ко мне. Спрашивают: «Бовдур здесь?». А потом понадобились такие специалисты, как я, на Севере. Меня по решению столицы направили на берега Карского моря, где в него впадает Енисей. Там строился новый огород, Дудинка называется. Знаешь?
– Нет, котик.
– Ну вот. Я его строил. Меня сразу взяли на атлас и – туда!
– Куда тебя взяли, дорогой? – переспросила Настинька.
– На атлас, на этап значит. Слушай, и снова я стал большим человеком, меня поставили бугром по строительству. Я подобрал себе бригаду из двенадцати ребят. Орлы! – все из блатных. Начали работать. Опять же, как делегация из Москвы, – сразу ко мне, мол, надо здесь многоэтажный дом построить. «Хорошо, – говорю, – будет сделано. Только вы мне скажите, куда его окнами ставить, сколько шагов должно быть в длину, ширину и какая высота».
– Это мы вам сообщим дополнительно.
И Бодя продолжал выхваляться:
– Я иду и шагами – раз, два, три – меряю. Показываю ребятам: «Здесь бей кол, здесь и здесь». А москвичам говорю: «Можете ехать в столицу, вам здесь быть не обязательно». И отдаю подчиненным распоряжение: «Начинайте земляные работы, а когда возведете цоколь, за дело возьмусь я».
В этом месте Бодя всегда прикрывал глаза и замолкал в сентиментальной задумчивости.
– И-и, Настинька, ты не знаешь, што в строительстве самое главное.
– Что же, горе ты мое? – откликалась Настинька.
– Главное – завести углы. А когда я становился заводить углы – это было настоящее зрелище. Представь, на улице сорок градусов мороза, а я – в одной майке и из меня пар идет. Мои двенадцать ребят становятся на подсобные работы и не у-спе-ва-ют. Я шурую, у меня горит все в руках. Мужики стоят, смотрят: «Подлец, что делает!». А я как крикну: «Ребята, кельма!» – все прямо млеют вот восхищения. Ха-ха-ха-а-а! – долго смеется хриплым негромким смехом. – И вот я завел углы до конца и уезжаю в командировку. Через неделю возвращаюсь, а дом уже стоит. Главное же углы завести!
– Разве заключенных посылали в командировки? – кумекает женщина, что ее милый фантазирует.
Фома молчит, словно не слышит. А через несколько минут продолжает:
– А зарабатывали мы как! Я деньгам счету не знал. У меня посылать их было некому, и я все складывал в тумбочку. Приходит, бывало, получка. Кассирша прямо бегает за мной: «Данилович, возьмите деньги» – просит. «Иди к чертям! – говорю. – Сама отнеси в мою тумбочку». Она пойдет, пихает их туда, пихает, а они не лезут – места уже нет. Так она скомкает их и под подушку засунет, и все. А ребята голодали, особенно те, которые домой деньги отсылали. И вот приходит суббота, – шамкает рассказчик беззубым ртом. – Где-то на материке – холода, снега, морозы. А Север – в цвету. В Дудинке стоит жара, люди загорают на берегу Карского моря. Я лично любил в тени пальмы отдыхать. Говорю: «Ну, что, ребята, гульнем?». Привожу их в ресторан, где у меня свой столик был. «Что закажем?» – спрашиваю.
– И, и... – стесняются. – Ты хозяин...
– Что?! Я плачу, и шутки прочь! – говорю.
Первое дело, берем по сто пятьдесят. А на моем столике специальная кнопка была. Я официанта не зову-у-у! Нажал кнопку, дал сигнал, у официантов раздается: жу-жу-жу, и все уже известно. Ребята смотрят – только поговорили, а нам уже несут. Чудеса! А закуска! Чего душа хочет: огурчики, помидорчики. Все думают: «Что такое? Откуда?». А я сижу и: «Ха-ха-ха!». Потом мы любили петь. Особенно мне нравилась песня «Шумел камыш». У меня голос был, как у соловья. Все ребята уже перестанут петь, а я еще тяну: и-и-и! Да как подсвистну, как подсвистну!
Нона шмыгает хронически мокрым носом, так как она всегда простуженная была.
– Как это чудо могло свистеть? Ни одного зуба у него нет. «Шевер, шоловей, жову...» – обезьяна, – передразнивает и заодно констатирует она. – Наверное, и на «Шевере» не был, все врет.
– Ух ты, ведьма французская! Смотри, ишь какая! Кровь мою пьет, – аж подскочил от оскорбления наш лгунишка.
– Фомочка, не нервничай. Она еще ребенок, – успокаивала его Настинька.
– Пошел на фиг твой ребенок! Попробовала бы она на Севере так со мной обращаться, я бы шепнул ребятам, и наутро от нее только ухо принесли.
– Боже! Фома, ты думай, что говоришь!
– Што Фома? Што Фома? Ты знаешь, что она вчера сделала?
– Ги-ги-ги! – смеется Нона.
– Как будто ничего не сделала... – растерянно говорит Настинька.
– Да?! Я тихо сижу на печке, греюсь. Смотрю, заходят три цыгана и этот «ребенок» с ними.
– Где же обезьяна? – спрашивают цыгане. А твоя Нона на меня показывает.
– Вон, на печке сидит, – говорит им. Она, собака, ходит по селу и рассказывает, што вы в доме обезьяну держите. У... подлая! – выставляет Бодя в сторону Ноны два пальца рожками. – Кабы моя сила!
– Фомочка, она немного больная, не сердись на нее.
– Да? А деньги с цыган брать за этот цирк – не больная? Они за ней после этого три часа гонялись и не отняли.
– Что ты выдумываешь? Она не умеет быстро бегать.
– Зато цыгане умеют! А эта зараза вон на том осокоре отсиделась. Скажи спасибо, што после такого унижения я не видал ее. – И снова к Ноне: – Ах ты, ведьма!
– Не раздражайся, – просит женщина.
– Ты знаешь, Настинька, што? – успокаивается оскорбленный мужичонка. – Я вот сижу и вспоминаю Север. Если бы это было там, ты бы у меня вся в золоте ходила. А здесь же ничего нет! Возьми Цапика, – намекает на самогонщика из Третьяковой. – Што он здесь стоит? Ничего не стоит! А на Севере его бы на руках носили. Ты представляешь, какая у него голова? Это же уму непостижимо, какая голова!
– Чем же он такой умный? Всегда неопрятный. Что он выдающегося сделал?
– Хи-и-и... Што сделал? Ты смотри, вот эта свекла, это – трава, сорняк. А он из этого бурьяна такую самогоночку делает. Это же какую голову надо иметь! Здесь людей не ценят, Настинька... – и продолжает свое заклинание: – Настинька, так я говорю, вспомнил Север, и просто захотелось выпить.
– Где же его взять, Фома? Нет ничего.
– Ты знаешь што, Настинька? Набери ведро пашанички и отнеси Цапику. Пускай нальет просяного первачка.
– А сами чем будем зимой харчеваться?
– На-астинька, не жалей. Я скоро пойду на молзавод мастером работать. Меня с руками заберут. Ты у меня будешь в масле, как уточка, плавать. Да. А буду возвращаться с работы, печку кому-нибудь сделаю и полкосухи в кармане принесу. Тебе будут со всех концов нести и везти, завалят двор добром. Не жалей.
Набирает глупая Настя ведро пшеницы, отправляется к Цапика, наклонив голову.
– Настинька, подожди! – кричит ей вслед Фома.
– Что еще?
– Мы с тобой старые люди, нам надо больше отдыхать, иметь покой, тишину.
– Кто тебя, Фомочка, беспокоит? Отдыхай.
– Эгэ-э! Кто... Самый дорогой отдых – это на рассвете. А здесь у тебя во дворе этот петух: ку-ка-ре-ку! ку-ка-ре-ку! – орет и будит меня.
– Отцепись хоть от петуха! Что я ему, глотку заткну?
– Не надо! Ты его поймай, злодея, и отнеси Мотайлихе. Пускай нам сметанки нальет. Ты знаешь, я люблю сметанкой закусывать.
– А как же куры будут без петуха?
– Што куры? Куры яйца несут и без петуха. А которая захочет, пускай сбегает к соседскому. Зато у нас наступит покой. Да.
Так они выносили «пашаничку» и кур со двора и к весне умерли от голода.
***
Павел Дмитриевич закончил рассказывать и посмотрел на слушателей:
– Что притихли? Грустно, да?
– Странные судьбы были у людей, – сказала Надя. – Этот Фома Данилович имел фантазию, но не сумел развить ее в себе, направить в полезное русло.
– Да он ничегошеньки на свете не знал! – воскликнул Толик. – Непостижимо, он думал, что если море, значит, там тепло!
– Что правда, то правда. Если бы он получил для начала мало-мальское образование, хоть какое-то воспитание, то не наделал бы глупостей и остался бы человеком. Но тогда же, господи, детская беспризорность была такая, что сказать страшно. А он был, по всему, именно из беспризорников.
– Неужели и Нона умерла? Жаль девочку, она не была лишена практичности, – задумчиво сказала девушка.
– Нет, Нона выжила. Но это тоже печальная история, ибо девчонка демонстрировала не лучшее поведение в поселке. Когда-то, придет время, я расскажу и о ней, если доживу, конечно.
– Почему не сейчас? Расскажите уж, а то любопытство разбирает.
– Нельзя. Некоторые ее потомки живут здесь, и это как раз не те лица, которыми можно гордиться. Конечно, люди не всегда виноваты в своей судьбе.
– Понятно, – согласилась Надя. – Заинтриговали вы нас. А не боитесь, что этот материал будет утрачен? – неуклюже намекнула на возраст рассказчика.
– Материалы, которые могут быть опубликованы после меня или по смерти моих героев, я надиктовал на пленку Низе Павловне, своей дочке. Дал ей наказ продолжать ось времен, не прерывать нашу творческую эстафету, которую я когда-то получил от своей мамы.
***
Вдруг все вздрогнули от раскатистого грохота, и вместе с тем Жужа залилась лаем.
– Это за мной, – Надежда грустно обвела взглядом присутствующих. – Мама по воротам гатит. Сейчас она мне чертей даст.
– Ты здесь или нет?! – послышался грозный голос Веры Ивановны. – Можешь домой не припаривать! Сегодня ты у меня получишь по спиняке, гавеля такая, табуретюра. Только попадись мне в руки! – голос начал медленно отдаляться и в конце концов затих.
– Выговорилась и пошла домой, – перевела дыхание девушка. – Пронесло на этот раз. Пошли, – облегченно кивнула она Толику.
***
– Сдается мне, – гордилась мужем Евгения Елисеевна, убирая после ужина со стола, – что ты, как проповедник, распространяешь забытое учение о любви к людям и к земле своей. А что такое земля? – вслух размышляла она дальше. – По большому счету, это кровь и плоть наших предков, предшественников, история их жизни. Это дела, которыми они занимались и благодаря которым обеспечили нам настоящее.
Позднее супруги перешли в гостиную. Здесь они включили телевизор, приглушив звук, как зачастую делали, и взялись за книжки. Спустя время Евгения Елисеевна продолжила: