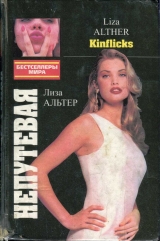
Текст книги "Непутевая"
Автор книги: Лиза Альтер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 25 страниц)
– Мисс? – нетерпеливо спросил кто-то в белоснежном халате.
– Простите.
В безликой лаборатории, выкрашенной в зеленый цвет, никого не было. Джинни толкнула какую-то дверь и увидела за микроскопом доктора Фогеля. Рядом стояла центрифуга и подставка с пробирками. Время от времени доктор делал торопливые записи на желтом бланке.
– Доктор Фогель?
Он поднял голову.
– Извините, мисс Бэбкок. Я очень занят. Передайте все, что хотели сказать, моему секретарю.
– Его нет. Скажите, помогло ли переливание?
– Трудно сказать. Результат такой, как мы ожидали: уменьшилась анемия, приостановилось кровотечение. Но тромбоцитов всего двадцать пять тысяч в кубическом миллиметре.
– А норма?
– Хотя бы сто тысяч.
– Можно, я посмотрю?
– Ну, не знаю… Это запрещено, мисс Бэбкок. И ваше присутствие здесь…
Она заглянула в микроскоп: на разделенной на квадраты сетке маленькие прозрачные тельца. Тромбоциты мамы? Или ее собственные?
Доктор внимательно изучал на свет какую-то пробирку, сравнивая с другой.
– Что вы делаете?
– Проверяем кровь вашей мамы на антитела, чтобы знать, как повлияло переливание на иммунную систему. Нужно назначить новое лекарство.
– От чего?
Он удивленно посмотрел на нее.
– От депрессии, конечно.
Конечно? Она вздрогнула. О депрессии говорил доктор Тайлер. Теперь Фогель. Что может так угнетать ее мать? Смерть мистера Зеда? Смерть майора? Или разочарование в детях? Она почувствовала себя виноватой. Чего бы ни ожидала от своих детей мать, она этого не получила. Иначе не говорила бы так о Карле и Джиме – снисходительно и вздыхая. И о Джинни она говорила бы с ними точно так же. Наверное, мать права: только в очень сложных обстоятельствах ее дети могли быть с ней заодно.
– Ну, вы убедились, что все под контролем?
– Хотелось бы верить… Но все-таки, доктор, насколько опасно она больна?
Он покраснел и отвел глаза.
– Мисс Бэбкок, вы спрашиваете так, словно я должен дать ответ по десятибалльной шкале. Не могу. Меня учили спасать человеческие жизни. Я делаю все, что могу. – Он склонился над своим микроскопом. Джинни снова не получила ответа.
В лоджии спорили мистер Соломон и сестра Тереза. Джинни тихонько села в уголке и стала смотреть, как обедает мать.
– …Видите ли, сестра, в человеке нет ничего, что заслуживало бы продолжения после смерти. Неужели вы хотите загробной жизни? Это бессмысленно. Мы – испорченные существа, недостойные жить.
– Мистер Соломон, – теребя медальон, терпеливо сказала сестра Тереза. – Не понимаю, как вы до сих пор живы. Вы не понимаете, что Господь уважает нас и поддерживает, несмотря на всю суету и бренность. Неужели вы сердцем не чувствуете эту поддержку? Когда вы видите солнечный свет, заливающий луга и предгорья, неужели не чувствуете здесь, – она прижала руку к своей впалой груди, – что хотите вы того или нет, но Бог – на своем небе, и в мире все в порядке? Поверьте мне, мистер Соломон. Он есть.
– Нет, сестра, – он похлопал себя по груди. – Я не чувствую этого. По-моему…
– Прекратите! – Тарелка с молочным супом полетела на пол. – Вы можете оба заткнуться? Тарахтите, тарахтите об одном и том же. Вы даже не слышите друг друга! – Миссис Бэбкок встала и с шумом отодвинула стул. – Единственная, у кого здесь есть здравый смысл, – миссис Кейбл.
Джинни подскочила, взяла мать за руку и вывела в коридор, предоставив другим убирать разлитый суп и осколки тарелки.
– Мама…
– Ни слова! Ни слова больше!
Что-то произошло. Коридор вытянулся в несколько миль. Она шаркала, опираясь на руку Джинни, и не понимала, куда и зачем идет. Ей было все равно.
Она легла на кровать и задремала. Странное ощущение. Не усталость, не депрессия – с ними она хорошо знакома. По сравнению с этим новым состоянием депрессия казалась самой энергией. Из нее словно ушли все силы. Мозг окоченел. Единственной эмоцией, если это можно назвать эмоцией, было полнейшее равнодушие. Это смерть? Она приподняла безжизненную руку: темно-красные, черные, зеленые кровоподтеки. Эта комичная рука – ее? Ради Бога, что за суета вокруг?
Палату застилал туман. Вокруг сновали люди, что-то делая с ее жалким телом. Жужжат, жужжат, как растревоженные пчелы… Она хотела сказать, чтобы ее оставили в покое, но не смогла.
Прибежал доктор Фогель, осмотрел ее и обернулся к Джинни.
– Ничего страшного. Органы чувств функционируют. Может быть, она просто устала.
Лежа с трубкой, по которой из ее вены в тело матери текла кровь, Джинни смотрела «Западную хронику». Два красавца холостяка выполняют невозможно сложную операцию, вырывая из когтей смерти маленького мальчика, и одновременно отпускали шуточки, цитировали Шекспира и флиртовали с хирургическими сестрами, умудрявшимися даже в строгих белых халатах и шапочках выглядеть соблазнительно.
Постепенно ею овладело полнейшее равнодушие. Как будто она заразилась от матери… Ее не интересовали ни молодые хирурги, ни больная мать, ни Айра, ни Венди. Невероятное напряжение последних недель, казалось, дошло до предела, за которым она уже ни на что не была способна. Никаких эмоций. Так они и лежали – мать и дочь, – окутанные океаном равнодушия.
В палату входили люди, отмечали что-то на карточке, поправляли подушки и выходили. По телевизору показывали «Бой часов»: лохматая женщина в желтом плаще старалась удержать на лбу пакет с молоком, летая по сцене на скейтборде, пока огромные часы отстукивали призовые деньги.
– Выключите телевизор, пожалуйста, – попросила Джинни.
Они – мать и дочь – лежали и слушали, как все медленней тикают на прикроватной тумбочке их фамильные часы. Джинни не понимала: то ли они стали отставать, то ли у нее заложило уши. Ей было все равно. Наконец часы остановились совсем. Джинни с трудом добралась до особняка. В ящике лежало письмо; на конверте почерком мисс Хед было написано: «Вернуть отправителю». Письмо даже не распечатывали. Джинни равнодушно сунула его в карман, прошла мимо таблички «Продается» и направилась в дом.
Ее спальня наверху осталась точно такой, как и девять лет назад. Двуспальная кровать под балдахином, туалетный столик, высокий комод в стиле королевы Анны. Мать много раз советовала ей разобрать свои вещи. «Зачем? – огрызнулась Джинни. – Ты собираешься взять жильцов? Что тебя не устраивает?»
Как бы то ни было, всякий раз, приезжая домой, Джинни собиралась навести в комоде порядок, и каждый раз понимала, что не сможет ни с чем расстаться. Программки соревнований в Халлспортской средней школе за 1960–1962 годы; ярлычки от бюстгальтеров; детские каракули Джо Боба – список трахающихся пар; поеденная молью форма чиэрлидера с девизом «Бороться и искать, найти и не сдаваться»; лента с фестиваля табачных плантаций; наплечники и закрывающий лицо шлем; комиксы про дядюшку Скруджа…
Джинни почему-то всегда была уверена: стоит ей все это выбросить – и мать обязательно пустит жильцов. У этой уверенности не было оснований, но Джинни всегда считала этот старый особняк своим домом, а комнату – своей комнатой. Не каменный дом Блисса в Вермонте, не мансарду в Уорсли, не квартиру или флигель в Старкс-Боге.
Прошлое реальней настоящего. Но в этот день Джинни без всякого сожаления вытащила все из комода, связала в узел и отнесла в контейнер для мусора. Когда-то она мечтала, что будет жить в этом доме с Венди, что ее комната станет комнатой дочки и та тоже будет собирать в комод всякий хлам. Но теперь она понимала, что этого никогда не будет. Настало время избавить себя от прошлого.
Она вернулась в хижину, равнодушно достала из холодильника липкую массу, скатала шарики и покормила птенцов. Если они умрут – так тому и быть. Ей все равно. Она легла на широкую двуспальную кровать, на которой когда-то родилась, и закрыла глаза. Ни чувства вины, ни удовлетворения, ни страдания – ничего. Даже нет ожидания будущего.
Миссис Бэбкок проснулась совершенно разбитая. Тело зудело, будто искусанное пчелами. Какой страшный вчера был день! Она вспомнила свое состояние – наверное, то же чувствуют люди перед тем, как замерзнуть: примиряются со смертью и перестают бороться за жизнь. Она никогда не покинет это ужасное место. У нее еще много дел: поблагодарить за цветы, докончить вышивание, прочитать последний том энциклопедии…
Она встала и подошла к окну. По веткам деловито сновали рыжие белки. Какая красота! Тампоны не пропитались кровью, подклад между ног тоже чист. И кровь свернулась – стремительная мисс Старгилл сделала анализ – всего за шесть минут. Переливание снова помогло!
Она завела часы – не на восемь оборотов, а до конца. Вчера они отставали. Удивительно, как по-разному течет время. Как пробегали когда-то летние каникулы! Время меняется с возрастом людей. Почему? Она не знала.
Часы молчали. Что случилось? Может быть, мистер Соломон… Она вспомнила сцену в лоджии и ужаснулась. Как она смела накричать на него и сестру Терезу, страдающих, может, даже умирающих? Они имеют право говорить о чем угодно. Конечно, нелепо рассуждать, есть Бог или нет, но если им это нравится? В конце концов, можно и не ходить в лоджию.
Она с невесть откуда взявшейся энергией пошла к мистеру Соломону и извинилась. Потом – к сестре Терезе.
– Пожалуйста, не извиняйтесь, миссис Бэбкок. Я все понимаю. Иногда нелегко понять деяния Господа. Для верующих смерть – продолжение жизни, а для тех, кто не верит, жизнь полна абсурда и мучений.
Миссис Бэбкок серьезно кивнула и решила не отвечать. Что бы она ни сказала, прозвучит слишком легкомысленно и цинично по сравнению с такой высокопарностью. Если бы ей пришлось выбирать между ними двумя, она предпочла бы нигилизм мистера Соломона. К счастью, ей незачем выбирать. Она возьмет для себя у одного и у другого то, что облегчит ей муки, когда придет ее час.
Джинни открыла глаза. В окно било солнце; она лежала, одетая, на кровати. Значит, в этом дурацком оцепенении она провалялась весь вечер и ночь? У нее столько дел! Рубить куджу, кормить птенцов… В лекциях по психологии это называлось эгоцентризмом.
Она вскочила и подбежала к птенцам. Они пищали и царапались в своей корзине. Странно, что они не умерли с голоду. Она принесла еду и стала их кормить. На нее сердито смотрели черные глазки-бусинки, а крошечные горлышки конвульсивно дергались, глотая шарики. Она капнула в них воды и закрыла крышку.
С таким же любопытством, как когда-то в книгу доктора Спока «Ребенок и уход за ним», она углубилась в книгу Бердсалла. Почему они пищат? От голода или просто потому, что маленькие? Бердсалл не выдавал своих секретов. Она вспомнила, как когда-то ждала, что ее осенит и наконец она поймет теорию Эйнштейна, и отложила книгу.
«Лучше убить», – советовал автор.
«Нет, – проворчала она. – Кто, к черту, был этот Вильбур Дж. Бердсалл? Сидел в своей лаборатории в Чикагском университете, за много миль от настоящей жизни птиц! Что он мог знать? Вполне возможно, что он ошибся в отношении пищеварения стрижей. Птенцы вполне переварили смесь гамбургера и тунца. Их не вырвало. Может, дело в страшной действительности? Они понимают, что здесь не лаборатория профессора Бердсалла? Нужно побороть преклонение перед авторитетами и доверять собственным глазам».
Если верить Бердсаллу, птенцам пора летать. Окрепли ли уже их мускулы? Достаточно ли выросли крылья? Вдруг они упадут и разобьются? Нужно проверить. Она предоставит им свободу прежде, чем они привыкнут во всем полагаться на нее. Она заставит их летать, находить семена и строить гнезда. Может, вся информация заложена в их генах? Нужно спешить, пока их инстинкты не притупились.
Она открыла корзину, извлекла на яркий свет отчаянно запищавшего птенца, осторожно расправила ему крылышки и подбросила вверх, как конфетти. Он прижал к бокам крылья и тяжело, будто черная пуля, упал в куджу. Джинни вытащила второго и повторила свой опыт. По ее теории – не зря же она играла в футбол! – развитие зависит от необходимости. Она подбросила обоих птенцов еще раз и со вздохом вернула в корзину.
В кармане шелестело письмо. Ей стало больно: мисс Хед, которую она любила – да, любила, что бы ни подразумевалось под этим словом, – и которая тоже по-своему любила ее, не хотела иметь с ней дел. Джинни знала, что поступила скверно. Мисс Хед делилась с ней всем, что имела, а Джинни отплатила ударом. Если мисс Хед недостаточно семи лет, чтобы простить ее, значит, она уже не простит никогда. Джинни легла на кушетку и позволила себе роскошь выплакаться. Слезы были солеными, как кровь.
Она успокоилась, вытерла слезы и вышла из хижины. Пора ехать к матери. У особняка она остановила джип и по заросшей сорняками лужайке прошла к зарослям магнолий. Лицо утонуло в лепестках душистого кремового цветка. Этот аромат сопровождал ее жизнь в Халлспорте; он витал на танцах в средней школе, на фестивалях и праздниках: главным украшением всегда были эти роскошные цветы. Она сорвала два цветка и бережно положила в машину. Потом торопливо подошла к мусорному контейнеру, решительно вытащила все, что выбросила вчера, и перенесла в свою старую комнату. Как обрадуется Венди книжкам про дядюшку Скруджа, думала она, укладывая все точно в таком порядке, как оно лежало до ее глупого вмешательства. Она расскажет своей очаровательной дочке обо всем – почти обо всем, – что делала и о чем мечтала в детстве. Эту комнату она отдаст Венди. Джинни достала из книжного шкафа свою любимую потрепанную книгу: на мятых страницах были нарисованы животные со своими мамами: счастливые ягненок и овца, жеребенок и кобыла, поросенок и свинья. Потом запечатала книжку в большой коричневый конверт и написала адрес Венди.
…В больнице она застала мать, пишущей письмо. Глаза блестели, лицо выглядело не таким одутловатым.
– Привет, – сказала она и улыбнулась.
– Привет! – Джинни наполнила банку водой и поставила цветы на тумбочку. Она была очень довольна, что догадалась проявить инициативу.
– Спасибо, дорогая, – удивленно поблагодарила мать. – Они чудесны.
– Правда?
– Хотела бы я их понюхать!
– Понюхаешь, не успеют и завянуть, – успокоила ее Джинни.
Мать безмятежно кивнула.
Кто-то оставил мамину амбулаторную карточку. Джинни открыла последнюю страницу: тромбоциты – сто десять тысяч единиц в кубическом миллиметре, время свертывания – шесть минут.
– Фантастика!
– Да, конечно. Я чувствую себя так, будто все страшное позади.
– Ну-ну, не сглазь! Смотри-ка, часы идут! Они ведь вчера отставали?
– Не помню. Мистер Соломон что-то сделал с пружиной, и все в порядке. Знаешь, он – удивительный человек. Почти ослеп из-за своей катаракты, но правильно поставил «диагноз» и починил часы. Сказал, что они изумительные. Немецкие. Не представляю, как расстанусь с ними. Они достались мне по шотландско-ирландской линии в нашей семье.
– Я знаю. А те часы – в холле – по-моему, голландские?
– Да. Но я не думала, что ты слушала мои рассказы.
– Рада была бы не слушать, мама. Ты столько рассказывала о своих предках, что хочешь не хочешь, все запомнишь.
– По-моему, это неплохо.
– Это по-твоему.
– Это была не моя инициатива. Вы, дети, вечно заставляли показывать вам фотографии и рассказывать, как они жили и умерли.
– Мы? Ты единственная тряслась над своими предками и упражнялась в некрологах и расписаниях похорон.
– Прости, дорогая, но ты ошибаешься. Вас – особенно тебя – постоянно преследовали обиды, падения, ожоги. Я не знала, как уберечь тебя и что делать или не делать, чтобы воспитать в тебе храбрость и одновременно осторожность. В конце концов я пришла к выводу, что ты такая неприкаянная потому, что отец оставил тебя в двухмесячном возрасте и ушел на войну. Ты слишком рано стала самостоятельной.
– Я помню все иначе. Помню, как ты всего боялась. «Береженого Бог бережет», «Ты упадешь с мотоцикла, дорогая, и на тебя наедет другой мотоцикл», – передразнила Джинни.
– Тебя всегда очень интересовала смерть, – продолжала мать. – Ты задавала массу вопросов: «Почему человек умирает?», «Почему Бог допускает это?», «Умрет ли он?», «Есть ли у него жена и дети?», «Умру ли я?», «Когда умрете вы с папой?», «Что будет со мной, когда я останусь одна?», «Достанется ли мне папина машина?» И так без конца. В конце концов нам с папой становилось смешно, а ты плакала и обвиняла нас в том, что нам все равно, умрешь ли ты.
Ты помнишь, как уговаривала меня раскопать тела кошек, собак и птиц, которых мы хоронили в углу двора? Ты хотела увидеть, что с ними стало.
– Нет, мама, – недоверчиво покачала головой Джинни. – Нет. Это ты твердила о смерти. Ты ночи напролет сочиняла эпитафии и некрологи. И каждое лето таскала нас на кладбище приводить в порядок могилы.
– Не преувеличивай, дорогая. Конечно, меня все это интересовало, но что здесь необычного? Люди хотят быть уверенными, что их желания в точности выполнят, и возвращаются к этому, если что-то изменится. В конце концов, близкие могут растеряться, столкнувшись со смертью. Откуда у тебя эти странные мысли?
– Не знаю… А надгробные памятники? Признайся, что ты таскала нас черт знает на сколько могил!
– Я бы не сказала, что их было много. Памятники больше интересовали меня с художественной точки зрения.
Кто из них прав? Почему они помнят об одном и том же так по-разному?
– Что с твоими птенцами? Они еще живы?
– Да. Я их покормила. Я нашла ту книгу. Ее написал Бердсалл. Он советует убить птенцов, если найдешь. Я накормила их гамбургерами, и они до сих пор живы.
– Странно… – хмуро ответила миссис Бэбкок.
– Конечно. Но мне пришло в голову, что то, что происходит в лаборатории, отличается от реальной жизни. Бердсалл пишет, что они едят только пережеванную родителями пищу, но моим птенцам придется научиться переваривать другую еду. Похоже, они ее усваивают. Ты согласна?
– Конечно. Попробуй дать им яблоко. Натри на терке. Я читала в энциклопедии.
После обеда они снова смотрели «Тайные страсти».
– И на что нам это нужно? – снисходительно улыбнулась мать. – Подумать только, сколько классики я не прочитала!
– Мы все на этом крючке.
– Да. Но мне действительно неинтересно, что случится с этими персонажами.
– Ну, ну, мама. В душе мы с тобой бессовестные сплетницы.
– Что ж, притворимся, что нам просто любопытно, почему миллионы американок каждый день приникают к телевизорам.
– Ладно.
В этот день серия была покороче. Фрэнк обнаружил, что отец его ненаглядной дочки – двоюродный дядя зятя его жены и что она до сих пор встречается с ним и принимает от него подарки. В душещипательной сцене он выгнал Линду из дома и запретил видеться с дочкой. У Джинни внутри все оборвалось.
– Знаешь, – сказала она во время рекламной паузы, – я возмущена. По-моему, этот Фрэнк прекрасно знал, что Марти – не его дочь.
– Откуда? Ему это и в голову не приходило.
– А тебе не кажется, что он переборщил с Линдой?
– Почему?
– Неужели секс – самое главное? Стоит ли так суетиться?
Миссис Бэбкок задумчиво посмотрела на дочь.
– Секс вне брака вульгарен, дорогая.
Джинни не успела возразить: фильм продолжился, и они замолчали. Целых полчаса Фрэнк пытался объяснить своей трогательной дочурке, что ее мама уехала навсегда. Джинни до слез тронули детская недоверчивость и страдания, тем более что она знала из психологии: ранняя утрата любящей матери предрасполагает человека к депрессии в зрелом возрасте.
– По-моему, – грубо сказала она, – ребенку в этом возрасте плевать, кто его настоящие родители.
– Детям необходима мать, – ответила миссис Бэбкок.
– Черт побери! И не только одним детям! – крикнула Джинни.
Вечером она направилась по знакомой тропинке в летний домик. Она шла рядом с Клемом, Максин – сзади. Снаружи домик ничуть не изменился. Дверь была заперта на замок и цепочку, но теперь над ней висела вывеска «Святой Храм Иисуса». У двери толпились человек шесть. Джинни никого не знала. Скорей всего это были фермеры с окрестных ферм. Они были одеты в отутюженную темнозеленую рабочую одежду и аккуратно причесаны. Некоторые принесли инструменты в футлярах. На женщинах были пестрые платья, носочки и платки. К Клему и Максин они обращались с почтением: «Сестра Клойд», «Брат Клойд». С тех пор, как сгорела ферма Свободы, Джинни не слышала, чтобы люди так называли друг друга. Брат Клойд представил ее как своего старого друга. Она поняла: он верит, что она не расскажет «сестрам» и «братьям», чем занимались они на полу Святого Храма почти десять лет назад.
Сегодня Джинни принарядилась: надела свое крестьянское платье и даже намочила волосы в тщетной попытке немного их пригладить.
На каменном полу в несколько рядов стояли грубые скамьи, а перед ними – помост. Мебель была та же – Клем сделал ее в детстве, – но книжные полки заставлены не душещипательными романами, а потрепанными сборниками церковных гимнов. Маленький столик, на котором она сидела перед отъездом в Уорсли, превратили в алтарь, накрыв белой скатертью с бахромой. Над ним на стене висел простой деревянный крест. По каменному желобу все так же струилась прохладная вода.
Джинни села в последнем ряду и постаралась не привлекать к себе внимания, хотя на нее и так никто не смотрел. Она не переставала удивляться Клему. Дело даже не в его выздоровевшей ноге; она помнила его угрюмым, патологически грубым, а теперь он стоял в дверях домика и приветливо улыбался прихожанам. Совсем другой, уверенный в себе человек, уважаемый фермер, отец семейства, пастырь своей паствы. Джинни знала, что люди меняются, но чтобы до такой степени? Клем – пример того, что для человечества еще не все потеряно.
Трое мужчин достали гитару, контрабас и барабаны. Кто-то благоговейно поставил на алтарь большой черный ящик. Собралось человек двадцать. Максин стояла на помосте – точно так же, как стояла много лет назад в «Ведре крови» и пела «Когда моя боль обернется стыдом»… В свете керосиновых ламп поблескивал затерявшийся между огромными грудями крестик.
Постепенно песню подхватили все. Прихожане прихлопывали, пританцовывали и даже кричали под музыку «Да, Господь!» и «Любимый, любимый Иисус!»
Ритмичные хлопки словно загипнотизировали Джинни. Она тоже начала подпевать и хлопать, и совсем не из вежливости. Сначала просто не хотела обидеть Клема и Максин, но потом и ее захватил наэлектризованный поток эмоций.
Женщина рядом упала на пол, судорожно задергалась, что-то забормотала, но Джинни не испугалась. Она пела и хлопала с тем же восторгом, как и все остальные.
На помост поднялся Клем и запалил фитиль, торчащий из бутылки с керосином.
– Господь повсюду в океане, Господь повсюду в мире, Господь во мне…
Стоило Клему заговорить, как все стихло.
– Помните, братья и сестры, – спокойно сказал он, – только вы – помазанники Божьи. Нельзя иначе истолковать знамения, чем так, как истолковываем мы. Дьявол прячется здесь и ищет возможность обмануть вас. Не ошибитесь! Не лишайте себя Божьей милости!
Он медленно провел пальцами по пламени и протянул бутылку зрителям. Тот, кто поставил ящик на алтарь, вышел вперед, взял бутылку и тоже провел по пламени рукой. И передал дальше.
Клем неспешно подошел к черному ящику, открыл его, запустил руку и вытащил змею. Джинни ахнула. Даже с последнего ряда ей было видно, что это – покрытый темно-коричневыми пятнами щитомордник. И Джинни, и Клем, как любое дитя юга, выросли в страхе перед этими змеями. Из-за защитной окраски их трудно было увидеть в траве, а в отличие от гремучих змей, они не предупреждали о нападении. Майор считал своим долгом исподволь внушать детям страх перед щитомордниками, поэтому даже в Вермонте, где для них слишком холодно, Джинни внимательно осматривала каждый подозрительный холмик. Майор научил ее делать ножом Х-образный надрез, чтобы высосать яд.
Она перестала хлопать и с ужасом смотрела, как Клем поднес щитомордника к своему лицу, повернул мизинцем его головку, и они пристально уставились друг другу в глаза. Джинни не сомневалась, что змея укусит Клема в щеку. Она вцепилась руками в скамейку и мысленно проверила память: помнит ли, как делать надрез… Все вокруг вели себя совершенно спокойно. Кто-то водил пламенем по разным частям своего тела, кто-то тихонько пел. Клем передал змею дальше, а сам опустил руку в черный гадючник и вытащил вторую змею. Так продолжалось, пока пять щитомордников и две гремучие змеи не прошли круг: все, кроме Джинни, подержали их в руках. Постепенно все щитомордники вернулись к Клему. Двух он держал в руках, две обвили его предплечья, а пятая повисла на шее. Одна гремучая змея спокойно лежала на Библии, вторая – на помосте, и он гладил ее ногой в одном носке.
Клем что-то сказал, и музыка стихла.
– Говорят, такое может быть только под музыку, – негромко начал он. – Говорят, ее ритм гипнотизирует змей. Но музыка смолкла, друзья. Господь делает то, что хочет Он и когда хочет Он. Я не приручал этих змей. Это Господь. Он сейчас среди нас. Он в любую секунду может убить меня, выпустив дьявола в змеином обличье. Но Он не делает этого, чтобы через меня показать вам свою власть на Сатаной.
Джинни нервно огляделась, уверенная, что увидит Бога.
– Эти змеи беспощадны, – продолжал Клем. – Не обманывайте себя, братья и сестры. Они могущественны, но не так, как Господь! Смотрите же на могущество вашего Бога!
Он поднял змей над головой. Джинни стало плохо. Клем сунул всех змей в большой черный ящик и запер его на замок.
– Эти знамения, – подытожил он, – свидетельствуют об истинности веры; моим именем вы изгоняете дьявола. Перед вами – доказательства присутствия Господа. Он исцелит ваши души и ваши тела…
Домой они возвращались молча. Первым не выдержал Клем:
– Ну, что ты об этом думаешь?
– Не знаю… Поразительно! Не знаю, что и думать!
– И не думай! А что ты чувствовала?
– Чувствовала? Я испугалась. Я очень боюсь щитомордников.
– Мы тоже. Верней, раньше боялись. Но, Джинни, неужели ты не почувствовала присутствия Господа, усмирившего змей?
– Не знаю, – тщетно попытавшись вспомнить хоть одно из доказательств Его присутствия, честно призналась Джинни. Конечно, сейчас самое время перейти в другую веру. Она жестоко разочарована в личной жизни: все, кто были ей дороги, или обманули ее, или были обмануты ею. Но если поторопиться, будешь всю жизнь носить на шее вместо бус самого красивого щитомордника.
– Джинни, – горячо сказал Клем. – Десять лет назад я чуть не убил тебя. Я был бы счастлив наставить тебя на путь истинный и научить жить во Христе.
Она отвела взгляд от черных умоляющих глаз.
– Не знаю, Клем.
Ей хотелось остаться одной и разобраться во всем. И прежде всего в том, что Клем служит не Богу, а Смерти. Может, он снова хочет подчинить ее своей воле?
– Подумай. Приходи, когда примешь решение.
Решение? Какое решение? Это выше ее понимания – доказывать существование Бога подобными методами. Конечно, что-то во всем этом есть. Подросшая нога Клема, смирные змеи, пламя, которое не обжигает… Но самой иметь дело со щитомордниками? Это не для нее.
Глава 11
Счастливый брак.
– Я просто смотрел и не верил, что она уходит. Боже милостивый даже не предупредила! Я считал: все отлично. И мысли не допускал, что она несчастлива. – Айра нахмурился и глубоко затянулся сигарой. Он рассказывал о том, как распался его брак с женщиной из Нью-Джерси: они познакомились, когда он учился на последнем курсе университета в Монтпильере.
– Но почему она была несчастна? – Я сочувственно смотрела в обиженное, загоревшее под зимним солнцем лицо.
– Я спросил об этом. Она возмутилась, потому что мне и в голову не приходит, что она может быть несчастна! Я, оказывается, эгоист, и ее от меня тошнит! Я до сих пор не понимаю, в чем дело. По-моему, мы были счастливы.
– А потом?
– Она ушла.
– И ты не окликнул? Не вернул ее? Не ударил?
– Я?
– Конечно ты. Скорей всего, она именно этого и хотела.
– Хотела?! – в замешательстве повторил он. – Но я не такой, Джинни. Мне просто нужна спокойная, ласковая женщина, встречающая меня после трудного дня. Я очень одинок в этом пустом огромном доме.
После суеты переполненного флигеля ничто не могло быть для меня притягательней, чем пустой огромный дом. Я нежно улыбнулась Айре.
Через месяц после моего появления в его доме мы поженились. Церемония состоялась на бобровом пруду. Он надел свой лучший черный костюм, а я, решив, что белое будет слишком торжественным, купила темно-лиловый. Священник облачился в темно-синий костюм, как и лучший друг Айры Рони Ламорекс. Сестра Айры Анжела, одетая во все бледнозеленое, пела песню из «Доктора Живаго».
Айра хотел надеть мне обручальное кольцо, но я схватила его и опустила в карман, вспомнив искалеченный палец майора. Айра страдальчески скривился, губы дрогнули, но тактичный священник спас положение, дав мужу знак поцеловать жену.
На опушке леса стояли на лыжах Этель и Мона. Я пригласила их, и только из сострадания к заблудшей сестре они согласились прийти. Я хотела, чтобы церемония положила начало примирению горожан и «соевых баб». Решила, так сказать, принести себя в жертву.
Но Мона и Этель считали мой поступок предательством памяти Эдди. И все же, когда мы с Айрой сели в его «Сноу Кэт» и отправились домой, они бросили вслед горсти коричневого риса. Я была тронута. Они давали мне понять, что хотят, чтобы брак был плодовит.
В брачную ночь в мотеле мы впервые занимались любовью. Айра разделся, и я вздрогнула: его красивый загар заканчивался на шее. Тело было отвратительно белым. Он оказался добросовестным любовником и трахал меня с завидной энергией, будто боялся опоздать на отходящий поезд. Но обо мне этого сказать было нельзя. После долгих минут яростной деятельности Айра задержал дыхание и сказал:
– Извини, дорогая, я не могу больше ждать. Я не знал, что женщина может не кончить после почти четырехсот ударов.
Я охотно с ним согласилась, и он с новой энергией вонзился в меня.
– Я что-то неправильно делаю?
– Ничего. Ты – замечательный любовник. В первый раз всегда трудно. – Разве я могла объяснить ему, что никогда не занималась любовью с мужчиной без страха? Страха, что нас обнаружат. А теперь наступила расплата: я оказалась неспособной ему отвечать.
Прием по случаю нашего бракосочетания проходил в огромном зале общественной церкви с сосновыми панелями и полом, застеленным линолеумом. Обставленный складными стульями и столами, он ничем не отличался от залов провинциальных церквей.
Горожане толпились на другом конце зала – подальше от меня. Ко мне подошел только священник – низенький толстенький человечек с редкими волосами и пенсне с толстыми стеклами.
– Называйте меня дядей Луи, – сказал он, оттянув белый воротничок и почесав натертую шею. – Вы извините, но весь город жужжит о том, что невеста Айры предпочла бы католическую церковь.
Я промолчала.
– Какую церковь, вы сказали, посещаете?








