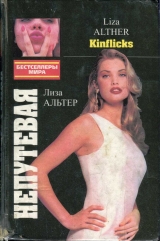
Текст книги "Непутевая"
Автор книги: Лиза Альтер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 25 страниц)
– Я не могу!
– Почему? Это твои деньги?
– Мои. Но я не могу ими распоряжаться, пока живы мои родители. Это для того, чтобы избежать высоких налогов. Дело в том, что в их корпорации не выпускают протезов. Одну взрывчатку.
– Н-да, – глубокомысленно протянула она. – Господи! – и снова зашагала по комнате. – Коррупция всюду! Я не переживу этого, Джинни. Надо же, я жила на прибыль компании, заправляющей военную машину!
– Прости. Я понимаю, ты очень расстроилась. Я бы все отдала, чтобы избавить тебя от этого кошмара, Эдди! Я обидела женщину, которую очень люблю!.. – Я расплакалась и бросилась на хлипкую кушетку. Та треснула и рухнула на пол.
Я лежала на линялом ковре и безутешно рыдала.
– Ну, ну, успокойся, – Эдди присела на корточки и погладила меня по щеке. – Мы что-нибудь придумаем.
И мы придумали. Если нельзя использовать акции военного завода по своему усмотрению, я, по крайней мере, выражу к нему свое отношение. Мы поедем в Халлспорт и станем пикетировать завод.
– Господи! – воскликнула Эдди, увидев белый особняк с колоннами. – Ну и средневековье!
На лужайке на меня набросилась наша кухарка Мэйбл, и, как я ни пыталась демократично пожать ей руку, чуть не задушила в объятиях. Кончилось тем, что я сама закружилась с ней вместе.
– Ну и ну! – засмеялась Мэйбл, увидев на футболке Эдди призыв «Власть – народу!» – Я работаю у Бэбкоков с тех пор, как Джинни под стол пешком ходила. Это я научила ее завязывать шнурки, и вообще, чему только не учила ее старая Мэйбл! – Она трещала и трещала, акцент становился все сильней и сильней, я даже не помнила, что он так заметен. Но я слишком хорошо знала старую Мэйбл, чтобы не увидеть в глазах какого-то непонятного злорадства. На кого? На Эдди? Или меня?
– Очень приятно познакомиться, Эдна, – улыбнулась мама, показывая наши комнаты. – Джинни писала о тебе много интересного.
– Гм-м-м, – буркнула Эдди.
Мама отвела мне мою старую комнату, а Эдди – бывшую спальню Джима. Эдди еще по дороге инструктировала меня, как поступить в этом случае: выложить все честно и откровенно.
– Мама, – заявила я, покраснев. – Мы будем спать в одной комнате.
Все! Свершилось! Я высунула голову из раковины перед собственной матерью.
– Отлично, дорогая, – согласилась мама. – Как вам больше нравится, девочки.
Эдди пнула меня ногой.
– Я хотела сказать, мама, что мы будем спать в одной постели.
– Да, конечно, дорогая. Все, что устраивает вас, устраивает и меня.
Эдди пожала плечами.
На следующий день мы изготовили два транспаранта: «Рабочие, объединяйтесь!» и «Вествудская корпорация Теннесси – фашисты и прихлебатели империалистических свиней!», отправились на джипе майора к заводу и стали маршировать взад-вперед перед обнесенным колючей проволокой забором, размахивая транспарантами. Вышел охранник, прочитал наши лозунги и миролюбиво сказал: «Знаете, девочки, шли бы вы домой».
Эдди рассвирепела:
– Мы вам не девочки! Это – дочь майора Бэбкока!
– Ну конечно, – заржал охранник.
Я вытащила кредитную карточку и помахала перед его носом, как сыщик из ФБР.
– Видите?
– О! Все в порядке, мисс Бэбкок. Извините, – неуверенно пробормотал он.
Загудела сирена. От неожиданности мы уронили транспаранты и заткнули уши, но как только из ворот потекла к автостоянкам ночная смена, подобрали и выпрямились с решительным видом.
Большинство рабочих не обращали на нас внимания. Я узнавала их лица: с некоторыми училась в школе, некоторых просто видела в городе.
Двое молодых людей в зеленых комбинезонах остановились около Эдди.
– Ф-а-ш… – читал один, а второй беспокойно оглядывался: не заметит ли кто-нибудь, что они разговаривают с двумя странными девушками в футболках с надписью «Власть – народу!» и непонятными плакатами в руках.
– Фашисты, – объяснила Эдди.
– Фашисты. А кто это?
– Фашисты? – удивилась Эдди. – Это такие, как Гитлер.
– Дерьмо! – выругался рабочий и плюнул на тротуар.
– Вам нравится то, что вы выпускаете? – дипломатично спросила Эдди. – Взрывчатку и бомбы для Вьетнама?
– Неужели?
– Да, болван, – сказал второй и ткнул его в бок.
– А мне все равно. Я работаю, мне платят, все о’кей.
– А мне не все равно, – заявил второй.
– Правда? – обрадовалась Эдди.
– Да. У меня там брат, и я ему так помогаю.
– A-а… А вы знаете кому не нравится делать бомбы?
Рабочие переглянулись.
– Если такие и есть, мне об этом лучше не знать, – сказал второй.
Мы отошли и в надежде на более покладистую добычу приперли к стене смирного на вид пожилого мужчину. Он попробовал ускользнуть, но не тут-то было.
– Послушайте, – зашептал он. – Я не хочу неприятностей. У меня пятеро детей.
Я с облегчением узнала Гарри из здания администрации, которого не видела с тех пор, как работала летом на заводе. Он тоже узнал меня, и, несмотря на плакат в моих руках, обрадовался мне.
– Джинни! Тебя не узнать! – Он кивнул на мои желтые джинсы, футболку и косу на спине, как у китаянки.
– Гарри, ответь мне честно: тебе нравится делать бомбы для войны во Вьетнаме?
– Откуда я знаю? – вздохнул он. – Слава Богу, на нас они с неба не падают.
– Но, Гарри!
– Я ведь их не делаю, девочка. Я – чиновник. Но как бы то ни было, если твой папа говорит, что так нужно, значит, так оно и есть.
– Легок на помине, – хмыкнула Эдди.
К нам неправдоподобно быстро приближался майор, одетый в свой полосатый костюм. Я невольно вздрогнула.
– Чем вы здесь занимаетесь?
Я растерянно пожала плечами.
– Вирджиния! Если ты и твоя подружка немедленно не свернете свои плакаты и не уберетесь отсюда… я аннулирую твои дивидендные чеки!
– Ты не сумеешь! Они на мое имя!
– Я сумею в этом городе все, что захочу. Ты, похоже, забыла, что это мой завод.
– А может, вы станете выпускать что-нибудь другое? – пробормотала я, наступив ему на больную мозоль.
– То, что мы делаем здесь, нужно для национальной безопасности, дорогая дочь! Хочешь мира – готовься к войне. Чем сильней военная машина – тем лучше для государства. Я знаю, что некоторые, – он презрительно покосился на Эдди, – рады бы поставить нацию на колени и отдать коммунистам ключи.
Я поняла, что сейчас ему лучше не возражать.
– Но я не из таких! Я слишком долго воевал с Гитлером, чтобы спокойно смотреть, как вы призываете к предательству. Кроме того, что производить на этом заводе, зависит не от меня. Это решали в Бостоне. Почему бы вам не вскочить в самолет и не вернуться туда, откуда вы притащили свои дурацкие плакаты и не менее дурацкие политические взгляды?
– Ублюдок, – шипела Эдди по дороге домой. – Господи, ну и ублюдок!
В Бостоне мы решили, что лучшее, что я могу сделать для своего политического развития, – это порвать все связи с реакционной семьей. Это из-за них у меня неврозы и буржуазные взгляды, и один решительный шаг раз и навсегда вырвет меня из сетей капиталистических пережитков.
– Семейные узы не должны превращаться в цепи, – заявила Эдди.
Я подсчитала, какую сумму получила от акций Халлспортского завода, и перечислила ее в народную больницу Бостона. Пусть достойные цели оправдывают недостойные средства, решили мы.
Однажды апрельским вечером Эдди стремительно взлетела по ступенькам и с самым несчастным видом остановилась в дверях.
– Что случилось? – Я подписывала чек в пользу нуждающихся членов Общества борьбы с наркотиками.
– Вместо бара будет банк! – Она в изнеможении опустилась на прогнувшуюся кушетку.
– Ты шутишь!
– Боюсь, это не все.
– Что?
– Эту навозную кучу, которую мы называем домом, тоже прикрывают. К началу месяца мы должны убраться.
– Что? Куда?
Наш уютный мирок затрещал по швам. Мы сидели, сбитые с толку, и беспомощно смотрели друг на друга. Потом, когда первый шок отступил, подсчитали свои доходы и расходы и пришли к выводу, что нам придется или урезать расходы на благотворительность, или искать работу.
Пару недель мы без особой надежды мотались по объявлениям. Исполнители песен протеста нигде не требовались – в моду вошел тяжелый рок. Без диплома я могла рассчитывать только на место официантки в кафетерии на Гарвардской площади, где обедала когда-то в День благодарения. Эдди старалась внушить мне, что эта работа заслуживает внимания, что здесь легко вступать в контакт с народом и исправлять свои недостатки, доставшиеся в наследство от буржуев-родителей.
За две недели до выселения мы решили плюнуть на все и навестить в Вермонте двух приятельниц Эдди. Они были старше ее и редактировали газету в Уорсли, когда она только начала выходить. Эдди питала к ним такие же нежные чувства, как я к лишившему меня девственности Клему Клойду. Теперь они жили на ферме около небольшого городка под названием Старкс-Бог.
Мона оказалась худой, высокой, с широко расставленными бегающими глазами, спрятанными за темными очками с вишневыми линзами. Черные волосы с длинной челкой были подстрижены под «храброго принца». Она сутулилась и опускала голову, напоминая очкастого грифа.
Этель тоже не уступала ей ростом, но была плотней и эффектней: вокруг головы сиял пышный нимб рыжих волос. Она все время улыбалась, отчего глаза казались узкими щелками. Они обе – Мона сдержанно, Этель – бурно – обняли Эдди. Кроме них на ферме жили пятеро мужчин и одна женщина. Обветшалый белый дом соединялся покосившимся крылом с огромным амбаром, где на утоптанной куче навоза переминалась с ноги на ногу пара коров.
Обстановка напоминала Кони-Айленд накануне Дня Независимости: одежда, постели, книги, газеты, тарелки и спящие тела валялись в самых неподходящих местах. Сырые, оклеенные грязными обоями стены кое-где покрылись плесенью.
Мы с Эдди помогали им сажать семена в небрежно вскопанные грядки. Под жарким солнцем от влажной земли поднимался пар; в траве жужжали мухи; вдалеке зеленели предгорья.
На обед подали мутный суп с полусырыми клецками, похожими на листья с компостной кучи, и зернистый хлеб, который невозможно было разгрызть зубами. Потом все разлеглись на полу в гостиной, оставив грязные тарелки двум кошкам, которые немедленно прыгнули прямо на стол и тщательно вылизали их.
– Что случилось? – спросила Эдди у Моны и Этель. – Вы были самыми заядлыми активистками из всех, кого я знаю. Не верю своим глазам. После вас редактором стала я. Политические портреты, статьи о событиях в мире, помощь чернокожим детям в Роксбери – я продолжала ваши традиции. Не понимаю, что случилось?
– Надоело, – неохотно ответила Мона и со свистом втянула в себя сигарный дым. Лицо покраснело, стало жалким; она раздавила ногой тлеющий окурок и закрыла глаза.
– Неужели ты сдалась? – не унималась Эдди. – Уступила сволочам-радикалам?
– Нет, конечно, – преувеличенно бодрым тоном возразила Этель. – У нас своя теория. Знаешь, кто платил мне, чтобы я организовывала митинги в Ньюарке? Пентагон, вот кто! Нельзя бороться против системы и в то же время пользоваться ее благами. Сначала заработай право бороться, живя среди простого народа, а потом выговаривай мне про несправедливость и загнивающий строй. Или не болтай всякую чушь!
Мона согласно кивала, затягиваясь следующей сигаретой, потом сходила на кухню и принесла пакет мороженых «Волшебных грибов».
– Плоть Господня, – предложила она. – Любимое блюдо ацтеков. Ключ к общению с богами.
Я нехотя взяла ледяной кусочек. Можно ли есть плоть Господа?
– Ты что? Не балуешься наркотиками? – недоверчиво спросила Мона.
– Конечно, балуется, – поспешно заверила Эдди. Мне очень хотелось угодить ей, но воспитание одержало верх: я не доверяла «Волшебным грибам», более того, я читала, что те, кто их ест, рискует умереть в страшных муках. Я не хотела корчиться от боли на грязном полу заброшенной вермонтской фермы. Притворившись, что откусила кусочек, я бросила его кошке, но она презрительно фыркнула и отвернулась.
Эдди, казалось, очень заинтересовалась жизнью на ферме. Она задавала вопросы о садоводстве, животноводстве и ценах на землю…
– Мона и Этель, они… любят друг друга? – спросила я по дороге домой. Мы сидели на жестких автобусных сиденьях, упираясь коленями в передние сиденья, и смотрели на мелькавшие за окном мокрые луга и вечнозеленый лес. Кое-где еще не растаял снег.
– Они не любовницы, если ты это имеешь в виду. Насколько я знаю, их не интересует секс. У них деловые отношения.
– Какая тоска!
– Ты думаешь? По-моему, это оригинально.
Я недоуменно уставилась на нее.
– И что, так было всегда?
– Не знаю. Я помню, что у Моны, когда она училась в Уорсли, был мужчина, студент-медик. Они встречались в морге, когда он дежурил по ночам, и занимались там любовью.
– Господи! – ахнула я. Морг для занятий сексом казался мне таким же отвратительным, как и бомбоубежище.
– Но она «залетела». Помню, она призналась, что беременна. Мы сочиняли статью о свободе печати, и вдруг она разрыдалась. Я не верила своим глазам. Мона всегда была для меня образцом сдержанности. В конце концов она успокоилась, высморкалась и сквозь слезы рассказала о своей беде. «Что ты думаешь делать?» – спросила я. «Брошу университет и выйду замуж», – ответила она. А потом – после уик-энда – вернулась вся серая и измученная. Мы ни словом не обмолвились о том, что произошло, но, насколько я знаю, она больше не ходила ни в морг, ни куда-нибудь еще.
– И ты ничего не спросила у Этель?
– И мысли такой не возникало. По-моему, Этель ничего не знала. Как бы то ни было, не с Этель обсуждать эту тему. Она – единственная двадцатишестилетняя девственница, которую я знаю.
– Она тебе об этом говорила?
– Нет, конечно. Это только мое предположение.
Мы вернулись в Бостон и возобновили поиски работы и квартиры, которую могли бы себе позволить на мои урезанные дивидендные чеки. Эти поиски привели нас на окраину Бостона, где я никогда не бывала прежде. Несмотря на солнечную погоду, узкие улицы с высотными зданиями выглядели серыми и унылыми. С когда-то элегантных фасадов осыпалась штукатурка, урны были полны мусора, словом, на всем лежала печать запустения.
Мы разыскали дом, где дешево сдавалась двухкомнатная квартира, и стали осторожно спускаться в темный подвал. Неожиданно Эдди остановилась.
– Здесь мой отец – кто бы он ни был – изнасиловал мою мать.
– О чем ты? – Я с ужасом уставилась на возникшего из ободранной двери пьяницу. – О чем ты?
– Да, это было здесь, – мрачно подтвердила она.
Мы молча смотрели вниз на обшарпанные ступеньки и полную битого стекла и пустых бутылок дверную нишу.
– Этот подвал – семейная святыня, – вдруг зло засмеялась Эдди. – Мать как-то привела меня сюда и показала это место. Мне было десять лет. Чтобы я поняла, каковы мужчины.
– Ты хочешь сказать, что жила неподалеку?
– В пяти кварталах к востоку. – Она с вызывающим видом повернулась ко мне. – Что, Скарлетт, ты шокирована?
Этим именем – Скарлетт О’Хара из «Унесенных ветром» – она называла меня всякий раз, когда я показывала свой южный снобизм.
– Не знаю…
– Разве имеет значение, где я выросла? Ты росла во дворце с прислугой, я – в трущобе. Что с того?
Я торопливо закивала в ответ. Мы снова уставились на дверную нишу, где когда-то проклятое животное изнасиловало несчастную девушку.
– Он приставил ей к горлу нож, – проговорила Эдди. – Ей было пятнадцать. Она поздно возвращалась из школы. Она мечтала стать парикмахером, но когда поняла, что беременна, бросила школу.
– А… аборт?
– В 1944 году? Ты шутишь? В Массачусетсе? Без гроша в кармане?
– Она еще совсем не старая. И по-прежнему живет поблизости?
Эдди кивнула.
– Может, сходим навестим ее? Я хотела бы познакомиться с твоей мамой. Ты же знакома с моей. Помнишь, учили по психологии: мать – очень важный фактор в жизни человека.
– Тебе она не понравится.
– Но…
– Нет! – отрезала Эдди. – Я не видела ее больше года.
– Пожалуйста.
– Нет! – Я удивленно посмотрела в ее искаженное гневом лицо. – Пора убираться отсюда. – Она схватила меня за руку и потащила назад.
Через месяц мы сняли деревянный флигель по соседству с фермой Моны и Этель. Он стоял на холме, спускавшемся к огромному пруду, в котором жили бобры. От флигеля до берегов, заросших камышом, тянулся широкий луг с тимофеевкой. Над водной гладью то тут, то там торчали серые своды затонувших деревьев.
В первый наш вечер на новом месте мы поставили на веранде плетенные из тростника кресла-качалки и сели любоваться закатом. Эдди расчесала мои распущенные волосы и заплела в аккуратную косу.
– О чем ты думаешь? – не отрывая глаз от неяркого солнца, позолотившего верхушки деревьев, спросила я.
– О том, что мы наконец твердо встали на ноги.
Конечно, по сравнению с Бродвеем Кембриджа узкая грунтовая дорога в Старкс-Бог была концом света. Тогда мы еще не знали, что приехали не в тихое, спокойное место и что вскоре нас ждут настоящие бои. Первый месяц на ферме был безоблачным и счастливым. Нам казалось, что только теперь, после долгих блужданий, мы попали к себе домой. Никому, кроме Вествудской компании, – чтобы знали, куда высылать чеки, – мы не сообщили свой новый адрес.
Флигель примыкал к большому, сгоревшему дотла дому. Его построил несколько лет назад биржевой маклер из Нью-Йорка, и мы недоумевали, почему он решил сдать такой райский уголок. Сам дом когда-то служил нескольким поколениям фермеров, и, естественно, рядом стоял отличный сарай.
В порыве энтузиазма мы купили корову по имени Минни, полдюжины черных и рыжих кур и злобного черно-белого петуха и поселили всех в покрытом плесенью сарае со стропилами из тяжелых сосновых бревен. Потом заказали ульи, сбили их стенками друг к другу и высыпали туда присланных из Кентукки пчел. Ульи поставили в старом яблоневом саду за флигелем. Цветы отцвели, оставив вместо себя крошечные зеленые яблочки. Посевная была на исходе, и мы, вооружившись справочниками, спешили посадить огород.
Город и семья остались позади. План Эдди, нашего теоретика, состоял в том, чтобы жить без помощи американской капиталистической экономики. Мы решили жить, добывая все, или почти все, своим трудом. Налоги будем платить, продавая кленовый сахар: этого добра – кленов – было полно на высоком холме за флигелем, а в сарае лежало необходимое оборудование. Через некоторое время мы выкупим ферму и постараемся вести дела так, чтобы навсегда избавиться от злейшего врага народа – Вествудской химической компании. Вот тогда мы разделим свою судьбу с судьбой народа.
Сколько людей проживало в Старкс-Боге, мы не имели понятия. Изредка ездили туда на стареньком «пикапе» Моны и Этель за продуктами.
С холма был хорошо виден весь город. Вокруг болота, давшего ему имя[3], теснились деревянные дома. Как правило, в Вермонте преобладали каменные здания, выстроенные для нескольких поколений, но в Старкс-Боге был единственный каменный дом – Айры Блисса. Наверно, никто, кроме Блиссов, не собирался жить здесь долго.
Зимой, если верить Моне и Этель, болото замерзало, а весной превращалось в море грязи, в котором, как мамонты в доисторических топях, тонули заблудившиеся животные.
Но сейчас было лето, вокруг болота шелестела трава, а поверхность затянула зеленая блестящая тина, над которой тучами роились москиты.
В городе мы проезжали мимо ларька мягкого мороженого, которым горожане лакомились после ужина в предвкушении главного вечернего зрелища: наблюдать, как пытаются выбраться из зловонного моря несчастные звери. Еще одним развлечением было ожидание экспресса «Нью-Йорк – Монреаль». Он проходил не останавливаясь ровно в восемнадцать двадцать семь, и жители города каждый раз тщетно надеялись увидеть что-нибудь очень интересное.
Как подобает всякому приличному городу, через Старкс-Бог проходило шоссе, соединявшее Сан-Джонсбери с границей и дальше с Квебеком. Вдоль шоссе выстроились магазины фуража, хозяйственный магазинчик, гостиница, в которой останавливались охотники, мастерская чучел, похоронное бюро, избирательный участок и зал демонстрации снегоходов «Сноу Кэт» с сидящим перед фасадом львом. Все эти здания с карнизами, парадными и черными ходами строились еще до 1800 года и сейчас радовали своей простотой всех, кроме жителей Старкс-Бога, которым до смерти надоела архитектура довоенного периода[4] и которые с удовольствием поменяли бы свои деревянные дома на современные – из пластика и бетона, с зеркальными стеклами и неоновыми витринами. Демонстрационный зал принадлежал Айре Блиссу, а поскольку сейчас было лето, в нем были выставлены не снегоходы, а блестящие желтые велосипеды «хонда» с прицепами. Еще одной заветной мечтой каждого домовладельца был сборный домик на ранчо, где можно было бы хорошо отдыхать на досуге.
Мы старались ездить в город как можно реже, но когда все-таки появлялись там, становились объектом общего любопытства: еще бы, мы прогуливались рука об руку в своих желтых джинсах, футболках с надписью «Власть – народу!». Наши косы болтались в унисон. Наш обычный маршрут проходил от фуражного до хозяйственного магазина. Горожане глазели на нас, как инки на испанцев, впервые появившихся на их земле. От Моны мы узнали, что нас называют «соевые бабы», потому что мы каждый раз покупали соевые бобы. Эдди решила, что было бы политической ошибкой не стать вегетарианцами в то время, когда граждане третьего мира умирают от голода. «Тебе нравится, что бедные животные становятся трупами?» – спросила она, отправляя в плиту кулинарные книги.
Через пару жарких, солнечных дней наши продукты стали портиться. Однажды утром Эдди принесла из сарая на завтрак несколько яиц, а я поставила на плиту сковородку и подбросила дров. Потом разбила яйцо в чашку и отшатнулась: в нос ударил отвратительный запах. Яйцо оказалось вонючим и коричневым.
– Эд, по-моему, они тухлые! – Она наклонилась над чашкой. Я разбила еще два яйца – то же самое.
– Может, собирать их раз в неделю – слишком редко? – спросила я.
– Черт! Будь я проклята, если собираюсь всю жизнь только и делать, что собирать яйца! – Она рухнула в плетеное кресло.
– Это займет всего несколько минут в день, – возразила я. – Установим очередь.
– Очередь! Графики! Таблицы! Тебе никто не говорил, что у тебя душа счетовода? Не удивлюсь, если ты отмечаешь в календаре дни, когда занималась сексом.
– Счетовода? – Я задохнулась от возмущения. – Да это чертовски хорошо, что хоть кто-то умеет считать! Не оплачивай я твои счета, Эдди, тебе пришлось бы поднять свою задницу и…
– Ага! – торжествующе воскликнула Эдди. – Наконец-то! Я всегда это знала! Знала, что в глубине души тебе жалко делиться со мной этими кровавыми деньгами! Ты ничуть не лучше своих гнусных буржуев! Я читаю тебя, как книгу.
– Ах так? Что-то я не замечала у тебя желания зарабатывать другие деньги, мисс Святоша! Тебя вполне устраивало тратить мои кровавые!
– Твои, мои! Кому нужны сраные деньги? Засунь их себе в задницу, Скарлетт! – Мы стояли друг против друга, дрожа от ярости.
– Убирайся! Убирайся, ты, вонючка! Я выплачиваю ренту, это мой дом! Я не потерплю, чтобы тот, кто живет на мои деньги, называл меня гнусной буржуйкой! Паразитка! Соси лучше член!
Я никогда не позволяла себе таких выражений, но сейчас не сдержалась. Эдди испуганно замолчала, потом понимающе покачала головой.
– Та-а-к.
– Что «так»?
– Ты отлично знаешь из психологии, Джинни, что дело не в тухлых яйцах или деньгах. Я хорошо поняла – в чем.
– В чем?
– Я надоела тебе, Джинни. Ты хочешь мужчину, – с отвращением проговорила она.
– Нет! Неправда!
– Я ждала этого. Не отрицай. Рано или поздно это произошло бы. Ты только играла со мной, а в сущности ты так же гетеросексуальна, как остальные.
– Неправда! Ты – единственная, кого я люблю. Зачем мне еще кто-то? В конце концов, сколько секса нужно одному человеку?
Я обняла ее, но Эдди мрачно оттолкнула мои руки.
– Все бесполезно. Что сделано, то сделано.
– Ничего не сделано, Эдди! Зачем мне мужчина? У меня уже были мужчины. Ты несравненно лучше, даже смешно сравнивать. – Я снова обняла ее и поцеловала в губы. – Ты сошла с ума, Эдди…
– Наверное.
Я выбросила яйца, вымыла чашку и достала оставшиеся с вечера бобы. Мы молча поели, стараясь не дышать, чтобы запах яиц не отбил аппетит.
– Вкусно! – заявила Эдди.
– Вкусно! И полно протеина.
Солнце ярко отражалось в пруду. На цветах радостно жужжали пчелы…
– Эдди, почему бы нам не купить культиватор? Мы все вскопали, пропололи, а смотри – одни сорняки. Надо или что-то срочно предпринимать, или смириться с тем, что они вырастут вместо помидоров.
– Культиватор? Ты спятила! Хочешь поддержать экономику, превращающую народ в винтики на конвейере? Экономику, одной рукой делавшую лекарства, а другой – бомбы? По-моему, мы для того и приехали сюда, чтобы избавиться от этого лицемерия. Что, не так?
Я ничего не ответила. Я вообще толком не знала, зачем очутилась в Вермонте. Наверное, потому, что так захотела Эдди, а я боялась с ней расстаться. Снова за меня решили другие. Но сказать это – значило признаться в собственном бессилии или, того хуже, в буржуйстве. Поэтому я только кротко спросила:
– А как быть с сорняками?
– Вырвем руками, – решительно заявила Эдди. – Как все честные люди третьего мира.
Почти пятнадцать минут мы пололи помидоры, пока не вспотели. Солнце палило нещадно, и мы спрятались в тени яблони и закурили.
– Если помидоры не способны одолеть сорняков, – глубокомысленно изрекла Эдди, – значит, они не достойны жить. Вырвать сорняки – значит ослабить помидоры и сделать их зависящими от людей.
– По-моему, слишком поздно. Их уже развратили.
Крошечные, изъеденные червяками яблочки, – мы их вовремя не опылили от насекомых, – висели над нашими головами. Мы перевернулись на живот, чтобы не смотреть еще на одно доказательство нашей бесхозяйственности.
– Мы только начинаем работать на этой чертовой земле, – сказала Эдди. – Через год будет легче.
Мы снова взялись за прополку, поглядывая на ульи под соседним деревом. По крайней мере, у нас будет мед. Мы оставили пчел в покое, вежливо предоставив им возможность самим заботиться о себе. При таком уходе могут выжить только пчелы. Они опускались на цветы и взлетали с грузом нектара. Душа счетовода… Если бы…
– В следующем году поставим еще ульев, – зевнула Эдди. – Давай кончать. Пусть сами растут!
В день осеннего равноденствия мы отправились в гости к Моне и Этель. Сначала поможем в уборке урожая, а потом отдохнем. Я взяла с собой соевые крокеты – неудобно приходить с пустыми руками.
Мы оказались не единственными гостями: на заросшей сорняками земле – ее почему-то называли лужайкой – полулежала дюжина человек: кто одетый, кто полуголый. Я знала только тех, кто жил вместе с Этель и Моной. Над лужайкой, как лондонский смог, висел дым от марихуаны. Женщина в длинной индейской рубашке и с распущенными волосами дергала струны цимбалов и с бруклинским акцентом пела песню шахтеров Кентукки: «Когда я уйду и пролетят года, мое тело почернеет и превратится в уголь. Я выгляну из своего небесного дома и пожалею, что шахтер откопал мои кости. Где двойная опасность, где радостей мало? Где дождь не идет и не светит солнце? Где темно, как в тюрьме? – В нашей шахте». У меня защемило сердце от ностальгии по шахтам Аппалачей, хотя я никогда там не была. Наверное, гены. Коллективный опыт предков, заключенный в каждой клетке моего тела.
Полуголый усатый мужчина лежал на темно-синей футболке с белой надписью «Власть – народу!». Этель помешивала что-то в огромной железной кастрюле, висевшей над небольшим костерком. Голый мальчик ковылял вокруг, вцепившись в руку матери, которая еще не нашла, где приткнуться. Я протянула свою посудину Моне. Она подняла крышку, понюхала и сказала:
– Соя. Отлично.
Несколько человек не спеша направились к заросшему, как наша помидорная грядка, кукурузному полю. Эдди села рядом с цимбалисткой и стала негромко подпевать. Я тоже решила помочь убирать кукурузу. Мы рвали початки, очищали и бросали в корзину. Прошли почти половину поля, когда Лаверна – женщина из дома Моны – нашла недозрелую тыкву, похожую на футбольный мяч, и победно подняла над головой. Лаверна была удивительно величава. Другого слова не подберешь. Большая упругая грудь натягивала футболку, а крутые бедра – джинсы. Натуральные белокурые кудри, голубые глаза… В другое время она была бы кинозвездой или моделью Рубенса.
– Футбольный мяч! – воскликнул бородатый мужчина с пронзительным взглядом – вылитый Шерман во время похода через Джорджию. Он поймал тыкву и бросил другому мужчине, на котором не было ничего, кроме джинсов, да и те болтались на нем как на вешалке и держались на поясе, завязанном, как галстук.
– Сыграем? – предложил он. – «Рубашки» против «Шкур».
Действительно: пятеро были в футболках, трое мужчин – без них.
Небрежным движением Лаверна сбросила футболку.
– Я буду «шкурой».
Все замерли, благоговейно уставившись на соблазнительную смуглую грудь. Похоже, ее часто выставляли на солнце, так она загорела. Притворяясь, что не видим в этом ничего особенного, как и положено сексуально раскрепощенным людям, мы начали азартно играть прямо на поле, топча зеленые початки, перебрасывая друг другу тыкву и поглядывая украдкой на блестящую бронзовую статую с обнаженной грудью.
Игра стала грубой. В погоне за тыквой мы толкали друг друга, и я даже упала после одного прорыва свирепого «генерала Шермана», а когда встала, увидела, что играющие перебрались в сад.
Тыква летела в воздухе. Лаверна подпрыгнула, но трое мужчин сбили ее с ног, она упала на спину, Шерман – на нее. Я увидела, как он расстегнул брюки и припал к Лаверне. Вскоре он скатился с нее, уступив место другому мужчине: тот взгромоздился на ее живот и закряхтел, как ковбой, укрощающий полудикую лошадь.
Я посмотрела в сторону дома. Казалось, никого не волнует это – как выражался Клем – групповое изнасилование. Я подбежала поближе, надеясь, что она попросит моей помощи, и застыла ярдах в десяти: передо мной лежало аппетитное тело, измазанное грязью, потом и спермой, и кричало: «Быстрей! Не останавливайся, мать твою! Быстрей!» Оно выгибалось дугой и судорожно дергалось, как лягушачьи лапы под током. Рядом в живописных позах лежали двое мужчин, а третий пыхтел на ее животе.
Кровь прихлынула к моему лицу. Соски напряглись от возбуждения, и я не поняла, чего хочу больше: оказаться под мужчинами или на Лаверне.
Я заставила себя отвернуться и побрела к дому. Эдди нахмурилась, когда я села с ней рядом, а Мона сказала:
– Какая мерзость!
– Отвратительно, – поддержала Эдди.
Я промолчала.
Этель налила нам по миске супа и громко провозгласила:
– Суп доктора Деклейка Виктори! Пивные дрожжи, порошковое молоко и соевая мука. Вкусно и богато протеином!
Мы сели на ступеньки.
– Тебе понравилось? – как бы мимоходом спросила Эдди.
– Что?
– Лаверна на кукурузном поле.
– Ах это…
– Я видела, как ты на нее глазела.
– Я думала, ее насилуют и нужна помощь.








