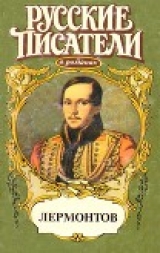
Текст книги "Лермонтов"
Автор книги: Лидия Обухова
Соавторы: Александр Титов
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 38 страниц)
– Охотно отвечу. Я читаю, и много, чтобы избавиться от грустных воспоминаний. Род наркотического средства.
– Позвольте и мне поиграть в отгадки, – сказал Лермонтов. – Задумались о вчерашнем? Точнее, о господине Белинском.
– Он вам не по душе?
– Нимало. Напротив. К тому же мы оба пензенские. На Кавказе это приобретает значение.
– На что же, осмелюсь спросить, ополчились давеча?
Лермонтов, подумав, честно ответил:
– Видимо, на его желание уцепиться за готовую теорию. Просветительство и примирение с действительностью – куда как просто! Но не выход из лабиринта. Ещё одна иллюзия. От пламенных душ обычно больше дыма и гари, чем тепла. В конце концов излишний энтузиазм утомляет органы слуха. Ей-богу, человечество перекормлено сластями!
– Браво. Я сам сторонник горьких лекарств. Точку опоры незачем искать вне повседневного бытия. Хотя бы даже и в Божественном Промысле.
– Ба! Да вы атеист?
– Скорее мистик. А вот в вас сидит какой-то демон неистовства.
– Ах, доктор! – проникновенно отозвался Лермонтов, увиливая в сторону от неожиданного поворота разговора. Ему почудилось, что Майер наслышан о его «Демоне». Говорить же о своих стихах он решительно не хотел. – Люди – такая тоска! Хоть бы черти для смеха попадались.
Майер бросил исподлобья лукавый взгляд. Удивительно, как могло преображаться от смены выражения его курносое, с вывороченными глазами и шишковатым нечистым лбом карикатурное лицо!
Лермонтов почувствовал себя положительно влюблённым в этого человека. Мысленно он уже отыскивал ему место возле Печорина.
– Одних отпугиваете легкомыслием, других стращаете умом? Любите мистификации?
– Обожаю, – сознался Лермонтов. – Но ещё с большей охотой валяюсь на траве и грызу орехи!
...Спустя месяц, в Тамани, скучая ожиданием попутного судна на Геленджик, куда ему надлежало явиться в отряд генерала Вельяминова[38]38
...куда ему надлежало явиться в отряд генерала Вельяминова... – Вельяминов Алексей Александрович (1785 – 1838), командующий войсками Кавказской линии и Черноморья (с 1831 г.), соратник по Бородинскому сражению Аф. А. Столыпина, генерал-лейтенант.
[Закрыть], он уже набрасывал черты характера доктора Вернера.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Проспав под буркой у подножия дуба в густом ночном тумане – так что, ворочаясь с боку на бок и приоткрыв на мгновенье глаза, он видел лишь белую мглу, лишённую силуэтов и очертаний, – Лермонтов пробудился, как ему казалось, от частых ударов барабанных палочек. Ему и сон привиделся соответствующий, что-то из времён юнкерского училища.
От маршировки
Меня избавь,
В парадировки
Меня не ставь... —
пробормотал он, зевая.
Дробный звук не утихал. Он сел и огляделся. Туман ещё не рассеялся полностью, но новорождённое утро дышало свежей прелестью. Открылась и тайна барабанных палочек: осевшие капли скатывались, как по ступеням, с одного широкого дубового листа на другой, производя короткий, по-своему мелодичный звук.
«Боже мой, – подумал он про себя. – Я один, я свободен. Я, как и мой Печорин, кочую на перекладных и никому не подчинён. Писать, писать!»
Не заходя в душную саклю, где спал денщик, не дожидаясь самовара, он примостился тут же у ствола дуба с дорожной тетрадью. Ему казалось, что он и не расставался со своим героем, и начал новую строчку впритык к прошлой.
– Михаил Юрьевич, оказия, сказывают, вот-вот прибудет, – осторожно раздалось за его спиной.
Он оглянулся. Время шло к полудню. Денщик в походном платье со всей их поклажей стоял наготове.
– А перекусить?
– Чай давно простыл, ваше благородие.
– Не беда. Спасибо, что не тревожил. Налей стакан вина, обойдусь сухомяткой.
Как быстро прошли эти часы тишины и работы! Он был спокоен и счастлив.
Когда по совету Петрова он пустился догонять за Кубань отряд генерала Вельяминова («отличишься – и прощение не замедлит»), то до Тамани добрался быстро. Но там море разгулялось уже по-осеннему, и пришлось поневоле застрять.
Тамань лежала голой и плоской на берегу пустынного Азовского лимана. Белые мазанки под камышовыми крышами подковой расположились вдоль побережья. За последними из них начинались холмы, но и те казались сглаженными в степном краю, где вперемежку с сухими травами рдел малиновый чертополох.
Лермонтов, скучая, бесцельно бродил кривыми улочками, путаясь между плетнями, возле которых на горячем ветру клонились низкие тополя. Часами качался на стуле местного полицейского управления, вызывая воркотню служивых: «Казённую мебель сломаете», – а вслед явственным шёпотом: «Шалопут!» Но чаще сидел на завалинке и смотрел на море: вода была настолько тёмно-синей, что местами даже лиловела.
Мазанка, куда его определили на постой, лепилась на утёсистом берегу. Она была едва шестнадцати шагов в длину, с двумя широкими лавками и струганым столом посередине. Низкие оконца выходили во двор и на море, а глинобитный пол был устлан полынью. Спозаранку у печи копошилась тугая на ухо старуха. Ей помогал слепой мальчик в сермяге. Самого хозяина по прозвищу Царынник (прежде он досматривал степные покосы, по-здешнему царыну) постоялец видел редко, лишь его молоденькая дочь то и дело мелькала во дворе и над обрывом. Её одежда являла диковинную смесь казачьих и азиатских обычаев, но наружность показалась ему замечательной! Он не уставал наблюдать её: смугло-матовое лицо; пряди тёмных волос, закрывших щёки; косо бегущие от переносицы к вискам брови; нос и лоб на одной линии, придающей всему облику выражение сосредоточенности, неспешного ожидания. Рот, сомкнутый молчанием (когда губы приоткрываются, видны тесные крепкие зубы), и – венец творения! – глаза. Глубочайшие очи в голубом снегу белка, то сияющие, то притушенные ресницами. Движения её были угловаты, но как-то скульптурно свободны, будто у горного животного, беспечного, шаловливого, настороженного... Ундина!
Любованье кончилось в одночасье. Он заподозрил, что баркасы Царынника возят контрабандное оружие для продажи горцам, и вся стайка разлетелась, прихватив его военное платье, дагестанский кинжал, шкатулку с бумагами. Местное начальство лишь посмеялось: воровской, мол, тут народ, – но поспешило усадить его, обобранного и досадующего, на шаткий парусник до Анапы.
Плыть дальше в Геленджик не имело смысла, осенняя кампания отменялась по случаю скорого прибытия царя, и отряд Вельяминова уже покидал Ольгинское укрепление. Лермонтов услышал всего лишь несколько выстрелов в густых камышах на левом берегу Кубани. («Не иначе как абрек Казбич салютует Рыжему генералу!» – шутили казаки, называя Рыжим генералом Вельяминова).
Пока ему выписывали обратную подорожную № 21 от Ольгинской до Тифлиса («Во внимание, что ваше благородие прибыли к действующему отряду по окончании первого периода экспедиции... предписываю вам отправиться в свой полк...»), под окном мелькнула знакомая осанистая фигура в цветном бешмете.
– Мартыш! – вскричал Лермонтов, бросаясь вон. (Писарь с подорожной выскочил за ним следом).
Приятели обнялись посреди улицы.
– Не чаял тебя нагнать. Думал, ты при Вельяминове. А он, слышно, уехал ранее, захворал водянкой?
Мартынов слегка покраснел и надулся. В Кавказский корпус он попал своей охотой, запасся всякими рекомендательными письмами и надеялся на быструю карьеру. Но генерал Вельяминов, то ли уже наслышанный о его неисполнительности в прежнем полку, то ли доверяя чутью старого кавказца, не любящего внешнего щегольства, возложил на Мартынова скучную заботу по охране транспортов и фуражировку тыловых служб. Вот тот и покидал Ольгинскую среди последних.
Между тем Лермонтов, нимало не подозревая о неловкости своего беглого замечания, уже каялся, что не довёз писем и денег, вложенных при нём в пакет отцом и сёстрами Мартынова ещё в Пятигорске и хранимых им в украденной шкатулке.
– Триста рублей я, разумеется, отдам из своих, а вот что сплетничала обо мне Наталья Соломоновна, нам уже не узнать!
Успокоившись насчёт денег, Мартынов повеселел. Его увлекла история коварной ундины. Из всего многообразия жизни он трогался только одним – женщинами.
– У тебя, Лермонтов, дар не получать взаимности, – самодовольно сказал он. – Право, женись побыстрей, а я уж позабочусь о рогах!
– Но мы ведь не знаем, любезный друг, что таило послание твоей сестрицы, – шутливо отозвался тот. – Вдруг она согласна разделить мою давнюю склонность, и тогда твоя угроза станет решительно невозможной! Но прости, ты, верно, спешишь?
– А! – махнул рукой Мартынов. – Оставлю обоз на унтера. До Ставрополя мы их нагоним, а теперь двинем-ка по соседству, на ярмарку в Екатеринодар. Благодаря тебе мой кошелёк снова звенит!
В Ставрополе начало октября выдалось знойным. Чтобы явиться к начальству, Лермонтов дожидался, пока ему сошьют новую форму взамен украденной: куртку с кушаком, шаровары и кивер из чёрного барашка с большим козырьком, как положено нижегородскому драгуну.
Вечера коротал у доктора Майера, тот уже возвратился из Пятигорска к месту постоянной службы. В его тесных двух комнатках с низкими потолками было не продохнуть от трубок, а из запотевших глиняных кувшинов гостям разливали по стаканам дешёвое красное вино. Из Сибири только что прибыли несколько ссыльных декабристов, и Лермонтов сожалел, что накануне его приезда поэта Одоевского отправили с конвойным казаком дальше, да и Назимов с Нарышкиным задержались не более чем на день[39]39
...Лермонтов сожалел, что накануне его приезда поэта Одоевского отправили с конвойным казаком дальше, да и Назимов с Нарышкиным задержались не более чем на день. – Одоевский Александр Иванович (1802 – 1839), князь; поэт, декабрист. После семи лет каторги и трёх лет поселения в Сибири в 1837 г. был определён рядовым в Кавказский корпус, с 7 ноября 1837 г. – в Нижегородский драгунский полк (вместе с Лермонтовым). Умер от лихорадки, находясь в действующей армии на берегу Чёрного моря. Начало личного знакомства Лермонтова и Одоевского относят к периоду совместного пребывания поэтов в Ставрополе (8 – 10 октября 1837 г.) или в Грузии (начало ноября 1837). Существует предположение, что они вместе путешествовали, и тогда это ноябрь – начало декабря 1837 г. Одоевского называют одним из поэтических предшественников Лермонтова. Назимов Михаил Александрович (1801 – 1888), член Северного общества декабристов. После сибирской ссылки в 1837 г переведён на Кавказ, в Кабардинский егерский полк. Назимов, как и Лермонтов, любил делать зарисовки кавказских видов. Во время их бесед затрагивались и социально-политические вопросы; Лермонтов скептически относился к надеждам Назимова на отмену крепостнических отношений самим правительством. При Назимове поэт никогда не позволял свойственного ему шутливого тона. Нарышкин Михаил Михайлович (1798 – 1863), декабрист, полковник, член «Союза благоденствия» и Северного общества. Осуждён на 8 лет каторги. С 1837 г. – рядовой на Кавказе.
[Закрыть]. При штабе оставались только Голицын и Кривцов[40]40
При штабе оставались только Голицын и Кривцов. – Голицын Валериан Михайлович (1803 – 1859), князь, член Северного общества декабристов, участник восстания 14 декабря 1825 г. После сибирской ссылки в 1829 г. был переведён на Кавказ. В мае 1837 г. получил первый офицерский чин. Существует предположение, что эпизод в «Герое нашего времени», когда Грушницкий после солдатских погон надевает офицерские эполеты, взят из жизни Голицына. Кривцов Сергей Иванович (1802—1864), член Северного общества декабристов, подпоручик. В 1831 г., после сибирской каторги и ссылки, направлен на Кавказ рядовым. С 1837 г. прапорщик, в 1839 г. уволен в отставку.
[Закрыть]. Оба служили на Кавказе уже по нескольку лет; Голицын за заслуги в боях был произведён в прапорщики, Кривцов дожидался того же. Перед ними в ближайшем будущем маячила желанная отставка! Другие только начинали свою солдатчину.
Разговор обычно затевал князь Валериан Михайлович Голицын, аристократ до мозга костей. Свои суждения он преподносил с видом врождённого превосходства, сдобренного любезной иронией. Перелистывая наваленные в беспорядке на столе фолианты – «Историю французской революции» Минье, «Историю контрреволюции в Англии» Карреля или Токвиля «О демократии в Америке» (доктор читал на трёх языках), – Голицын переходил на отечественных летописцев.
– В своё время, – говорил он, – нас возмущала «История Государства Российского», потому что её автор умилялся гармонией и порядком в любом обществе. Даже несовершенное, оно якобы освящено веками. А наша цель была изменить порядок, вызвать перемены. Мы хотели стать первым толчком.
Лермонтов пробормотал явственно для других:
В его «Истории» изящность, простота
Доказывают нам без всякого пристрастья
Необходимость самовластья
И прелести кнута.
– Пушкин любил Карамзина и частенько защищал его! – с горячностью прервал Кривцов, недовольный вмешательством малознакомого офицера. – Эта эпиграмма только приписывается ему. Теперь я и сам думаю, что Карамзин во многом прав: Россия не дозрела до свободы.
– Дух времени переменился? – с улыбкой спросил доктор Майер.
– Не спорю.
– И вместе с ним люди?
– Может быть. Но мы же и не хотели ничего чрезмерного!
– А разве известна мера вещей? – опять не удержался Лермонтов. – Особенно если то, на что вы замахивались в мечтах, даже ещё не начало? Лишь предвестье.
– То, что вы говорите, страшно, – подумав, отозвался доктор.
– Страшен русский мужик, господа. Страшен бунт народный. Он – поток, а мы – досточки и щепки поверху. Куда прибьёт? Куда вынесет?
– Ах, милый друг, – примирительно вмешался Голицын. – Что будет, то будет. Мы все живём по завету князя Вяземского, помните? Катай-валяй! – И продекламировал:
Меня, о Время, не замай.
Но по ухабам жизни трудной
Катай-валяй!
– Впрочем, – уже серьёзно добавил он, – мой старый товарищ недалёк от истины. Мы видели в государе справедливого судью и открывались перед ним совершенно, не утаивая ни себя, ни других...
– А как иначе? Ведь он наш государь! – с запальчивостью воскликнул Кривцов. – Дворянин, как и мы.
– Я тоже так мыслил в юнкерском училище, на парадах, с разинутым ртом, – едко ввернул Лермонтов.
– И всё-таки наша молодость незабвенна, как первый шаг к преобразованию умов! – вздохнул Голицын.
– Тут я с вами согласен, князь. Нынешнее поколение оставит после себя одни жандармские мундиры да гусарские ментики.
Провожая Лермонтова последним, доктор Майер слегка пожал плечами:
– Они очень отстали образом мнений от настоящего времени. А знаете, – добавил он другим тоном, – что Грибоедов называл кавказскую войну борьбой барабанного просвещения с лесной свободой?
– Вот как? – живо подхватил Лермонтов.
– Ваше благородие, – вполголоса сказал денщик, разложив у подножия дуба походный поставец с сыром, хлебом и варёными яйцами. – В сакле ночевали ещё один проезжий. При них конвойный казак.
Лермонтов встрепенулся.
– Как фамилия?
– Казака? Тверитинов он.
– Да нет, проезжего.
– Не могу знать. Одоевский вроде.
Уютное пристанище располагалось позади сакли, у глухой стены. Лермонтов огляделся. Кумачовое солнце, подпоясанное облаком, как лихой молодец, перегнулось уже через вершину дуба. Полуденный ветер свистнул в самые уши.
– Князь, – сказал Лермонтов, слегка поклонившись сгорбленно сидящему в стороне высокому, худому, плохо побритому человеку в солдатской шинели. – Мне сказали, вы ждёте оказии в Нижегородский полк? Прапорщик Лермонтов. Назначен туда же. Окажите милость присоединиться.
Одоевский вскочил, взял под козырёк, потом опустил руку. Замешательство его длилось не более секунды.
– Сердечно рад, – отозвался немногословно.
Тогда, может быть, откушаем? В поставце яйца вкрутушку... – У него вырвалось словцо из далёкого детства, когда нянюшки и мамушки подносили ему то блюдце, то тарелку, умильно заглядывая в лицо и припевая: «Попробуй, батюшка, только лизни...»
Одоевский заулыбался, отчего крупные глаза ярко поголубели. Остаток скованности его покинул.
– Ах, как славно: вкрутушку! Сто лет не едал.
Они присели рядом и заговорили уже совсем по-свойски.
По горным морщинам подобно дымно-лиловым потокам сползали вечерние тени, а причудливые зубцы скал остро толпились на рдеющем небе. Лермонтов не мог отделаться от подспудного ощущения, что эти картины уже жили в нём, не только питаясь полубессознательными детскими впечатлениями от поездок в Горячеводск, но вообще жили в нём изначально, что кочующие вереницы снеговых туч над Тарханами или сахарные купола московских облаков уже будили предчувствие раскалённой архитектуры Кавказа...
Говорят, у каждого человека, помимо места его действительного появления на свет, есть и родина души. Внутреннее сродство с незнакомым доселе краем пронзает человека мгновенно, будто луч света. Он стоит ошеломлённый, охваченный тихой радостью. Лермонтов был счастлив горами.
– Прочти, Саша, ту свою пьесу про летящих журавлей, – сказал он, прилёгши на суховатую траву и следя за медленным движением подсвеченных зарей облаков.
– Как ты про неё сведал? – живо спросил Одоевский простодушно и застенчиво.
Лермонтов усмехнулся. Тёмные его глаза были полны ласковости.
– Да Назимов сказывал, как вы скакали в коляске к Ставрополю и он первым увидал клин. Сказал тебе, что надобно стихами приветствовать славную вереницу. Изгнанники из тёплых краёв возвращались на свою родину, как вы из Сибири.
– У меня была другая пьеса про возвращение на родину. Так, мечтанье. Бог весть, сбудется ли? – Он тоже вперил глаза в небесную даль. Лицо, омытое закатным светом, стало удивительно красиво.
«Сбудется ли?» – повторил про себя Лермонтов с сомнением.
Встрепенувшись, поторопил:
– Читай же!
– Какое, мой друг?
– Которое ближе к сердцу.
Одоевский, не отводя взгляда от изменчивых красок неба, нараспев проговорил:
Как сладок первый день среди полей отчизны
На берегах излучистой Усьмы!
Опять блеснул нам луч давно минувшей жизни
И вывел нас из долгой скорбной тьмы...
Запнувшись, он поморгал влажными глазами.
– Уволь, не могу.
– Полно, – пробормотал смущённый Лермонтов. – Всех нас где-то ждут реки из нашего младенчества... Только мы уже не дети. Хочешь, помолчим?
– Нет, мой друг. Мне больно было бы отказать тебе в просьбе. Хотя, по чести, приличнее мне просить тебя: я ведь дилетант, а поэт – ты.
Он произнёс это так просто, так дружественно, что настал черёд Лермонтова смешаться.
– Ну, так тому и быть! – воскликнул с напускным оживлением. – Будем читать по очереди. Чур, ты первым.
Одоевский, повеселев, оборотился к нему лицом:
– Так слушай и будь снисходителен!
Куда несётесь вы, крылатые станицы?
В страну ль, где на горах шумит лавровый лес.
Где реют радостно могучие орлицы
И тонут в синеве пылающих небес?
И мы – на юг! Туда, где яхонт рдеет,
И где гнездо из роз себе природа вьёт,
И нас, и нас далёкий путь влечёт...
Но солнце там души не отогреет,
И свежий мирт чела не обовьёт.
Пора отдать себя и смерти и забвенью.
Не тем ли после бурь нам будет смерть красна.
Что нас не севера угрюмая сосна,
А южный кипарис своей покроет тенью?..
– Было ещё что-то, да позабыл, – добавил он после молчания.
– Ты сам себе злодей, Саша! С таким небреженьем относишься к музе. Ничего не записываешь.
– Да Бог со мною, не кори меня много. Лучше сам прочитай.
Лермонтов на секунду задумался.
– У меня есть в том же роде.
Скажи мне, ветка Палестины,
Где ты росла, где ты цвела?
Каких холмов, какой долины
Ты украшением была?..
...Так они странствовали, то пускаясь вдогонку попутному транспорту, то с беспечностью отставая от него.
Если бы не закладывало уши, можно подумать, что они всё ещё в степи: предгорья остались внизу, а вершины по-прежнему далеки и туманны. Кругом леса, мелкий кустарник, почва в плоских сахарно-белых мергелях: трава пополам с камнем. Сильный прохладный ветер гудит в ушах. Сутулая фигура Одоевского ныряет между травами и кустами. А в двадцати шагах от него взмывает сокол.
Позади оставалась Северная Кабарда, там, где она смыкается с Осетией, – горы в полусолнечной дымке трав, ложбины, засеянные овсом, купы плодоносного шиповника и ореховые заросли, переходящие в скудный горный лес. Даже встретилось одно дождевое озерцо: появилось после ливней и вот же, не мелеет. Воздух жужжал пчёлами и звенел кузнечиками. Слоистое небо нависало ровным колпаком – словно стоишь в центре мира...
Разговоры их не прерывались ни на минуту и становились всё горячее, всё откровеннее.
– Дело надо было доводить до конца, – жёстко сказал Лермонтов. – Царская фамилия преградой стояла на пути к свободе, что ж вы не стреляли по государю, стоя против него в каре на площади?
– Помилуй, как можно, – пробормотал Одоевский, зябко поводя плечами. – Я с ночи дежурил у спальни государя. Ночью он проснулся, спросил, что за шум у дверей? Я ответил, что смена караула. Мы были одни...
– Эх ты, смена караула... – Лермонтов смотрел на него с участливой жалостью. – Только чёрных воронов распугали... Сделай милость, не принимай в обиду. Верно, и я тогда поступил бы не лучшим образом. Все мы сильны задним умом.
– Но я и сейчас не сделал бы иначе.
– Знаю. Поэтому и злюсь на вас, святые души!
– Полно, полно, – испугавшись, забормотал Одоевский. – Не веди ты эти речи, ради Христа. Предупреждал генерал Вельяминов: повсюду незримо голубые мундиры.
– Моя голова ими уже помечена, – отозвался Лермонтов с напускной беспечностью.
Они помолчали, думая каждый о своём.
– Не прими и ты в обиду, – выдавил наконец Одоевский, не в силах сладить с неотвязной мыслью. Он поднял на Лермонтова взор, полный смущения. – Но откуда у тебя эта холодная злость ко всему, чем утешаются другие люди? Ты молод, имеешь любящую родню и обеспеченное будущее... государь наверняка скоро простит тебя... Наконец, ты поэт, каких у нас мало! Верю, ты наследуешь пушкинскую лиру!
Лермонтов как бы внутренне отмахнулся от половины лестных слов дружелюбного попутчика. Отозвался лишь на то, что грызло его изнутри.
– Вы жили смолоду в мире, который улыбался близкими свободами. Даже Сибирь не охладила вам сердец. У меня нет таких обнадёживающих воспоминаний. Мой опыт другой, а время – тёмная ночь без всполоха и отклика.
– Но за ночью неизбежно приходит рассвет! – вскричал Одоевский в волнении.
– Для тех, кто успеет его дождаться... А! – добавил Лермонтов совсем другим тоном. – Вот и мой денщик с твоим казаком! Видно, подоспела оказия.
– Вы удачливее нас, – сказал он, когда они снова остались наедине. – Вы верили мечте и сполна познали борьбу. Наш удел – лишь разочарованность прояснённого ума. Всё мертво, всё вытоптано вокруг нас.
– Прояснённый ум обязательно найдёт выход на живую тропу, Миша, – возразил Одоевский, касаясь его рукой, жестом милосердным и почти детским, тронувшим Лермонтова. – Только ты, сделай милость, не задирайся, не зли всех вокруг.
– Не могу я слышать благоглупости! Вечные надежды на чудеса.
– Нет, ты не прав. Поверь, есть достойнейшие люди. Жаль, ты не сошёлся с Назимовым покороче. Знаешь, как он ответил государю? «Вы, ваше величество, превратили дворец в съезжую!»
Одоевский увлёкся и ушёл от прежнего разговора в сторону. Лермонтов не прерывал его. Он чувствовал себя намного взрослее милого Саши. Ему стало грустно почти до слёз.
Он слишком рано отучился жить чужим умом и брать на веру успокоительные истины. Почти ребёнком он ощутил себя уже вырвавшимся из общего стереотипа; груз неосознанного трагизма и тогда незримо угнетал его. Но с годами почувствовал неблагополучие в вечном противостоянии собственной духовной личности окружавшей его массе людей. «Отрада одиночества» решительно перестала тешить повзрослевший ум. Мучительно тянуло окунуться в «толпу» – уже не романтическую и отстранённую, а вполне реальную, состоящую из множества разнородных личностей, возможно, во многом подобных ему, но ещё не выявленных, не дошедших полностью до его сознания, а следовательно, и не сроднившихся с душой.
Жадность, чисто писательская, к окружающим его людям, проявлению их характеров теперь дополнялась желанием быть понятым в свой черёд другими, чтобы ум с сердцем были в ладу, чтобы не страдать от отчуждённости, которая, при трезвом рассмотрении, грозила душе бесплодием.
Полоска лазури лежала поверх горы, как ленточка надо лбом, придерживая лохматое облачное небо.
То, что здесь, на краю света, в Тифлисе, у него нашлись родственники, и рассмешило и раздосадовало его. Казалось, мир состоит из Столыпиных и Арсеньевых, из Арсеньевых и Столыпиных со всеми их разветвлениями. Но не из Лермонтовых. Если арсеньевские и столыпинские ветви были пышны, раскидисты, изнемогали от обилия отростков и листвы, то его захудалые тётки, из которых лишь две вышли замуж, – три лермонтовских поблекших листочка – тихо увядали в Кропотове. А ведь это и его был родовой кров! Единственный дом, по сути. Ощущение бездомности защемило сердце, как случалось с ним с детских лет, когда он думал об отце.
Он знал завещание бабушки: всё ему, но в случае его смерти имущество должно утечь по естественному руслу в столыпинский род. Всё равно кому, но – Столыпиным.
Он отдавал себе отчёт: не окажись он случайно единственным бабушкиным внуком, если бы у неё выросли другие дети, кроме тщедушной дочери – его маменьки, – он не оказался бы наследником и светом бабкиных очей! Сам он, в сущности, не имел к этому никакого касательства; важна была лишь капля столыпинской крови.
Ощущение бездомности продолжало сосать его душу, когда он расстался с Одоевским.
Большой дом Ахвердовых с частью сада был к тому времени продан (разыгран в лотерею). Достался он мадам Кастелас, владелице частного пансиона для девиц. Но во флигеле продолжал жить подпоручик Егор Ахвердов, пасынок лермонтовской тётки. У того он и остановился. Егор Фёдорович подолгу гостил в Цинандали у Чавчавадзе: старшая дочь князя Нина, вдова Грибоедова, с детства воспитывалась у Прасковьи Николаевны Ахвердовой, урождённой Арсеньевой. Та вышла за боевого кавказского генерала, который одно время был губернатором Грузии, славилась столичной образованностью и любезным обхождением. Князь Александр Герсеванович Чавчавадзе, сторонник сближения русской и грузинской культур, охотно доверил ей свою Нино. Обе семьи связала многолетняя дружба. В гостиной Ахвердовой произошла и помолвка княжны с Грибоедовым.
Сама Прасковья Николаевна давно перебралась в Петербург, но Лермонтов, снабжённый её рекомендациями, был принят радушно.
Нина Александровна Грибоедова живо напомнила ему милых его кузин, подружек юности. Она была оживлена и доброжелательна, держалась просто, смотрела с тихой лаской. Он глубоко вздохнул.
Нина тотчас спросила:
– Вы вспомнили что-нибудь тревожное?
Казалось, она с лёгкостью читала по его лицу и ничего язвительного, отпугивающего чрезмерной проницательностью не находила в нём.
– В воздухе вашей гостиной есть нечто ангельское.
Нина вскинула брови, словно спеша отклонить банальный комплимент, но он продолжал серьёзно:
– Вы, наверно, заметили, что в разных местах ощущаешь себя неодинаково, даже если это происходит в один и тот же день? Ваше внутреннее чувство подчиняется чужому влиянию. И совсем необязательно это должен быть человек. Гора, дерево, облако – тоже способны вызвать в душе перемену.
– Мне понятна ваша мысль, – сказала Нина. – Так бывает и со мною. Словами не выразишь, но будто весть издалека... – Усилием воли она отогнала набежавшее воспоминание. («О погибшем муже», – безошибочно догадался Лермонтов.) – Однако, уверяю вас, что ангелы не присаживались в эти кресла! – шутливо докончила она.
– А это уж позвольте судить мне, – подхватил он ей в тон. – Я столько писал об ангелах и демонах, что шелест крыла моё ухо ловит безошибочно, так же как и нос запах серы.
– Что же вы писали?
– О, это просто набросок. Во мне живёт неотвязный образ. Я назвал его Демоном. И сколько раз уже приступал... Он, видите ли, полюбил смертную девушку.
– Разумеется, прекрасную?
– Разумеется. Не прекрасных женщин нет, если на них смотрят глаза, которые их обожают. А Демон полюбил впервые в жизни. Знаете, как начинались мои наброски?
Печальный Демон, дух изгнанья.
Витал под сводом голубым....
– Как странно, – сказала она. – У нас есть горское сказанье, злой дух Гуд тоже полюбил грузинскую девушку...
– Не может быть! Вот и попробуй придумать что-нибудь новенькое! Но я даже рад. Иногда мне кажется, что мой Демон на самом деле существует, что он сам диктует эти стихи.
– Наверное, поэт не может чувствовать иначе, – просто сказала она.
Лермонтов благодарно нагнулся к её руке.
– Вы мне расскажете это предание?
– Непременно. Приезжайте к нам в имение, в Цинандали. Оно рядом с полком в Царских Колодцах... Какое прекрасное лицо у вашего друга месье Одоевского!
– Вы правы – он мой друг.
– Я тотчас угадала. Между поэтами родство.
Она мимолётно задумалась. И тень грусти снова была им разгадана: Саша Одоевский приходился её мужу двоюродным братом.
– Я хотела бы подарить вам обоим что-то, что принадлежало ему. Приезжайте же. Непременно.
– Я уведу твоего гостя, милая Нино, – сказал, появляясь в дверях, князь Чавчавадзе, широколобый, смуглый от солнца, с раздавшимися плечами, но всё ещё стройный и прямой.
Впрочем, как показалось Лермонтову, не было мужчины, которого не красила бы кавказская одежда – чоха, перетянутая поясом, с воинственными газырями на груди и молодцевато отброшенными рукавами. Худощавого она делала гибким; отяжелевшего, скрывая излишний жир, превращала в величественного и монументального.
Лермонтов отметил лёгкость походки князя: Александр Герсеванович ступал почти неслышно мягкими сапожками, хотя пять десятков прожитых лет отложились на нём и обильной сединой, и некоторой оплывчатостью черт.
– Для дочери, – сказал мимоходом, учтиво полуобернув лицо (он шёл на полшага впереди), – каждый петербуржец словно запоздавшая весть от моего погибшего зятя. Как отец, я желал бы ей нового брака. Она сама не ищет утешения.
– Да, – неопределённо отозвался Лермонтов, – северный ветер был немилостив к вашему дому.
Он имел в виду не только трагическое вдовство Нины Александровны, но и недавнюю ссылку самого князя, после неудачного заговора сторонников восстановления династии Багратиони. Хотя Чавчавадзе настойчиво отрицал участие и даже сочувствие этому заговору, он был обвинён в том, что не открыл замысла «родственников и единоземцев».
– Державное неудовольствие всегда выражается в понуждении к перемене мест, – тонко пошутил Чавчавадзе, – а Тамбов или Тифлис... это уж как укажут в подорожной!
Лермонтов с лёгкостью рассмеялся. Хозяин дома так великодушно уравнял их обоих! Это стирало грань поверхностного знакомства, открывало возможность отношений с более дружественным оттенком.
Отставной генерал Нижегородского драгунского полка Александр Чавчавадзе произнёс со значением:
– Мы дважды братья: как офицеры одного полка, но более того – как поэты!
Серьёзность этого слова внезапно смутила Лермонтова.
– Вы слышали о моих опытах?.. – спросил он.
Чавчавадзе плавным торжественным жестом приподнял правую руку.
– Песнь над гробом Пушкина, подобная трубе гнева, не могла не быть услышана всеми благородными сердцами. – И добавил, задумчиво глядя на Лермонтова: – В доме моего доброго друга Прасковьи Николаевны Ахвердовой в Петербурге, когда она представила мне вас, я и думать не мог, что эта песнь будет пропета именно вами, таким юным тогда.
Лермонтов ощутил счастливую раскованность рядом с этим удивительным человеком. Он беспечно махнул рукою:
– Да уж! Наружность моя достаточно ординарна, под стать армейской фуражке. – Он сделал вид, что именно так понял слова князя.
Чавчавадзе тонко усмехнулся, принимая игру.
– Лучший цветок Тифлиса, застенчивая Маико, сказала, что вы подобны выдернутому из ножен клинку.
– Маико? – повторил Лермонтов, невольно вслушиваясь в музыку имени, которое было ему неведомо ранее.
– Княжна Орбелиани. Подруга моей дочери. У нас в городе много красавиц! Вы их увидите ещё не раз.
Но Лермонтов не сделал попытки поторопить заманчивое мгновенье. Гораздо интереснее был ему сейчас хозяин дома. Помимо светской беседы, шёл между ними другой разговор, подспудный, который должен был или отдалить, или приблизить их друг к другу.
Между тем князь ввёл Лермонтова в дальнюю комнату, убранную в восточном вкусе.
– Наш юный собрат поэт Николоз Бараташвили, – представил он.
Когда Лермонтов возвращался ночью в дом Ахвердовых, который стоял на окраине, в предместье, и шёл мимо тёмных садов, ловя слухом их загадочное шевеление, вдыхая терпкий запах кипарисовых смол, его переполняло чувство задумчивого спокойствия. В нём самом и вокруг него так много было дремлющих сил, таинственности и красоты, которая ждала воплощения!..
Через неделю, вдоволь набродившись по Тифлису и перезнакомившись с массой интересного народа (в его беглой зашифрованной записи упомянуты офицеры Петров и Герарди, а также «учёный татар. Али и Ахмет»), он отправился в урочище Карагач вблизи Царских Колодцев, где располагались драгуны.






