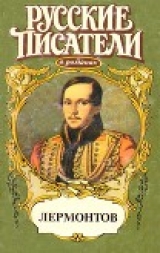
Текст книги "Лермонтов"
Автор книги: Лидия Обухова
Соавторы: Александр Титов
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 38 страниц)
Извинившись тем, что провёл ночь на дежурстве, Лермонтов круче, чтобы не скользить, привалился к стенке и под неровный, нарастающий бег поезда задремал.
Раза два или три от каких-то толчков он просыпался, ловя обрывки разговора и мутно взглядывая в темноту сквозь толстые стёкла берлины. За окнами расстилались тянувшиеся до самого Петербурга поля, гулко-пустые и дремотные, и только однажды блеснули и пропали, будто падучие звёздочки, редкие огоньки Пулковской обсерватории.
3
С бабушкой Лермонтов свиделся только утром. Позавтракав в одиночестве, он собрался было послать на её половину казачка Гаврюшку, чтобы узнать, можно ли ему к бабушке, но пришёл Андрей Иванович, старый бабушкин лакей, и сам позвал его.
Как это бывало и прежде, Лермонтов застал её полулежащей среди огромных пуховых подушек, в розовом пеньюаре и высоком белом чепце с рюшами. Бабушка, тихим ровным голосом разговаривая со старушкой-приживалкой из однодворок, Фёклой Филипьевной, раскладывала пасьянс на пуховике, который лежал у неё на коленях.
Перед большим киотом над бабушкиным изголовьем тепло горела лампадка, освещая юношески тонкое, с блестящими дерзкими глазами лицо архистратига Михаила, небесного покровителя Лермонтова. Сладко пахло деревянным маслом и сухими листьями какого-то растения, привезённого в подарок бабушке из Палестины одним знакомым, и эти уютные запахи неприятно перебивались резким и сложным запахом лекарств.
При виде Лермонтова у бабушки радостно дрогнули колючие редкие брови, порозовели щёки, она светло улыбнулась и сказала:
– Вот и внучек мой приехал мне показаться!.. Ну, ну – посиди с нами, старухами. А мы, кстати, чаек собрались пить, с вишнёвым вареньем да с жамками...
Лермонтов, склонившись, прижался щекой к морщинистой жёлтой руке. Потом сел к маленькому столику около бабушкиной постели и долго не отводил глаз от знакомого с детства лица, тревожно ища на нём признаки угасания. Но бабушкино лицо выражало скорее усталость, чем болезнь, и ту подвижную странную смесь величия и какого-то простонародного старушечьего смирения, которое всегда заставляло сжиматься сердце от жалости к ней. «Слава Богу! Слава Богу!» – думал Лермонтов, стараясь поверить в то, что она не больна, а просто ослабела и ничто страшное ей не угрожает.
Когда бабушка, отложив пасьянс и беспорядочной горкой сдвинув на пуховике карты, с неожиданной дотошностью стала расспрашивать Лермонтова о его здоровье и самочувствии, он испугался. «Уж не вызнала ли как-нибудь про дуэль?» – подумалось Лермонтову. Но вскоре он успокоился: бабушка, ещё больше зардевшись и переменив положение, вдруг сказала:
– А Философов-то, Алексей Ларионыч, намедни уж так хвалил твоего «Демона», так хвалил! Да не только от себя, а со слов государыни. Сказал, будто не сомневается, что вещь понравится и государю. Авось и судьба твоя теперь переменится... – и улыбнулась нежно и жалко.
В ответ на бабушкины слова Лермонтов пожал плечами, отведя взгляд. Алексей Илларионович Философов, молодой артиллерийский генерал, адъютант великого князя Михаила Павловича, был женат на кузине Аннет и, пользуясь своей близостью ко двору, всегда сам, без чьей-либо просьбы, старался помочь Лермонтову.
– Не обязательно, родная. Да вы и не огорчайтесь: благо такие люди, как Василий Андреич Жуковский, одобрили, да Гоголь из Москвы поздравляет меня через Тургенева. А государь – что ж?..
– Не смей этак говорить ни при мне, ни, паче, без меня, Мишенька! – огорчённо возвысила голос бабушка. – Всё, что у нас ни делается на Руси, должно иметь одобрение от государя. Жуковский с Гоголем, греховодники, сами-то небось знают это, а вот тебя, младшенького, подстрекают!..
– Где ж подстрекают, родная? Гоголь сам написал «Ревизора», – мягко возразил Лермонтов.
Бабушка сделала нетерпеливый жест рукой:
– Написать-то он написал, да как прижали ему хвост – он вишь куды лыжи навострил – в Италию!.. А тебе этот путь заказан: ты не какой-нибудь малороссийский шляхтич, в тебе кровь наша, столыпинская...
Почувствовав, что бабушка готова оседлать любимого конька, Лермонтов решил переменить разговор.
– А что, Фёкла Филипьевна, ходили вы нонеча ко всенощной? – обратился он к приживалке, которая истово и почти беззвучно, боясь нарушить благопристойность, наслаждалась кяхтинским лянсином – дорогим и грубым на вкус китайским чаем, – Лермонтов, во всяком случае, его не любил.
– А как же, батюшка Михаил Юрьич! – отвечала та, ставя чашку и обтирая губы концом розового, в белую полоску, передника. – У Всех Скорбящих Радости была, за продление дней барыни-благодетельницы молилась...
– И митрополичий хор пел? – спросил Лермонтов, прекрасно зная, что митрополичий хор не мог петь в чуть ли не захолустной церкви Всех Скорбящих, но желая отвлечь бабушку от избранной ею неприятной темы.
– И-и, батюшка, какое там! – махнула рукой приживалка. – Солдаты надрывались козлиными голосами, а благолепие-то только от женского голосу и бывает...
– Скажи-ка, Мишенька, – вновь вступая в разговор и сосредоточенно нахмурив брови, спросила бабушка, – а Плаутин-то бывает в полку? Не манкирует службой?
О полковом командире Лермонтова бабушка говорила таким тоном, будто это он был поручиком, а её внук генералом.
Улыбнувшись с ласковой иронией, Лермонтов ответил, что бывает.
– То-то же! – сказала бабушка. – Он хоть и в чинах, а человек неосновательный, не при тебе будь сказано. Уж как куролесил в польском-то походе, что даже сюда об его галантериях слухи доходили...
Лермонтов опять забеспокоился. Ему показалось, что бабушка с другой стороны подбирается к той же неприятной теме.
– А что, Фёкла Филипьевна... – начал он, желая повторить свой манёвр, но бабушка перебила его.
– А Бухаров не остепенился? – строго спросила она. – Всё так же чижики в голове поют и всё так же дружит с Ивашкой Хмельницким?
Лермонтов любил своего эскадронного командира, человека непутёвого и неудачливого, но с доброй, открытой душой, и не давал его в обиду даже бабушке.
– Да он со мной дружит, родная! – ответил он.
Бабушка непривычно язвительно усмехнулась.
– С тобой да с Ивашкой! – сказала она. – Нечего сказать, хороша компания!..
Лермонтов знал, что после этого пойдут разговоры о мотовстве, о разорении дворянских имений, о долге перед отечеством и государем. И хотя бабушка из какой-то особенной деликатности никогда не делала ему прямых выговоров, он знал, что это всего-навсего её педагогическая метода. Поэтому, бросив в последний раз взгляд на освещённое лампадкой свежее лицо святого Михаила и черпая решительность в смутно ощущаемом чувстве обиды на бабушкины слова, Лермонтов поднялся.
– Я пойду, родная, – целуя сморщенную жёлтую руку, сказал он.
– Ну иди, иди, дружок, служба царская – прежде всего! – ответила бабушка, и в её голосе прозвучало раскаяние и сожаление о том, что Лермонтов уходит. – Иди, да не загуливай чересчур. Надеюсь, ты не отъедешь в Царское, не зайдя ко мне?
Когда Лермонтов, уже перешагнув порог бабушкиной спальни, закрывал за собой дверь, вдогонку ему прозвучало всегдашнее бабушкино предостережение:
– Мишенька, помни, что я не позволяю тебе ездить по чугунке! Смотри, коли проведаю – рассерчаю!..
– Да, да, родная, помню! – громко и с чуть заметным нетерпением в голосе отвечал Лермонтов, уже шагая по полутёмной галерее, которая вела на его половину. Потом, быстро оглянувшись, чтобы случайно не увидели слуги, он украдкой перекрестился и прошептал на ходу: «Слава Богу! Слава Богу!..»
Всё вокруг бабушки оставалось как будто прежним, привычным, уютным. Привычной и прежней казалась и она сама. Ненадолго это почти совсем успокоило его.
В понедельник утром Лермонтов проснулся в самом дурном расположении духа. Выгнав казачка Гаврюшку, пришедшего помочь ему одеться, он поднялся с постели, в ночной рубашке постоял у окна, отогнув штору, поглядел на громады домов, мутно серевшие за бледной завесой метели, потом, бесцельно побродив по комнате, сам разжёг трубку.
Сев по-дамски в так ещё и не испробованное седло, он обнаружил под собой свой любимый халат, бабушкин подарок, надел его и будто даже почувствовал некоторое облегчение.
Но радоваться всё-таки было нечему. Монго, приезжавший вчера навестить бабушку, которая доводилась ему тёткой, рассказал, что по городу уже поползли слухи о дуэли. Не сегодня-завтра они дойдут до Цепного моста или до самого Зимнего, а там... Впрочем, не будет ничего особенного, во всяком случае – ничего небывалого: военный суд, может быть, разжалование... А может быть, и нет: мало ли в Петербурге происходит дуэлей, несмотря на все запрещения.
Недаром Монго, которому как секунданту тоже угрожает суд – правда, не военный, а уголовный, – радуется, что причиной дуэли молва называет любовное соперничество. Он даже с удовольствием продекламировал стишки, которые тоже переносятся любителями новостей:
Поручик с дипломатикой затеяли дуэль;
Исторья неприятная, причиною – мамзель...
Стихи эти, сочинённые Ишкой Мятлевым, Лермонтов знал давно. Написаны они были совсем по другому поводу и вместо «дипломатика» у Мятлева был «камер-юнкер». Но теперь какой-то доброхот приспособил их к действующим лицам свежей истории и снова пустил в обращение, в восторге, конечно, от своей жалкой выдумки.
Это проявление людского недоброжелательства тяжело подействовало на Лермонтова, и он ещё больше помрачнел. «Чудак! – сказал Монго. – Да ты должен положить на музыку эти вирши. Ведь благодаря им никто не догадается, что Барант для тебя вроде Дантеса и что только поэтому дуэль-то и получилась!»
Возможно, Монго и прав, но садиться им обоим придётся теперь обязательно. Первым сядет, конечно, он, Лермонтов; военное начальство в таких делах расторопнее.
Лермонтов решил прямо сейчас ехать в цензуру: ведь сидючи за решёткой протолкнуть роман гораздо труднее, а то и вовсе запретить могут под предлогом неблагонадёжности автора-арестанта.
Приказав подать завтрак, Лермонтов открыл бюро и вытащил свой экземпляр романа, чтобы ещё раз посмотреть и погадать, что может вызвать особенное неудовольствие цензуры.
Из пяти составляющих его повестей три были уже напечатаны в журнале и, следовательно, прошли цензуру. Но в России это ничего не значило. В России цензор по отношению к писателю был как офицер по отношению к солдату: «Становись!» (подразумевалось – в общий строй с Булгариным); «Равняйсь!» (опять-таки – на Булгарина, а то – на Греча); «смотри веселей!» («на немытую Россию», как выразился однажды известный остряк Соболевский).
А в романе к тому же были две нецензурованные части, написанные вовсе заново, – «Максим Максимыч» и «Княжна Мери». Они-то, особенно «Княжна Мери», и могли задержать всю книгу...
Гаврюшка внёс на подносе завтрак, и Лермонтов кивком головы показал ему, чтобы он поставил поднос на край бюро.
Лермонтов отхлебнул крепкого, загустевшего, как ликёр, чая и развернул рукопись. Он знал, что «Княжна Мери» из всех частей романа самая лучшая. Знал по тому трепету, который сам испытывал всякий раз, садясь писать за Печорина его пятигорский дневник.
Захваченный прошлым, он писал от себя и первую запись в дневнике Печорина обозначил тридцатым мая – днём своего приезда в Пятигорск в тридцать седьмом году.
Дальше всё пошло само собой, как было тогда; и, вспоминая и волнуясь, Лермонтов записал: «Вчера я приехал в Пятигорск, нанял квартиру на краю города, на самом высоком месте, у подошвы Машука: во время грозы облака будут спускаться до моей кровли.
Нынче в пять часов утра, когда я открыл окно, моя комната наполнилась запахом цветов, растущих в скромном палисаднике. Ветки цветущих черешен смотрят мне в окна, и ветер иногда усыпает мой письменный стол их белыми лепестками...»
Лермонтов писал эти строчки и, взглядывая на окна, действительно видел белые лепестки: декабрьский мороз изукрасил стёкла.
Была зима тридцать девятого года; был Петербург и Царское Село: были разводы, парады, балы и театры; были людские лица, мелькавшие, будто китайские тени, в одной из которых он, как бы со стороны, по временам узнавал самого себя; но жил Лермонтов, жил всеми своими чувствами – в Пятигорске, летом тридцать седьмого года...
Когда «Княжна Мери» была закончена, Лермонтов перечитал эти страницы и ужаснулся и обрадовался их правде. Потом подумал, поколебался и подлинные даты везде заменил вымышленными: казалось, что так ему лучше удастся отгородить себя от Печорина в глазах публики. Но это была капля в море: во множестве оставались другие, более живые и явные приметы. Стереть же их Лермонтов не решался: это были не просто строчки, это были невозвратимые уже и, может быть, лучшие миги его собственной жизни.
«Узнают, узнают, всех узнают: и Печорина, и Веру – Вареньку, и Мери... Ну, и пусть!» – устало и радостно думал Лермонтов...
Первым читал «Княжну Мери» Монго. Он листал пятигорский дневник Печорина со своей обычной меланхолической миной на лице, изредка поднимая голову и взглядывая наливающимися блеском глазами в сторону Лермонтова, который с притворным равнодушием курил, лёжа на тахте. Дочитав последнюю страницу, он глухо и как бы неохотно сказал:
– Ты с ума сошёл, братец! Пожалуй, что старый сатир Вяземский прав: ты впрямь – европейский писатель...
Лермонтов крякнул, перевёртываясь на живот, чтобы лучше видеть Монго.
– Можешь не сомневаться, их сиятельство знают, что говорят, – небрежно, посасывая чубук, сказал он, – писатель-то я европейский, да вот цензура у нас азиатская...
Кончив листать рукопись, Лермонтов заметил, что завтрак остался нетронутым, выпит был только чай. Он кликнул Гаврюшку и приказал подать себе другой вицмундир – новенький, ещё не надёванный, ало сиявший отворотами и золотым шитьём. Лермонтов осторожно, боясь сломать ногти, сам пристегнул эполеты с приглушённым матовым блеском, недели за две перед тем купленные у Битнера, на Троицкой.
Натянув узкие мундирные брюки со штрипками и облачившись в сюртук, он со всех сторон оглядел себя в зеркале и подошёл к окну. На улице белёсым дымом всё ещё курилась вьюга, да и показываться в открытых санях не стоило: могли арестовать раньше времени. Лермонтов приказал заложить бабушкину карету, поставленную на полозья.
Сидя на вытертых сафьяновых подушках, он старался представить себе разговор с цензором Корсаковым, у которого находился роман. Корсаков меньше остальных был «азиатский» цензор, недаром он в своё время разрешил «Капитанскую дочку», но лучшая из змей – всё-таки змея, и полагаться на её доброту было бы непростительным ребячеством. Выбора, однако, у Лермонтова не было, и он решил не растравлять себя заранее грустными мыслями...
Когда бабушкина карета остановилась у мрачного подъезда, над которым два бородатых гипсовых атланта с торжественным, как у архиереев, выражением на лицах бережно поддерживали облупившийся портик, Лермонтов упруго соскочил на панель, коротким толчком открыл тяжёлую дверь и, высокомерно бренча шпорами, прошёл мимо вытянувшегося швейцара.
Корсаков, сидевший у огромного письменного стола, заваленного бумагами, поднялся, сделав вид, будто только что оторвался от важного дела, и протянул Лермонтову красную волосатую руку. Пожатие его было крепко, и Лермонтов счёл это хорошим признаком.
– Ну вот: «и они встретились», как сказано у вас в эпиграфе к «Максиму Максимычу», – проговорил Корсаков, когда он и Лермонтов уселись друг против друга.
– У вас отличная память! – вежливо заметил Лермонтов.
– Подождите с комплиментами, Михайла Юрьич, – усмехаясь, предостерёг Корсаков. – Скажите-ка лучше, откуда этот эпиграф?
Лермонтов не мог вспомнить и замялся.
– Право, не вспомню, Пётр Александрович, – потирая пальцами лоб, ответил он. – Скорее всего, я умыкнул эту строчку у кого-то из новых сочинителей...
Корсаков внимательно посмотрел Лермонтову в глаза и, подвинув к себе синюю казённую папку, раскрыл её.
– Вот она, эта строчка! – сказал он, уткнув палец в начало «Максима Максимыча». – Может, взглянете, так припомните?..
Лермонтов, глядя на знакомые строчки, покачал головой: он и в самом деле не припоминал.
Корсаков устало улыбнулся:
– И не тужьтесь, голубчик, чего уж там! Пушкин-то Александр Сергеевич, писатель великого дарования и, значит, человек заведомо серьёзный, всё, бывало, как мальчик, который плутует, играл в дурачки, старался подсунуть эпиграф то из Рылеева, то из Кюхельбекера, то из Одоевского – того, знаете... – Корсаков, не оборачиваясь, показал большим пальцем куда-то за спинку своего кресла, словно за нею и впрямь стоял тот Одоевский, – и тоже, царство ему небесное, никогда не мог припомнить откуда.
Лермонтова покоробил этот бессознательно неуважительный жест, укололо безликое, будничное словечко «тот», поставленное рядом с именем Саши Одоевского, человека такой блистательной и такой несчастливой судьбы. «Когда-нибудь и обо мне этакий же чин скажет: тот Лермонтов», – подумал он с горечью и, чтобы скрыть вспыхнувшую вдруг неприязнь к Корсакову, опустил глаза.
– У меня-то, пожалуй, Баратынский, – справившись с собой и сделав вид, что наконец-то вспомнил, сказал он. – Да, да, Баратынский...
Корсаков хмуро взглянул на него и покачал головой.
– Бьюсь об заклад, что если покопаться, так сей Баратынский легко окажется Рылеевым, – ответил он. – Но не будем препираться, Михайла Юрьич: вешь настолько хороша, что даже самый лучший эпиграф ничего ей уже не прибавит. Как почитатель вашего таланта, я советую снять его...
Не дожидаясь согласия Лермонтова, Корсаков толстым красным карандашом перечеркнул эпиграф.
«Хорошенький почитатель!» – подумал Лермонтов, с замиранием сердца следя за движением карандаша. Вслух же запоздало произнёс:
– Ладно, снимем...
Исподлобья взглянув на Лермонтова, Корсаков опять опустил глаза к рукописи. Вдруг он как-то неестественно быстро поднял голову и спросил:
– Из-за этого лже-Баратынского чуть не забыл важной вещи: почему вы назвали роман «Один из героев начала века»?
Корсаков явно лукавил: он не мог забыть того, что сам признавал важным и что в действительности было для него самым важным. Не подав виду, что понимает это, Лермонтов равнодушно пожал плечами.
– Как вам сказать, Пётр Александрович, – протянул он, притворяясь, будто застигнут врасплох, – почему, например, Жюль Жанен назвал один из своих романов «Мёртвый осёл и гильотинированная женщина»?
Корсаков поморщился.
– Безвкусное и вызывающее название, – сухо сказал он. – Кстати, у нас этот роман числится в списке запрещённых.
Бросив притворство, Лермонтов улыбнулся – понимающе и злорадно.
– У нас, как мне известно, запрещены мемуары его величества Карла Десятого, бывшего короля Франции, – с весёлой язвительностью напомнил он Корсакову.
– Ну что ж! – философским тоном ответил Корсаков. – Запрещать или разрешать книги есть политика, а политика превыше авторских имён...
Лермонтов, услышав, что Корсаков заговорил несвойственным ему казённым языком, испугался: причиной этой перемены он счёл свою чересчур откровенную улыбку и неуместную язвительность.
Но Корсаков, внезапно захваченный каким-то сильным чувством, откинувшись на спинку кресла, возбуждённо заговорил:
– Вы говорите: Карл Десятый! Что там Карл Десятый, иноземный монарх, никогда не видевший России в глаза, – с него и спросу нет! Ведь рядом с нами живут люди, которые родились в России, носят русские имена – да ещё какие! – едят русский хлеб и ничегошеньки не хотят понимать в русской действительности. Всё толкуют вкривь и вкось...
«Вот она, лучшая из змей, показывающая свой раздвоенный язык», – подумал Лермонтов и ощутил, как у него холодеют руки. Теперь он уже ясно видел, что будет дальше: возглашая анафему тем, кто «ничего не хочет понимать в русской действительности», Корсаков возьмёт свой кровавый карандаш и наискось выведет на титульном листе рукописи: «Печатать запрещается, поелику автором нарушены такие-то и такие-то статьи цензурного устава». А потом, улыбаясь, повторит Лермонтову, что остаётся почитателем его таланта и всегда готов к услугам...
Судьба книги, её разрешение или запрет, таинственной и неясной, но нерасторжимой связью связывалась для Лермонтова с его собственной судьбой, и сейчас, без всякого видимого логического повода, он впервые почувствовал настоящий страх перед арестом и жандармами, и ему вдруг страстно захотелось убежать, умчаться, спрятаться у бабушки на Сергиевской или в Царском; уйти на конюшню и там, ни о чём не думая, вдыхать устоявшийся до ощущения первозданной простоты сложный и древний запах сена, лошадиного пота и седельной кожи, который всегда непостижимым образом успокаивал его...
– Как-то совсем недавно камергер и статский советник Мятлев... – словно откуда-то издалека донёсся до Лермонтова голос Корсакова.
Услышав знакомое имя, Лермонтов невольно прислушался.
– ...Так вот, Мятлев прислал с человеком – заметьте, Михайла Юрьич, прислал! – Корсаков возмущённо поднял вверх толстый указательный палец, поросший рыжеватой шерстью, – не то с секретарём, не то с лакеем свою рукопись на цензуру – «Сенсация госпожи Курдюковой». Вы небось знаете: вещица довольно забавная, о прошлом годе сцены из неё на театре шли, а в домах Мятлев читал её ещё раньше... Ну и я думал, что знаю. Раскрыл так просто – для порядка больше, перед тем как подписать. Раскрыл – и последние, знаете, волосы на голове зашевелились: что, как проскочила бы такая вот штука! Головы бы не сносить! Священник там у него, у Мятлева, оказался добавлен. Ну, доложу я вам, и священничек: ни дать ни взять – завсегдатай злачного места откуда-нибудь с Коломенской... Вот тебе, думаю, и камергер, вот тебе и статский советник!..
Только теперь, слушая Корсакова и постепенно убеждаясь, что это благородное цензорское кипение направлено не против него, Лермонтов пришёл в себя. Впервые он сообразил, что, решив запретить роман, Корсаков не стал бы придираться ни к эпиграфам, ни к названию.
Мятлевские стихи о попе, остригшем бороду и, к соблазну окружающих, целующемся с молодой попадьёй на пароходной пристани в Кронштадте, и вообще всю историю, рассказанную Корсаковым, Лермонтов уже знал от самого Ишки Мятлева, но и сейчас она показалась ему забавной. Подавляя неожиданно подступивший смех, Лермонтов поддакнул Корсакову:
– Вы подумайте, Пётр Александрович! Кто бы мог ожидать!
– Вот именно! – благодарно взглянув на Лермонтова, подтвердил Корсаков. – Мало у нас клеветников на Западе, так ещё и свои норовят пустить отравленную стрелу. Конечно, мне пришлось запретить это место. И я же, натурально, оказался плох: мракобес, ретроград, душитель литературы... Сами небось так скажете, чуть выйдете отсюда...
– В моём романе духовные особы даже не упоминаются, – не возражая Корсакову, скромно сказал Лермонтов.
– И к лучшему оно, Михайла Юрьич! И к лучшему! – одобрил Корсаков. – Хорошо изобразить в литературе духовную особу так же трудно, как прекрасную и добродетельную женщину. Но... видите ли... я ведь вам неспроста рассказал про Мятлева: у него – безнравственный священник, а у вас... у вас – «герой начала века». Это, как хотите, тоже не годится, Михайла Юрьич.
Лермонтов снова напустил на себя саратовское простодушие (опять-таки bon mot Соболевского) и сказал:
– Помилуйте, Пётр Александрович! Да что вы увидели в этом «начале века»?
Корсаков хитро прищурился:
– Многое-с! Ой, многое-с, Михайла Юрьич! И вы сами изволите знать что...
– Убейте – не знаю!
Ответ Лермонтова прозвучал очень искренне.
– Ну, уж коли вы и в самом деле такой несмышлёныш, я вам объясню, – недоверчиво улыбнувшись, сказал Корсаков и, сделав паузу, важно, будто читая лекцию, продолжал: – В начале века было Бородино, поход на Париж, ниспровержение Наполеона... У вас в книге ничего этого нет...
– Нет! – согласился Лермонтов, прекрасно понимая, к чему клонит Корсаков, и уже готовясь в нужный момент ему уступить.
– Нет! – повторил Корсаков удовлетворённо. – Значит, нет будто и резону вспоминать начало века в заглавии. Но, с другой стороны, – Корсаков опять хитро прищурился и понизил голос, – с другой стороны, в начале века был Семёновский бунт[99]99
...в начале века был Семёновский бунт... — Семёновский бунт – восстание л.-гв. Семёновского полка в Петербурге в октябре 1820 г. против бесчеловечного обращения командира полка с солдатами. Полк расформировали (затем создали снова), зачинщиков прогнали сквозь строй и сослали на каторгу, остальных – в дальние гарнизоны.
[Закрыть] и было печальной памяти происшествие четырнадцатого декабря. И вот вы впутываете вашего Печорина в какую-то петербургскую историю, которая «наделала много шуму» – ваши собственные слова! – и потом отправляете его на Кавказ, куда, как известно, была отправлена большая часть действователей рекомого происшествия... Вот зачем вы, будто ни к селу ни к городу, вспомнили начало века. Хоть Пушкин-то и кричал на всех перекрёстках, что цензура – дура, мы эти хитрости господ сочинителей насквозь видим. А вы к тому же и хитрить-то толком не научились – молоды ещё...
Лермонтов не возражал: он решил дать Корсакову насладиться собственной проницательностью. Некоторое время оба молчали: Корсаков – торжествующе, Лермонтов – смиренно. Приближался момент, которого ждал Лермонтов.
Корсаков медленно придвинул к себе рукопись и сказал, открыв титульный лист:
– Видите? «Печать дозволяется. 19 февраля 1840 года». Уже неделю назад я собирался подписать и только ждал вас, чтобы решить насчёт заглавия. Меняем его – и я тотчас же подписываю...
Лермонтов делал вид, будто всё ещё колеблется, но чувствовал, что момент уже наступил, и внутри у него всё ликовало от той лёгкости, с которой он сейчас получит подпись Корсакова. Тихо, стараясь придать голосу оттенок нерешительности, он сказал:
– Согласен...
– Давно бы так! – с облегчением, удивившим Лермонтова, вырвалось у Корсакова. Торопливо и буднично он поставил под датой свою роспись. – Как же теперь назовём?
– Да всё равно, – уже с искренним безразличием отозвался Лермонтов, – важно, чтобы не было начала века...
– Поставим: «нашего века»? – предложил Корсаков.
– Давайте... – согласился Лермонтов. – Только уж тогда лучше не «один из героев», а просто «герой»...
– Да, конечно! – так же охотно согласился Корсаков и, как давеча эпиграф, крест-накрест зачеркнул заглавие романа. Отбросив карандаш, он обмакнул в чернильницу металлическое перо и, протягивая его Лермонтову, сказал:
– Хотите вашим почерком?
– Да не обязательно, – ответил Лермонтов, – можете надписать вы... если нетрудно.
– Нет, отчего же! – вежливо засуетился Корсаков. – С большим удовольствием...
Склонив лобастую голову с редкими светлыми волосами, он медленно вывел красивую надпись. «Герой нашего века», – прочитал Лермонтов перевёрнутую вверх ногами строчку.
– Пётр Александрович, – попросил он, встав и обойдя стол и тоже наклоняясь над рукописью, – исправьте «века» на «времени»...
Корсаков, не поднимая головы, послушно заскрипел пером, разбрызгивая по бумаге мелкие капельки.
– Что же у нас получилось? – задумчиво спросил он будто себя самого. – Действительно лучше: «Герой нашего времени»...
Положив перо, Корсаков сцепил крупные волосатые руки и, пощёлкивая пальцами по косточкам, медленно сказал:
– Хочу ненадолго вернуться к нашему разговору... Я вас не очень задерживаю, Михайла Юрьич?
– Боже мой – нисколько! – мысленно ругнувшись, заверил Лермонтов.
– Как-то мне довелось услышать фразу, сказанную одним вельможей из военных, – доверительно продолжал Корсаков, – кем, я полагаю, не важно. Этот вельможа сказал: «Каждый литератор – прирождённый заговорщик». Помню, в первый момент меня будто ошпарило – до того мне показалось это грубо. Но, раздумавшись, я должен был признать, что доля истины – и солидная доля! – он выставил заросший указательный палец, – в этом изречении есть. Нуте-ка, освободите от цензуры хоть того же Булгарина – ведь он постепенно до чёртиков допишется... Впрочем, что там Булгарин: он слишком уж благонамеренный, такие искренними не бывают, он-то, конечно, допишется... Но возьмите действительно благонамеренного, искренне преданного правительству литератора – так и тот тоже нет-нет да и оступится. Конь, как говорится, хоть и о четырёх ногах... И это – при цензуре. А отмените, повторяю, цензуру – увидите, что получится... Конечно, в государстве, достигшем высокой степени просвещения, цензура, может быть, и не нужна. Наше же отечество далеко от такого уровня, и нам необходимы некие умственные плотины, которые сдерживали бы напор неосновательных, а порой – безрассудных и даже пагубных мнений...
– Ну, конечно, – нетерпеливо и легковесно подтвердил Лермонтов, поднимаясь и ища глазами стул, на который он, войдя, сбросил свою шинель...
Прощаясь, Корсаков встал из-за стола, почти вплотную подошёл к Лермонтову и, ожидая, пока он наденет шинель, смотрел на него серьёзно и доброжелательно.
От нетерпения Лермонтов не мог попасть в рукав, и Корсаков, протянув свою большую красную руку, помог ему. Когда Лермонтов взял со стола рукопись, Корсаков с необычной для себя краткостью сказал:
– Это большая книга. Берегите свой талант, Михайла Юрьич...
В другое время и в другом настроении Лермонтов был бы польщён такими словами от человека, которого уважал (наверное, всё-таки умеренно) сам Пушкин. Но сейчас слова Корсакова, не причиняя, правда, досады Лермонтову, никак на него не действовали. Его переполняла беспокойная, щекочущая радость, и он уже не думал ни об аресте, ни о возможном суде, и даже мысль о бабушкиной болезни только слабо мерцала где-то в глубине его сознания.
Встряхнув протянутую руку Корсакова, Лермонтов, слегка удивившись себе, фамильярно-весело провёл рукой по лацкану корсаковского сюртука и, звеня шпорами, выбежал в коридор.
Только чуть понизив голос и продолжая бежать, легко и звонко подскакивая, он запел сочинённую тут же, на бегу, песенку, и сразу же к ней как-то сами собой подобрались слова чьей-то эпиграммы: «Просвещения «Маяк» – издаёт большой дурак – по прозванию Корсак...»
Корсаков был не только цензор, но и издатель нового журнала «Маяк» – говорили, скучного.
Неожиданно, словно пройдя сквозь стену, перед Лермонтовым появился старый чиновник, которого час назад он принял за служителя. Лермонтов осёкся, перестал напевать и пошёл шагом.
Но, кажется, было поздно: по смятенному выражению на лице чиновника ясно было, что он всё и видел и слышал.
Густо и мучительно краснея, Лермонтов с нарочитой и трудной медлительностью продвигался к выходу, чувствуя на своей спине взгляд старика.






