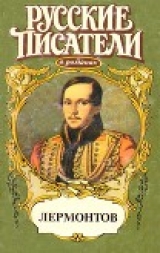
Текст книги "Лермонтов"
Автор книги: Лидия Обухова
Соавторы: Александр Титов
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 38 страниц)
Лермонтов обернулся: запоздалая пуля ударила Лихарёву в спину навылет. Его улыбка и неоконченная фраза ещё словно витали в густеющем воздухе, а сам он уже лежал без движения.
Лермонтов, угрюмо тряхнув головой, чтобы отогнать свежее воспоминание, присел рядом с толмачом.
– Верно, не один горский отряд дрался нынче, – сказал он, – тысяч до семи, полагаю?
Толмач безразлично кивнул. Тяжёлый взгляд офицера его не смущал.
– У этой речки есть название? – снова спросил тот.
Чеченец наконец поднял глаза, странно блеснувшие из-под густых бровей. Отозвался гортанно:
– Валеран-хи. – Ища слов, добавил со скрытым злорадством: – Смерть-река, так её наши старики называют.
Рябой казак, который говорил про пулю-дуру, проходил мимо с зачерпнутым ведёрком. При дневном свете видно было, как вода помутнела от крови. Но к вечеру быстрое течение уже промыло русло, струя стала снова свежей и чистой.
– Попомнят вражьи дети наш штык! Чай, немало их полегло, – сказал казак бесшабашно. – Эй, кунак! Сколько мы ваших нынче побили?
Тот усмехнулся, но головы не повернул.
– Ступай в горы, считай.
Казак опешил было, выбранился и захохотал.
Лермонтов пошёл прочь с чувством тяжести, которая, однако, сменилась холодящей лихорадкой разнородных чувств. Словно он только что поставил на самом себе смертельный эксперимент, который удался, потому что он жив. И напряжение готово было отхлынуть стихами:
...А там, вдали, грядой нестройной,
Но вечно гордой и спокойной.
Тянулись горы – и Казбек
Сверкал главой остроконечной.
И с грустью тайной и сердечной
Я думал: «Жалкий человек.
Чего он хочет!.. небо ясно,
Под небом места хватит всем.
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он – зачем?»
Едва отряд возвратился в Грозную, последовал новый приказ: идти в Дагестан, к Темир-Хан-Шуре, на выручку генералу Клюгенау, которого осаждал Шамиль. Четыре батальона пехоты и сотня казаков, рассеянных по укреплениям горного Дагестана, не могли отбить многочисленных отрядов: в аул Чиркей на зов Шамиля стекались чеченцы, салатавцы, андийцы, гумбетовцы. Аулы переходили на его сторону без выстрела. Местный правитель Шамхал Тарковский был бессилен помочь генералу Клюгенау, человеку хладнокровному, который не стал дожидаться осады Темир-Хан-Шуры и с малыми силами пошёл навстречу противнику.
Сильно поредевший галафеевский отряд должен был пройти сто пятьдесят вёрст: через Герзель-аул и крепости Таш-Кичу и Внезапную к Миатлинской переправе на реке Сулак, затем мимо песчаного бархана Сарыкум по руслу речки Шура-Озень в Темир-Хан-Шуру.
Места Лермонтову были знакомы. Когда он писал «Бэлу», в памяти вставали обе крепости: и Таш-Кичу («Каменный брод» – ему понравилось название), и Внезапная с её дальними горами и высоким валом над рекой Акташ, серая струя которой была подобна змее-песчанке. С вала виднелся тонкой горловиной минарет ближнего Андрей-аула. Крепость была невелика, с несколькими пушками и пороховым погребом в виде землянки. Как и три года назад, во Внезапной дули ветры. Шелест ветвей и трав напоминал змеиное шипение. Оно шло со всех сторон, утомляя уши. Часовой у ворот однообразно окликал: «Ходи дальше!»
От Внезапной шли окраиной кумыкские степи; в предгорьях природа создала готовые тропы, обозные лошади брели хоть медленно, но не оступаясь. Горы наплывали, как волны.
Миатлинскую крепость ни разу не осаждали; отлогий правый берег с двухэтажной сторожевой башней и ступенями к быстрому Судаку надёжно защищал её с одной стороны, а обрыв холма по другую сторону также отгораживал от натиска горцев. Мюриды Шамиля ограничивались перестрелкой. Выстрелами отвечала и крепость. Лермонтов, нагнувшись, подобрал пулю – тяжёлую, свинцовую. Подбросил на ладони и зашвырнул в траву.
Тропа от переправы шла между горками с редкими кустами. Холмы будто переливались друг в друга фиолетовыми тенями.
Сулак мчался между высоких берегов. Они поднимались от воды не отвесно, а горбом. Долина реки была прекрасна! Зелёная, ровная, с редкими деревьями, которые далеко отстояли друг от друга. Бирюзовые волны Судака текли сквозь узкое горло между двумя угрюмыми горами, в просвете которых было ещё не небо, а вновь горы: Хадун-баш и Сала-Тау.
Солдаты не знали названия гор, столпившихся вокруг, но толмач-горец охотно назвал их Лермонтову и с одобрением взглянул на молодого офицера, когда тот без насмешки, со старанием повторил гортанные щёлкающие звуки: Хадун-баш, Гочто-шоб, Гибар-шоб, Берцинаб-ахеи...
В Миатлах простояли пять дней, давая отдых измученным лошадям и людям. Лермонтов и Григорий Гагарин усердно рисовали в дорожных альбомах. Батальный эскиз Валерикского боя, сделанный Лермонтовым, Гагарин расцветил акварелью. Третий художник экспедиции Дмитрий Палён набрасывал карандашом профильные портреты: Лермонтов в походной фуражке, с поднятым воротником оказался очень похож.
Отряд Галафеева приближался к Шуре, и Дагестан раскрывал перед поэтом своё неподатливое сердце. Голубел хребет Сала-Тау с белыми известковыми промоинами. Небо и горы казались сотканными из голубой дымки. А ближние горы словно были перепаханы мощным плугом, оставлявшим борозды в крупных камнях. Мышастый цвет осыпей и аспидно-чёрньм каменных гряд! По распадкам дубовые рощи и сизые поляны в полыни и высоких цветах с пронзительно-пряным запахом. Стрекотание сорок, воркование горлинок, жужжание шмелей. И вдруг райские места кончились; путь круто повернул на юго-восток по убитой земле без воды и тени. Пропылённый отряд еле плёлся, изнемогая от зноя и жажды. Пока не засветился, подобно миражу, высочайший песчаный бархан Сарыкум. Огибая его с востока, бежала шустрая речка Шура-Озень. Солдаты составили ружья в козлы, сняли мундиры и кинулись к воде. Офицеры их не останавливали.
«А ведь Валерик поуже Шуры-Озень!» – усмехнулся про себя Лермонтов. Жара мало донимала его. Лишь немного отдохнув, он взобрался на гору. (Толмач сказал, что это великан-нарт присел переобуться и высыпал из сапог набившийся песок).
«Господи, как высок купол неба!» – подумалось Лермонтову. Он лежал на горячем песке, раскинув по сторонам руки. Над ним кружил орёл – мягко, почти не помахивая крыльями. Счёт времени был потерян. Смутно бродили отрывочные строки:
Лежал один я на песке долины...
Уступы скал теснилися кругом...
И снился мне сияющий огнями
Вечерний пир в родимой стороне...
Ум осаждали странные видения. Вспомнился рассказ одного штабс-капитана, который сутки пролежал под горой Ахульго, истекая кровью, в безнадёжных мыслях о невесте... «Не хватало ещё, чтобы посреди бала мне померещился ваш труп!» Ба! Да это же голос Катишь, ныне Хвостовой. Он послал ей, уже замужней, свой портрет. Гордячка. Не захотела даже взглянуть. Отослала обратно, не разворачивая. Он так долго отдыхал от пламенных глаз Катишь, от её вздорного, неотвязного когда-то образа, что сам уже не знал, чего в нём больше – ревнивой досады или позднего понимания? И вдруг почувствовал, что улыбается. Губы сами собою шептали:
Катерина, Катерина,
Удалая голова...
То, ЧТО написал на голубом листочке в альбом Сашеньке Верещагиной... то есть баронессе Хюгель. Собственная юность улыбалась ему через года.
Глубоко вздохнув, он обтёр тыльной стороной ладони мокрые глаза и, успокоенный, стал спускаться вниз, на звук сигнального рожка.
Ещё несколько переходов, и на горбатых холмах завиднелись всадники с флажками на длинный пиках – дозорные Темир-Хан-Шуры. «Шамиль есть?» – шутливо спрашивали солдаты в ближнем ауле. Хор детворы охотно отвечал: «Шамиль йок!» Действительно, Шамиля след простыл, хотя наведывался он сюда часто: за перевалом был его родной аул Гимры.
Пока солдаты чистили лошадей, смазывали колеса повозок. Палён сделал набросок нескольких офицеров на привале: Ламберт протягивает бутылку, Лермонтов, стоя вполоборота, держит стакан, Долгорукий прилёг, подпёршись рукой...
После долгого марша Шура показалась обжитой, даже уютной. На незамощенных улицах кроме цейхгаузов и казарм стояла церковь, был госпиталь, трактир, лавки. Прогуливались дамы под зонтиками. По четвергам в крепость спешили со всех окрестностей арбы с сеном, дровами, виноградом, посудой и знаменитыми базалийскими кинжалами. Главную улицу освещало несколько фонарей.
На заходе солнца Лермонтов взобрался на каменную глыбу, которая нависала над речкой, – отсюда был замечательный вид! Гимрийский хребет синел под облаками. Марево ложилось на его зелёные склоны, которые перемежались лилово-коричневыми проплешинами. Редкие сакли оживляли бесконечный простор белыми живописными точками. По долине между скалистыми уступами гнали овечью отару; ослики везли поклажу пастухов в высоких лохматых шапках.
Девушки шли с кувшинами к роднику у подножия скалы. Они слегка отворачивались от русских офицеров, но лица их не были прикрыты, и не одни глаза украдкой окидывали молодых Мужчин любопытным взглядом.
Одна из горянок посмотрела на Лермонтова в упор и, как ему почудилось, слегка усмехнулась. Он отошёл в сторонку, сел на камень, следил за нею взглядом неотступно. Она долго полоскала в быстрых струях кувшин – тёмная медь звенела, – наконец наполнила до краёв, выпрямилась, как ветка, которую выпустили из рук, стала подыматься вверх дальней тропою. На мокром камне, где она только что стояла, что-то ярко розовело. Лермонтов поспешно сбежал. На камне лежал свежий стебель с множеством крупных соцветий. Каждый венчик из пяти лиловатых лепестков, далеко отстоящих друг от друга, раскинутых наподобие крылышек, с высокими мохнатыми тычинками, испускал резкий аромат. Он был дик, никакой сладости, скорее привкус чеснока и кизячного дыма.
Лермонтов задумчиво поднялся с цветком к прежнему месту. Толмач-горец, кунак его, насмешливо покачивал головой.
– Шайтан-девка, – сказал он. – Отчаянная.
– А как её звать?
– Бэлою.
Лермонтов вздрогнул. Совпадение имени удивило.
– Увидать её можно?
– Ты уже видал. А ещё раз столкнёшься – братья её зарежут.
Быстро опускалась ночная мгла. В саклях затеплились очаги. Внезапно раздалась песня; голосок был свеж и молод. Но ничего от плавных равнинных мелодий! Песня словно отталкивалась от горных уступов и затихала перекличкой эха по ущельям.
– Про что она поёт?
– Жениха зазывает.
Девушка пела: «В зимнюю ночь в окно сакли ударил клювом озябший сокол. «Впусти меня, девушка, я бездомен и сир». Пожалела я птицу, открыла оконце. Но ни пищи, ни воды не захотел сокол. Сел на моё плечо и обнял крыльями. Матушка! Ни один джигит не зажигал так моего сердца!»
Потом вступил мужской голос под глухое треньканье воловьих жил пандура. И был он звучен, сдержанно-благороден, лился без всякого напряжения, словно певец пил глотками ветер и небо. Мелодия уходила по горному склону, опускалась в теснину, раскатывалась горстью камней и вновь взлетала, едва касаясь крылом гребня горы, прощаясь с твердью и неизменно возвращаясь к ней...
За горой вставал туманный месяц. Край проходящего облака облило нежнейшей позолотой, будто то была девичья щека в пламени свечи. Очарование былой муки охватило Лермонтова. Всё и повсюду напоминало ему Вареньку! Чем глубже во времени, чем дальше в пространстве – тем горше и неотвязнее. Лермонтов узнал в себе новую черту: упорство чувства. Варенька высветлялась в его душе незыблемым идеалом, постоянной болью утраты и раскаяния.
Я к вам пишу случайно, право,
Не знаю как и для чего.
Я потерял уж это право.
И что скажу вам? – ничего!
Что помню вас? – но. Боже правый.
Вы это знаете давно;
И вам, конечно, всё равно.
И знать вам также нету нужды.
Где я? что я? в какой глуши?..
– Всё в жизни исправится, была бы жена красавица, – вздохнул где-то рядом в темноте Монго.
Лермонтов очнулся. Неужели Монго подслушал его мысли?
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Всю осень 1840 года Лермонтов провёл в военных скитаниях.
Однажды в Большой Чечне он прохаживался на виду завала. Редкие пули ещё свистели в вечереющем воздухе.
– Побереглись бы, – сказал пожилой офицер.
– Не много ли забот об одной-единственной жизни? – отозвался Лермонтов.
– Мальчишка, – проворчал офицер из числа старых кавказцев.
А Лермонтов подумал про себя с досадой: «Ответ глупейший, приличный Печорину, ей-ей». Когда он ловил себя на чертах, сходных с повадками своего героя, он ощущал повзрослевшим умом напыщенность и театральность этих выходок.
Кавказские Максим Максимычи, командиры Лермонтова всячески старались вывести его из-под огня. Его вставляли во все списки награждённых (награждённому полагался длительный отпуск), а царь вычёркивал: под пули, без поблажек!
Последние два года судьба словно включила ему метроном; время отщёлкивалось с неимоверной быстротой.
Десятого октября, после ранения Руфина Дорохова[70]70
...после ранения Руфина Дорохова... – Дорохов Руфин Иванович (1801 – 1852), сын героя Отечественной войны 1812 г. генерал-лейтенанта И. С. Дорохова. Воспитывался в Пажеском корпусе, служил в учебном карабинерском, Нижегородском драгунском и др. полках. За буйное поведение и участие в дуэлях неоднократно бывал разжалован в солдаты. Он походил на удальцов, воспетых Денисом Давыдовым. Некоторые черты Дорохова воспроизведены Л. Н. Толстым в образе Долохова из «Войны и мира». Дорохов писал стихи и пьесы, был знаком с А. С. Пушкиным. Знакомство его с Лермонтовым началось в 1840 г., когда они оба служили в отряде Галафеева, где Дорохов возглавлял команду «охотников». После ранения он передал эту команду под начало Лермонтова. Последние их встречи произошли летом 1841 г. в Пятигорске. Дорохов испытывал тёплые дружеские чувства к поэту. Был убит в сражении с горцами в Гойтинском ущелье.
[Закрыть], Лермонтов принял команду конных добровольцев-«охотников» и с интересом приглядывался к ним. Он Ощущал в них какую-то особую мудрость и всё хотел понять: в чём она? Это были одинокие размышления. Смешно же толковать с беспечным Монго, всегда и повсюду занятым лишь самим собою. Или с сорвиголовой Сержем Трубецким, обожавшим покрасоваться на виду товарищей под визгом пули. Или с мистически настроенным Карлом Ламбертом. Чтобы понять солдат, надо было находиться с ними изо дня в день, есть и спать рядом. Только тогда приоткрывалось их спокойное хладнокровие перед опасностью, умение поддержать друг друга, облегчить тяготы, не бегая от них, но принимая жизнь такою, как она дана. Доверяться жребию каждого дня.
Приняв начальство над несколькими десятками дороховских головорезов (так ещё величали их по-старому в отряде), Лермонтов очень скоро, как-то чрезвычайно естественно и просто перенял их обычай одеваться не по уставу, а кто во что горазд: то, что доставалось в награду или перепало после набега. Вместо русских смазных сапог с твёрдыми голенищами на многих были бесшумные чувяки – полусапожки из мягкой кожи, широкие горские шаровары, папахи со сбившейся в комки обвисшей бараньей шерстью. Из-под этих лохм особенно бедово и задиристо поблескивали глаза! Лермонтов, большой чистюля, теперь неделями не снимал канаусовой красной рубахи с косым воротом, сюртука без эполет, не застёгивал его на все пуговицы, а то и вовсе скидывал, довольствуясь буркой внаброску. Здоровый запах мужского пота мешался с веяньем привядших трав, с чадом походного солдатского варева из сухарей с салом. Сюда же прибивался кисловатый запах металла и пороха, дым костров. А всё вместе прогонялось сильным внезапным дуновением горного ветра, который подстерегал их из-за какого-нибудь уступа с быстротой чеченской пули.
Не знавший ранее бытовых забот о других людях, Лермонтов впервые столкнулся с постоянной недостачей провианта, с негодной амуницией, с откровенным казнокрадством начальства. А ему ведь надобно было обуть и накормить свою «банду». Он взялся за это со свойственной ему энергией.
Он был обычен внешне, но лишь при самом беглом взгляде, когда и тяжёлый неподвижный лермонтовский взгляд мог показаться кому-то «маленькими бегающими глазками». Немного хромал после падения с лошади ещё в училище. Но не был мешковат или связан в движениях. Напротив, ловок и силён физически, а мускульная сила – мускульная уверенность тела в самом себе – не могла не придать ему известного изящества.
Внутренняя жизнь Лермонтова продолжала оставаться неприметной для окружающих. Он беспрерывно вкапывался вглубь души, разрабатывал собственную личность, не оставляя незамеченной никакую малость, беспощадно подвергал себя анализу и суду.
Горная речушка, играя после недавних дождей, бежала с грохотом по камням, над нею вились дикие голуби. Они призывно гукали в зарослях алычи, и этот рыдающий звук изо дня в день сопровождал движение отряда.
«Лермонтовская банда» редко шла в общих рядах; охотники разведывали путь в сторону, рыща по зарослям и выглядывая притаившихся абреков.
Заросшие кустами и травой лощины, каменные ущелья, осеняемые цепью спокойных гор с далёкими снежными верхушками, неумолчное стрекотанье насекомых под ногами, свиристенье и щебет птиц над головой, наконец, глубокое синее небо, отдающее временами фиолетовым цветом, если смотреть из густой тени, – были не только красивы, но и удивительно соразмерны; ничто не выпячивалось, не резало глаз, но всё вместе складывалось в гармоничную картину.
Однако солдаты словно вовсе не чувствовали, а вернее, не сочувствовали этой красоте. Из окружающего они выбирали лишь то, что можно было повернуть смешной или неприятной стороной. Каменистая пыль, смешавшись с потом, разъедала лица, и они всласть бранили её. Доставалось колючим кустам акации и терновника. Насмешничали над бесполезной малостью кизиловых ягод, проклинали воду ледяных ручьёв, в которую боязно опустить натруженные ступни – разом зазнобит. Не нравились солдатам и чистенькие пустые сакли под плоскими крышами, окружённые садами. Красного петуха в аул подпускали без жалости, а с каким-то даже раздражённым удовлетворением, как казалось Лермонтову.
Он старался понять, что двигало этими хоть и удалыми в деле, но обычно спокойными, добродушными людьми, когда они принимались крушить чужое жильё? Откуда возникало немилосердное остервенение? Присуще ли оно человеку изначально или навязано самим словом «война»? На войне должно остервеняться, должно ненавидеть врага, презирать всё, чем он живёт, что в нём и вокруг него. Но тогда и величавый покой чуждой природы инстинктивно воспринимается как нечто опасное и враждебное?
– Что, брат, хороши места? – спросил он у рябого солдата, который служил уже лет пятнадцать и успел полностью проникнуться высокомерием бывалого служаки, который ценит на свете лишь воинское товарищество. С офицерами он неподобострастен, потому что знает себе цену, и готов хладнокровием и лихостью помериться с кем угодно.
– Что в них хорошего, ваше благородие? – с вежливой ленцой отозвался охотник. – Бесполезная земля: камень, сушь.
– Однако горцы здесь сады разводят, скот пасут, хлеб сеют.
Тот пренебрежительно выпятил нижнюю губу из-под щетинистого уса.
– Бабы в подолах землицы наносят – вот и поле ихнее. Смех и грех! Нет, ваше благородие, с Расеей им ни в чём не тягаться.
– А ты где служил все годы?
– Да на Капказе же. Я ныне капказец с головы до ног, – с непоследовательной хвастливостью добавил солдат. – А коли суждено, то и голову сложу здесь. Хоть вот под той деревой схороните, ваше благородие. – Он усмехнулся и указал на прекрасную раскидистую чинару, стоявшую поодаль. – Она меня от полдневного жара укроет, ветерком обмахнёт. Любо! – Взгляд охотника был уже не ёрнический, не пренебрежительный, а почти умилённый.
«Странно, как наша душа ухитряется жить в несоответствии с нашими же словами и поступками? – подумал Лермонтов. – Ведь этот солдат восхищен Кавказом, привязан к нему. Только не осознает этого. Может, так никогда и не поймёт, а будет только насмешничать и браниться? Но переведи его в Воронежскую губернию – затоскует».
Вслух же сказал:
– Не спеши в домовину, служивый. Бог даст, ещё поживём.
– Так точно, ваше благородие, – бодро отозвался солдат, суеверно смущённый собственными странными словами и спеша освободиться от их гнёта. – Повоюем с чеченцами за милую душу!
В первых числах ноября Лермонтов попал на два дня в Ставрополь и наконец-то встретился с Раевским.
– Дай карандаш, – сказал ещё от порога. – Пришли в голову две-три строчки для «Демона».
Раевский удивился.
– Так ты всё ещё пишешь его? Не пора ли проститься? Лермонтов пожал плечами.
– Ту жизнь, которой мы все живём, я не могу уважать. Готов кинуться куда угодно: в прошлое, в будущее, в глубину собственной фантазии, опуститься на дно морское, только вон из немытой России... знаешь? Таков отзыв о нас горцев. Бог весть, что они в него вкладывают? Для себя же я хочу только одного: побыстрее скинуть этот мундир. Служба стала для меня принудительна, как бесстенный каземат.
– Значит, ты уже не находишь выхода в храбрости офицера? – испытующе проговорил Раевский, стараясь проникнуть в друга, с которым их так надолго развело даже не само время, а то, что уместилось в нём. – А помнишь, – продолжал он с живостью, – твои же стихи? – И прочитал на память, запнувшись лишь на одном-двух словах:
Какие степи и моря
Оружию славян сопротивлялись?
И где веленью русского царя
Измена и вражда не покорялись?
Смирись, черкес! И Запад и Восток,
Быть может, скоро твой разделят рок.
Лермонтов рассмеялся, беззаботно блеснув чистыми ровными зубами. Махнул рукой.
– Это всё из мусорной корзинки, любезный друг! Выкинь и ты их из головы. Я прочитаю другие стихи, если хочешь. Но ты сказал храбриться? Противу кого? Я не охотник до барабанного просвещения в кавказских аулах.
– Ты упомянул о стихах, – напомнил Раевский, пожевав губами и не зная, как продолжить этот разговор
Лермонтов не стал чиниться. Без слова прочитал ему и «Пленного рыцаря» и «Валерик».
– Да-а... – протянул изумлённый Раевский, – твоя трещина с родовым сословием всё увеличивается. А ведь сколько сидят по своим поместным гнёздам бывших сочувственников! Озабочены единственно тем, чтоб вопреки холерам и недородам выколотить побольше дохода. Куда уж им фрондировать против властей; от тех одних можно получить воспомоществование, заложив и перезаложив хиреющее именьице! Да и труд крепостных хоть и плох, зато дёшев. Вот и держатся за него. Не до идеалов нынче! Недавняя история попрана и забыта.
– А знаешь, – сказал Лермонтов, вперяясь взглядом поверх головы друга. – Иногда я думаю, что у России вовсе нет прошедшего, она вся в настоящем и будущем.
– Мне, напротив, хочется собрать опыт предков, показать его как образец. Ведь простонародные песни – это не только сколок прежнего крестьянского быта, но плод лучших минут жизни, вдохновенность народа возвышенным! Эти песни способны усовестить тех, кто пребывает в невежественном бездействии. – Лицо Раевского по-былому осветилось воодушевлением. Он протянул руку Лермонтову, и тот поспешно пожал её. – Я вовсе не в обиде, что судьба закинула меня в Олонецкую губернию.
Русский эпос, подобно сагам, живёт там в неприкосновенности. Знал бы ты, сколько я записал похоронных и свадебных «воплей»! Они абсолютно самобытны, а вовсе не вышли из подражания греческим, как полагал Гнедич. «Плачи» – чисто русская, славянская форма поэзии. Достаточно взять древнейший плач Ярославны. Я так много постиг через них, углубился в народное бытие...
– Слава, – прервал его Лермонтов, как всегда при несогласии, покусывая нижнюю губу. – Опыт отцов мало что растолкует сыновьям. Отцы жили в убеждённости, будто история движется сама по себе. Волна несла их в назначенное; они не считали нужным ни к чему прилагать рук. Не проводишь ли ты умозрительную математическую проекцию, некую гармонию благополучия, которой не могло существовать в действительной жизни? Неужели таково действие перемены климата, что в Ставрополе и «вопли» убаюкивают? – сострил он.
– Мне непонятна твоя ирония, Мишель, – пробормотал Раевский, обижаясь.
Лермонтовские сарказмы ещё никогда не направлялись против него. Он начал прозревать: нет больше пылкого впечатлительного мальчика, младшего товарища. Есть зрелый, твёрдый в своих взглядах мужчина. Раевский смотрел на него с прежней любовью, но и с недоумением; он уже отчасти не понимал его.
– Разве ты стал отрицать важность исторической памяти?
– Да не то, Славушка! – Лермонтов назвал его ласковым именем, которое употребляла бабушка, любившая своего крестника. – Сама жизнь стала историей. Мы ею дышим, осязаем ежеминутно, она проницает нас насквозь. Пристраститься только к прошлому – не значит ли отвернуться от настоящего?
– Я так не думаю, – упрямо отозвался тот. – Поверь мне, никакое знание не уводит вспять. Тем более знание собственного народа. Прежде чем предлагать ему идеалы, не худо бы разведать: примет ли он их? Да и сами идеалы – не перевод ли с французского? Если они не связаны с экономическим и правовым бытием страны, то каков прок в них русскому человеку?
– Слава, прерви свои политико-экономические мечтания! Я толкую о прямом деле. Помнишь, ты говорил когда-то, что станешь ждать своего часа? И тогда не струсишь, не отступишь?
– Для меня этот час уже случился, Мишель.
На изумлённый взгляд Лермонтова он улыбнулся. Виднее стало время, иссёкшее лоб и углы его рта морщинами. Он покивал головой.
– Да, да. Я переписывал твои стихи о Пушкине. Бенкендорф назвал их воззванием к революции. Лучшего дела мне, может быть, уже не дождаться.
Настал черёд Лермонтова. Он нашёл руку товарища и крепко пожал.
Хлопотами бабушки и благодаря лестным отзывам Галафеева и Граббе Лермонтову был разрешён наконец двухмесячный отпуск. Он уезжал из Ставрополя в начале января 1841 года. Перед отъездом Павел Христофорович Граббе, бывший ермоловец, передал ему письмо, запечатанное личной печаткой.
– На словах передайте Алексею Петровичу, что по-прежнему его верные апшеронцы преследуют противника по горам, а нижегородцы не страшатся атак в дремучем лесу!
Лермонтов, щёлкнув шпорами, вышел. Пряча конверт за отворот шинели, живо обернулся; показалось, что за спиною с ветвей сорвалась стая птиц. Но это лишь ветер подкинул горсть омертвелых листьев. Здесь всё ещё длилась осень, а он тосковал по русской зиме, любимому времени года! По ледяным веерам на стёклах, по треску берёзовой охапки в пламени.
Суровый Граббе, повидав Лермонтова в деле, проникся к нему приязнью, приглашал к себе в дом. За обедом возвращался памятью к ермоловской поре, когда во всём царил порядок. Хотя в наказаниях Ермолов был не скор, говаривал: «По правилу моему надобно, чтобы самая крайность к тому понудила». О солдатах заботился более, чем о своих детях (у него было несколько сыновей от местных горянок; в православный брак не вступал, но сыновьям давал своё имя и отправлял в Петербург, в кадетский корпус). Солдаты при нём жили не в казармах, а полуоседло, обживали край. Получив в подарок от ханов, как у тех заведено, семь тысяч овец, передал их в солдатские артели – чтоб и мясо и полушубки! Многое на Кавказе начато дальновидностью Ермолова: первая газета в Грузии, госпитали в Пятигорске и Кисловодске, прокладка дорог, разработка руд. В глазах преданных ему людей он был честен и прям, хотя другие считали его человеком с «обманцем». Он и сам не скрывал, что готов слукавить для пользы дела...
Лермонтов разыскал Ермолова в Москве не на Пречистенке рядом с пожарной каланчой, как значилось на конверте, а в подмосковной усадьбе. Дорога оказалась не наезжена, полозья взрывали снежные комья.
– Не робей, друг мой, входи! Твой дядя куда как был смел, даже под пулями! – приговаривал Ермолов, встречая гостя.
Подобное подбадривание никак не могло относиться к Лермонтову. Тот переступил порог не потупившись, а, напротив, сам пристально рассматривая знаменитого старца.
Ермолову было уже под семьдесят. Но его легендарный рост не умерялся старческой сгорбленностью. Взлохмаченные седые волосы, некогда напоминавшие львиную гриву, тоже не пригладились и не поредели. Одет по-домашнему в стёганное ватой просторное платье, рода поддёвки.
Он хотел знать о сегодняшних делах Кавказского корпуса. Но когда Лермонтов заговорил, слушал рассеянно и, видимо, порывался скорее перейти к собственным воспоминаниям.
– Я неоднократно говаривал, даже и самому государю Александру Павловичу, что внутренние беспокойства горских народов имеют заразительный пример независимости для подданных империи. Покоряя Кавказ, я усмирял мятежный дух. Понимают ли это ныне на Кавказских линиях?
Лермонтов с деревянной интонацией ответил, что да, понимают.
Но Ермолов перескочил уже на другое. Он вспоминал Тифлис, в который въехал впервые в простой рогожной кибитке. Как мало он был похож тогда на европейский город! И сколько усилий требовалось, чтобы строить дома другого стиля, а самих грузин приохотить к выгодному производству шёлка и вина!
– Я немцев не жаловал, тому все свидетели. И в дворцовой зале не постеснялся спросить у генералов: «А что, дескать, господа, не говорит ли кто-нибудь из вас по-русски?» – Ермолов засмеялся с дребезжанием. Из глаза выдавилась слёзка: так приятно было воспоминание.
Лермонтов тоже усмехнулся, живо представив генеральскую толпу в орденах и лентах, вытянутые досадой лица.
– Однако, – продолжал Ермолов, – я не побрезговал поселить в Грузии пятьсот семей из Вюртемберга, чтобы те своим прилежанием показали пример хозяйственного порядка и довольства. Превыше всего для меня польза отечества! А наград не искал, видит Бог! Средства существования, хотя не роскошные, доставляла мне служба. И если желал, чтобы имя моё страхом стерегло наши границы крепче цепей, то лишь ради убережения сотен солдат от гибели, а тысяч мусульман от измены.
Он проницательно взглянул на сидящего перед ним офицера, скуластого, со смуглым кавказским загаром и какой-то противоборствующей думой на широком лбу.
– А ты, сударь мой, полюбил ли Кавказ? – внезапно спросил он. – Понял ли, что русский солдат не мёртвая сила? Доложу тебе: не видел ни одного казака, стреляющего попусту! Под сильным огнём неприятеля едет не иначе как самым малым шагом... Удалец к удальцу! Чай, помнят ещё Ермолова?
– Помнят, ваше превосходительство. Песни поют про прежнюю доблесть.
– Ну, ну. – Тот придвинулся поближе с живым интересом. – Скажи хоть одну.
Лермонтов, едва сдерживая ядовитость взгляда, пересказал куплет, который в самом деле слышал у костра:
Не орёл гуляет в ясных небесах,
Богатырь наш потешается в лесах...
С ним стрелою громовой мы упадём,
Всё разрушим, сокрушим и в прах сотрём.
– Ах, любо, славно, – пробормотал старик. – Снова кровь по-молодому стучит в сердце!
– Извольте другую послушать, – настойчиво сказал Лермонтов. – Чеченцы поют её слово в слово:
В леса беги, моя семья!
Беги, жена, бегите, дети!
Ермолов рать свою ведёт;
Но он в лесу вас не найдёт.
Спасенья нет родному краю...
Бегите, близок уж рассвет.
Меня убьют, я это знаю,
Ермолову преграды нет.
Но я никак моим врагам
Без боя сакли не отдам.
Голос Лермонтова поднимался всё выше и выше, пока не зазвенел звуком меди.
Ермолов первым отвёл глаза.
– Были и у них геройские молодцы. Помню Бей-Булата...
Лермонтов вновь прервал его:
– Вы спросили, ваше высокопревосходительство, люблю ли Кавказ? Отвечу с охотой – люблю. Но в его роскошную природу включаю исконных обитателей гор. И не скрою: глядя на снежные вершины, ощущаю порой стыд, как офицер и как русский.
Ермолов заёрзал и насупился.
– Это взгляд пиитический, – произнёс он с досадой, впервые давая понять, что отлично знает, кто перед ним. – Изволь, сударь, выслушать практический. Когда я объезжал Кавказские области, то вывел заключение, что под русским управлением они могли бы приносить доходов и выгод в десять раз больше, чем живя сами по себе. Да, мне выпало успокоить эту цветущую окраину государства, вырвать её из рук алчных азиатских деспотов, чтобы поставить на путь мирного развития. Разве в этом нет правоты?






