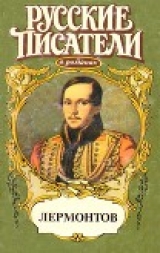
Текст книги "Лермонтов"
Автор книги: Лидия Обухова
Соавторы: Александр Титов
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 38 страниц)
И, прикрыв ладонью глаза, он так же громко и зычно дочитал стихи до конца:
Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснётся,
Душа поэта встрепенётся,
Как пробудившийся орёл.
........................................
Бежит он, дикий и суровый,
И звуков, и смятенья полн,
На берега пустынных волн,
В широкодумные дубровы...
Будто чему-то удивляясь – не то пушкинским стихам, не то своим собственным словам, – Белинский заговорил, разводя руками:
– Место художника в обществе, истоки его вдохновенья, даже его причудливость и странность – всё это заключено в немногих строках. Но сколько веков мы ждали этих строк!..
Лермонтов, молча слушавший гостя, случайно отвёл взгляд и увидел в окне соседку, которая наконец появилась и даже, как ему показалось, стоя у самого окна, делала какие-то знаки. Лермонтов ничего не мог ей ответить и остался на месте: обычная пантомима была бы по меньшей мере неуместна в присутствии Белинского, да и Лермонтов с удивлением поймал себя на том, что беседа этого человека становится ему интересной, а поведение чиновничьей дочки впервые представилось тем, чем оно и было на самом деле, – пустеньким кокетством.
Правда, Белинский, как заметил Лермонтов, излишне был склонен к преувеличениям. Например, сейчас он явно переборщил, сказав, будто простую мысль, заключённую в пушкинском стихотворении, кто-то ждал целые века. И до этого – что-то про Шлегеля... Ах да, что Шлегель, дескать, сделал из Шекспира сборник цитат.
Но это не казалось Лермонтову очень уж большим недостатком. Скорее, это было похоже на излишнюю норовистость резвого коня: держи его крепче на трензелях, и всё будет ладно...
– Так, возвращаясь к книжке Кенига, – услышал Лермонтов уже обычный тихий голос Белинского, – я сказал бы, что строчки Пушкина, которые я вам напомнил, Кениг вполне мог бы взять эпиграфом к своему роману.
– Если, конечно, рецензент ничего не искажает, – добавил Лермонтов.
– Ну, разумеется, – поспешно согласился Белинский. – Тем более что, насколько я знаю Януария, на такое искажение у него не хватило бы изобретательности...
Постучав в дверь и не дожидаясь разрешения, вошёл истопник – отставной солдат, высокий тощий старик в затасканной форменной бескозырке и в дерюжном фартуке поверх вытертого мундира. Стараясь не глядеть на господ, он, шаркая, прошёл к печке, пошуровал кочергой уже погасшие уголья и звонко захлопал вьюшками.
– Боже мой! Я совсем утратил представление о времени и о приличиях, – взглянув на часы, засуетился Белинский. – О книгах, конечно, можно говорить круглые сутки, но нужно же и честь знать...
Он с видимой неохотой стал подниматься.
– Вам придётся немного подождать, Виссарион Григорьевич, – остановил его Лермонтов. – Нужно вызвать разводящего, чтобы он провёл вас мимо постов.
Белинский, не скрывая радости, снова опустился в кресло, а Лермонтов послал истопника в караульное помещение за разводящим.
– Ей-же-ей, Михал Юрьич, занятнейшая штука-жизнь, как бы банально это ни звучало, – мечтательно расширив немигающие светлые глаза, сказал Белинский. – Как теперь, вижу вас на лекции Гарвея по английской литературе... Вы всегда сидели у окна, за первым столом, и аккуратно писали, что было дьявольски нелегко: ведь Гарвей забывался и минут по пятнадцать шпарил прямо по-английски, без единого нашинского словечка, будто дело происходило не в Москве, а где-нибудь в Оксфорде. Я, грешный, сперва в отчаяние приходил, а потом просто бросил всякие попытки писать за ним... Ну а Гарвея хоть помните? – тихо, со странной робостью спросил он.
– Помню, – помолчав, ответил Лермонтов. – И Неверова вспомнил. Действительно, рыжий. И был любимчиком у немца Кистера.
– Ну-ну! – поощряюще кивая головой, подхватил Белинский, – Ну конечно же!.. – И не совсем кстати, но горячо и с чувством добавил: – А ведь в самом деле очень верно сказано: «От головы до пяток на всех московских есть особый отпечаток!..»
Он хотел сказать или спросить ещё что-то, что, как чувствовал Лермонтов, было важно или, во всяком случае, интересно ему, Белинскому, но в дверь опять постучали. Белинский досадливо поморщился.
– Да! – возвысив голос, произнёс Лермонтов.
На пороге смущённо остановился Гудович.
– Мне доложили, что надобно проводить вашего гостя, Михайла Юрьич, – картаво сказал он и нерешительно прошёл в комнату.
Пока Белинский с преувеличенно серьёзным видом надевал доху, Гудович длинно и сбивчиво рассказывал Лермонтову о том, что он куда-то услал разводящего и только, дескать, поэтому сам поведёт теперь господина Белинского мимо постов. Лермонтов, давно угадавший, что графчик сгорает от любопытства, снисходительно кивал, посмеиваясь про себя над ним, а заодно и над Белинским, который, не зная военных порядков, видел в Гудовиче чуть ли не тюремщика и заметно побаивался его.
Когда они прощались, Лермонтову вновь показалось, что Белинский мучительно борется с желанием ещё что-то сказать ему. Но Белинский так ничего и не сказал; пожав Лермонтову руку, он только взглянул на него своими ясными глазами, неразборчиво что-то пробормотал про себя и вслед за Гудовичем вышел из комнаты.
15
Осенью 1839 года черкесские племена, населявшие восточное побережье Чёрного моря, отбросив наконец страх и лукавые попытки обмануть друг друга, объединились под властью убыхского старшины Хаджи-Берзека для совместной борьбы с русскими. Момент выпал благоприятный: основные силы русских прочно завязли в Чечне и Дагестане, где они с сомнительным успехом действовали против имама Шамиля; но ещё важнее было то, что сам падишах, повелитель правоверных и естественный защитник ислама, торжественно обещал черкесам свою помощь.
Такое же обещание прислала и далёкая белая властительница, правившая где-то за морями. Через своего вестника, чьё имя – Джеймс Белл – равно не похоже было ни на черкесское, ни на чеченское, ни даже на русское, она передала черкесам подарок – «санджак независимости», шёлковое знамя зелёного цвета, символизирующее надежду, свободу и священную ненависть к русским.
Черкесы были польщены вниманием далёкой властительницы, о которой до сих пор не имели ни малейшего понятия, а обещание падишаха приняли с восторгом: оно вновь разбудило в них гордую мечту навсегда избавить родную землю от неверных. За какую-нибудь неделю Хаджи-Берзек получил в своё распоряжение сорок тысяч бойцов. Лучшим из них он приказал раздать дальнобойные нарезные ружья Ремингтона – тоже подарок заморской властительницы.
В Тифлисе, в штабе командующего Отдельным Кавказским корпусом, генерала от инфантерии Головина, ничего об этих событиях не знали.
А в феврале следующего, 1840 года Хаджи-Берзек неожиданным ночным нападением овладел фортом Лазаревским, вырезал его гарнизон и создал угрозу Ольгинскому тет-де-пону, прикрывавшему мостовую переправу через Кубань.
Едва эта весть дошла до Тифлисского штаба, как судьбу форта Лазаревского разделил другой форт – Вельяминовский. Здесь гарнизон тоже был вырезан до единого человека.
И только форт Головинский, к которому Хаджи-Берзек подступил уже в марте, сумел устоять, несмотря на подавляющее численное превосходство противника: туда морем, на паровом судне «Могучий», было подброшено подкрепление. И хотя оно было незначительное – всего одна рота Тенгинского пехотного полка, – самого этого факта оказалось достаточно: черкесы не только не решились на штурм, но и сняли осаду...
В форте Михайловском, построенном на сравнительно узком водоразделе речек Джубги и Вулана, всего в какой-нибудь полуверсте от моря, о падении Лазаревского и Вельяминовского фортов узнали от лазутчиков. Лазутчики эти, хотя и получавшие богатые подарки от русских генералов, были народ ненадёжный, и потому михайловский комендант, штабс-капитан пятого Черноморского батальона Лико, поверил им не сразу. Правда, из-за отсутствия дорог связи по сухопутью между фортами Черноморской береговой линии не было, но комендант рассчитывал, что достоверные известия о соседях он получит от военных моряков, доставлявших в форты продовольствие и боевые припасы. Через моряков же, если мрачные известия подтвердятся, можно будет запросить и подкрепления.
Однако транспорт, на котором Лико надеялся, кроме того, отправить в Анапу на излечение в тамошние госпитали около сотни больных болотной лихорадкой солдат, не приходил. А в ночь с четырнадцатого на пятнадцатое марта в Михайловском вновь появился лазутчик.
Как всегда, он выбрал ночь тёмную и бурную. Часовой, укрытый в туре над самой головой лазутчика, даже и не догадался бы о его присутствии, если бы не забеспокоился сторожевой пёс.
Из-под тура вынырнула тень, и гортанный голос крикнул из темноты:
– Урус, давай капитана! Сильна нада!..
Стараясь выдержать равные промежутки времени, часовой три раза ударил в колокол. Это был сигнал для вызова разводящего унтер-офицера. Немного подождав, он повторил сигнал и стал всматриваться в темноту, ожидая появления разводящего.
Часовой на соседнем туре, услышав звон колокола, отозвался заунывным и протяжным возгласом: «Слу-у-шай!» – и этот возглас медленно покатился в темноту, переходя с фаса на фас[129]129
Фас– прямолинейный участок крепостной стены.
[Закрыть]. Послышалось хлюпанье луж под чьими-то ногами, и часовой, подававший сигнал, различил едва угадываемые в чёрной мгле силуэты – разводящего и одного из солдат бодрствующей смены.
– Эй, Бородулин, ты, что ль, звонил? – крикнул заспанным голосом разводящий.
– Я и есть! – отвечал часовой. – Тут, вишь, гололобый объявился за валом. Лазутчик, должно...
Горец, услышавший голоса на валу, нетерпеливо крикнул снизу:
– Капитана, капитана давай! Моя ждать нет!..
Разводящий по шатким ступенькам поднялся в тур и, отогнав от бойницы пса, высунулся в неё сам и, не стараясь разглядеть в темноте горца, прокричал:
– Иди к воротам! Понял? Иди к воротам!
Разводящий и часовой увидели, как мелькнула и сразу же растворилась в окружающей черноте какая-то тень, и по звуку шагов поняли, что лазутчик направился к крепостным воротам, которые были обращены к берегу Булана.
Разводящий подбежал к гауптвахте, чтобы доложить о прибытии лазутчика дежурному офицеру. Дежурный, прапорщик Навагинского пехотного полка Симборский, узнав, в чём дело, тоже бегом кинулся по невидимым лужам к офицерскому флигелю за комендантом.
Штабс-капитан Лико, сопровождаемый прапорщиком Симборским и поручиком пятого Черноморского батальона Безносовым, встретил лазутчика у ворот. Охранявшие их солдаты, светя тусклыми фонарями, долго возились в темноте, отодвигая один за другим тяжёлые засовы, и, когда одна створка отошла настолько, чтобы пропустить человека, в ворота бесшумно проскользнул горец, лицо которого было закрыто башлыком.
Керченский грек родом и старый кавказский служака, Лико свободно говорил по-черкесски и по-чеченски. Он что-то отрывисто и как бы сердито спросил у горца и, получив ответ уже на ходу, повёл его к себе, не обращая больше внимания на сопровождавших его офицеров.
Лазутчик пробыл у капитана долго. Только перед самым рассветом он покинул укрепление. Провожал его опять сам Лико, – на этот раз уже один, – и караульные солдаты успели заметить, что комендант, самый спокойный из всех офицеров крепости, был чем-то сильно взволнован, хотя и старался держаться как обычно.
День после этой бурной ночи выдался пасмурный. Ветер – ледяной северо-восточный бора, который солдаты называли «Ббрей», – не стихал, и рваные тёмные облака стаями неслись из-за тускло черневших гор. Дождя уже не было, но во всех куртинах стояли огромные жёлто-зелёные лужи, накопившиеся за несколько дождливых дней и ночей.
С утра все офицеры, кроме дежурного, прапорщика Симборского, собрались у коменданта, но солдаты, оставленные на унтеров и, следовательно, получившие некоторую свободу действий, не покидали казарм из-за ненастья.
О ночном посещении лазутчика все уже знали от караульных и даже догадывались о цели этого посещения.
В длинном и узком, как гроб, бараке – самом большом в крепости, – где размещались две роты пятого Черноморского линейного батальона и рота Тенгинского пехотного полка, было особенно тесно и многолюдно. Не привыкшие к безделью солдаты не знали, куда себя деть. Одни вяло бродили между низких нар, расположенных двумя рядами вдоль противоположных стен, другие, сидя или даже лежа, вопреки уставным правилам, на нарах, лениво переговаривались. Третьи – большей частью недавно переведённые из России, – воспользовавшись свободным временем, совершали туалет: взяв в рот короткую верёвку и завязав её узелком на затылке, брились. Волосы выше верёвки оставлялись и превращались в бакенбарды, ниже – сбривались.
Из того конца барака, который занимали черноморцы, слышалась негромкая песня:
Чорна хмара наступав,
Лыбонь дощык будэ...
Вже ж нашого Запориззя
До вику нэ будэ.
Бо царыця, маты наша,
Напасть напустыда,
Славно вийско запоризько
Тай занапастыла...
Молодой солдат-тенгинец, лежавший подперев круглую стриженую голову рукой и задумчиво слушавший песню, вдруг спросил, ни к кому не обращаясь:
– А что, братцы, коли здешняя татарва и впрямь полезет на нас?
Сосед молодого тенгинца, плотный, щекастый здоровяк лет за тридцать, рывшийся в деревянном, грубо выкрашенном охрой солдатском сундучке, который он держал на коленях, медленно обернулся и, осмотрев новобранца с видом превосходства, ответил:
– Ни в жисть! Он не мастак супротив крепостев. Вот в лесах аль в горах – другое дело...
«Он» – это «басурман», противник, постоянное и самое распространённое слово, которым кавказские солдаты обозначали немирных горцев.
Довод соседа, хотя и высказанный в столь решительной форме, не убедил молодого солдата. Немного подумав, он снова спросил, явно желая услышать ещё чьё-нибудь мнение:
– Ну а ежели всё-таки он полезет? Мы-то сдюжим?
– Во чудило! – быстро подняв голову с жёсткой соломенной подушки и усаживаясь на нарах, громко сказал другой молодой солдат, широколицый, с крупными веснушками, густо осыпавшими его нос, щёки и даже лоб. – Куда ж ему супротив наших стен да пушек-то?
– Про то и говорится, – значительно подтвердил щекастый солдат с сундучком.
– Много вы оба знаете! – отмахнулся молодой тенгинец, задавший вопрос. – Послушали бы, что старики скажут... Дяденька Терехин, – обратился он к загорелому бритоголовому солдату с сивыми усами, с равнодушным видом сидевшему на узкой лавочке, вплотную прилегавшей к нарам, – а как ты располагаешь? Выдюжим мы против татарвы?
Терехин загадочно улыбнулся и медленно ответил:
– Про то положено знать господам офицерам, а не нам, грешным... А уж коли на то пошло, то и они не знают, да и сам комендант не знает... Да что комендант! Сам, поди, генерал Головин, что в Тифлизе на́больший, и тот не знает. Басурманы, они тоже народ отчаянный, драться умеют. Такие нонеча времена пошли... Такие уж времена, что и не приведи Господь... – повторил он и замолчал.
Этот неопределённый ответ удручающе подействовал на обоих молодых солдат. Они невольно обменялись быстрыми взглядами, в которых затаился страх, а веснушчатый даже шумно вздохнул и снова положил голову на подушку. Солдат с сундучком смешался и опять принялся перебирать его содержимое.
Погрузившийся было снова в своё равнодушное молчание, Терехин неожиданно оживился.
– А вот в прежнее-то время, – вдруг сказал он, хлопнув себя по костлявому колену, – в прежнее время было иначе. При Ермолове, Алексее Петровиче, всяк понимал свой манёвр – и офицер и солдат. А уж против татарвы, да ещё сидя в крепости, беспременно бы выдюжили... А не выдюжили, так хитростью взяли бы!.. Помню, в двадцать девятом ходили мы с Алексей Петровичем под турку, под самую что ни на есть сильную крепость в Туретчине – Арзрум. Пришли и стали лагерем под стенами – штурмовать-то сразу нельзя было: неизвестно, как там и что... Ну – стоим, костры жжём, пластуны поют вот так же, – Терехин кивнул вглубь барака, где всё ещё пели черноморцы, – да и песня, кажись, была та же: про чёрную хмару...
– Дяденька Терехин, – прервал сивоусого молодой тенгинец, – а фельдфебель Комлев сказывал намедни, будто под Арзрум с Паскевичем ходили, а не с Ермоловым...
– Э-эх, деревня-матка, – с сердцем сказал Терехин, – всюду нос сунут!.. Ну что вы с вашим Комлевым видели – даром, что он фельдфебель!
Солдаты, заинтересованные началом рассказа и успевшие собраться в кружок, с неудовольствием зашикали на молодого тенгинца. Тот конфузливо заёрзал на своём тюфяке и пробормотал:
– Да я не от себя говорю, братцы, так фельдфебель сказывал...
Терехин оглядел слушателей и, убедившись, что выпад новобранца не поколебал их доверия к рассказу, успокоенно сказал:
– То-то, что не от себя... Впредь слушай, да держи язык за зубами...
Он немного помолчал, не то ловя ускользнувшую было нить рассказа, не то ожидая поощрения, и, наморщив бронзовый лоб и сдвинув густые и такие же сивые, как усы, брови, продолжал:
– Да, так вот: стали мы под Арзрумом и стоим. Штурмовать-то Арзрум сразу нельзя было, – озабоченным тоном сказал он, сделал короткую паузу, как бы размышляя, и тут же ворчливо сам себя опроверг: – Оно конечно, может быть, и можно было, да Алексей-то Петрович берёг солдата, не гнал его в пекло ради лишней звезды али ленты на пузо, как нонешние генералы...
Терехин вдруг повернулся в сторону молодого тенгинца и, шумно ударив себя руками по коленям, выкрикнул:
– Ермолов, Алексей Петрович, с нами под Арзрумом был, а не твой Паскевич!
Слушателей этот жест убедил окончательно, и Терехин, отметя таким образом возможную помеху, приступил наконец к главной части своего рассказа.
– А у него, у турки-то, всем войском командовал самый главный генерал, сераскир по-ихнему. И напужался же тогда этот сераскир нашего Алексей Петровича! А только тоже хитёр был турка – виду не подавал. Куды там! Грамотку этакую нахальную написал и в наш лагерь под белым флажком прислал с офицером ихним...
– А в грамотке-то что было, дяденька? – спросил, подняв голову, щекастый солдат с сундучком.
– В грамотке-то? – уже не сердясь, что его перебивают и добродушно сверкнув глазами, переспросил Терехин. – А вот слухай!..
В это время у входа в барак раздался какой-то шум, напоминавший не то возню, не то беготню, и туда опрометью, обегая встречных и придерживая болтавшийся у пояса тесак, устремился дневальный, оставивший пост, чтобы послушать рассказ вместе со всеми.
Едва он успел занять своё место у дверей, как оттуда донёсся хриплый тенорок пластунского есаула:
– Черноморцы! Выходи на построение!
Почти сразу же появился и фельдфебель Комлев, который, молодцевато потанцевав у дверей и что-то досадливо буркнув дневальному, резким и отрывистым криком вызвал из барака тенгинцев.
– Ну, делу время, братцы, ничего не попишешь! – без раздражения сказал Терехин и, взяв с нар сложенную конвертом шинель, встряхнул её за воротник и стал надевать.
Его слушатели, недовольно кряхтя и поругиваясь, расходились по местам, надевали амуницию, разбирали из пирамид ружья и, смешиваясь в дверях с казаками-пластунами, по скрипучим деревянным ступенькам сбегали на грязный крепостной плац. Подталкивая друг друга и перепрыгивая через мутно-зелёные лужи, солдаты бежали на середину плаца и становились на привычные места.
– Дяденька Терехин! А как же Арзрум-то? Взяли? – громко, через три шеренги, шепча, спросил солдат с рыжими бакенбардами, только что стоявший дневальным.
– Знамо дело – взяли! – не рассчитав, почти в полный голос, горделиво ответил Терехин. – И без единого выстрела. Обрядились в парадные мундиры, развернули знамёна – и с музыкой марш в город!..
На краю плаца, у гауптвахты, такой же низенькой и серой, как солдатские бараки, кучкой сбились офицеры, наблюдая за построением.
– Терехин! Ты-то, старый, с чего разговорился в строю? – послышался оттуда скорее удивлённый, чем гневный голос командира взвода прапорщика Гаевского.
Терехин виновато вздрогнул и, коротко оглянувшись на правофлангового своей шеренги, замер, не дожидаясь команды...
Обойдя суетившихся пехотинцев, правый фланг заняли остатки двух взводов одиннадцатой гарнизонной артиллерийской бригады во главе с прапорщиком Ермоловым, о котором ходили слухи, будто он был сын прославленного кавказского героя и какой-то горянки – не то черкешенки, не то чеченки. Других офицеров у артиллеристов не было, так как личный состав бригады, долго действовавшей в нездоровой прибрежной местности, понёс большие потери от болотной лихорадки.
Немного отступя от артиллеристов, построились вторая и третья роты пятого Черноморского линейного батальона, сформированного из пеших казаков-пластунов. Численность этих рот тоже составляла лишь половину штатной, а офицеров налицо было только двое: сам комендант, штабс-капитан Лико, и поручик Безносов. Был ещё лекарь Самович, который, оставив больных на санитаров, добровольно вызвался помогать офицерам. Впрочем, раза два в день он появлялся и в лазарете, но вид изнурённых лихорадкой людей так угнетал его, что он вскоре же снова уходил, предписав выдать больным очередную дозу «рубанца», как солдаты называли mixtura roborans – средство от лихорадки.
За пластунами стояла девятая мушкетёрская рота Тенгинского пехотного полка, которой командовал подпоручик Краумзгольд, при субалтернах[130]130
Субалтерн – младший офицер.
[Закрыть] прапорщике Гаевском и подпрапорщике Корецком. Волей-неволей офицерские обязанности исполнял и недавно получивший нашивки фельдфебель Комлев.
Строй замыкала шестая рота Навагинского пехотного полка. Навагинцам, прибывшим в укрепление Михайловское последними, повезло больше других: они имели в своих рядах троих офицеров – поручика Тимченко и прапорщиков Смирнова и Симборского, который, впрочем, будучи дежурным, на построении отсутствовал.
Когда наконец утихла суета, всегда сопровождающая построение, и смолкла ругань унтеров, офицеры, не торопясь, с хмурыми, сосредоточенными лицами заняли свои места в строю. Лекарь Самович, соблюдая важность, тоже стал на правом фланге третьей роты пластунов.
Поручик Безносов, исполнявший должность помощника коменданта, приблизился к середине фронта и, глубоким вздохом набрав в лёгкие воздуху, громко и заливисто скомандовал, налегая за звук «р»:
– Гар-рнизон, смир-рно! Господа офицеры!
Из дверей низенького офицерского флигеля вышел комендант Лико и, не соблюдая никаких предписаний воинского этикета и даже не придерживая, как это делали все, шашки, бившей его по левой ноге, мелко семеня, пошёл через покрытый лужами плац к строю.
Увидев начальника, поручик Безносов, снова глубоко вдохнув воздух, сделал два или три шага назад, чтобы лучше видеть строй, и опять громко скомандовал:
– Глаза налево! Смотреть веселей!
Плотно прижав шашку к левому боку, бренча длинными пехотными шпорами и разбрызгивая грязь, он деревянно пошёл вдоль фронта навстречу коменданту, который ещё издали делал ему знаки рукой, что рапорта не нужно. Безносов, по-видимому, не понял этих знаков и уже произнёс было первые слова рапорта, но Лико, подойдя, рассеянно и с оттенком досады в голосе сказал:
– Подайте же вольно!
Когда Безносов исполнил приказание, Лико, не повышая голоса, гортанно проговорил:
– Здорово, ребята!
Солдаты ответили нестройно, но дружно. Комендант, медленно и изредка останавливаясь, прошёлся вдоль строя, вглядываясь в лица солдат, потом вернулся на прежнее место и, полуоборотясь, заговорил, только теперь слегка возвысив голос:
– Ребята! Война, которую мы с вами ведём, чтобы усмирить здешних мятежников, принимает новый оборот: черкесы восточного побережья до сих пор только мешали нам, когда, выполняя приказ, мы заходили в их земли. Теперь же, подговорённые турками и Шамилем, они сами коварно напали на нас. Тому будет уж больше месяца, как черкесы, имея предводителем убыхского старшину Хаджи-Берзека, взяли укрепления Лазаревское и Вельяминовское. Все защитники этих укреплений погибли... Вечная память воинам, честно исполнившим свой долг перед государем и родиной!..
Произнеся последние слова тихо, хотя и внятно, комендант снял белую холщовую фуражку и, переложив её в левую руку, перекрестился широким крестом и медленно склонил голову, уставившись неподвижным взглядом в землю.
Молча простояв так несколько мгновений, штабс-капитан снова поднял свою крупную черноволосую голову, надел фуражку и, опять только немного возвысив голос, сказал:
– После неудачного нападения на форт Головинский, от которого мятежники отступили с большим уроном, они попытаются атаковать нас.
– Встретим их так же, как головинцы, а если не хватит сил – умрём, но не опозорим ни имени русского, ни знамени, которому служим! Так ли, ребята? – снова обратился он к строю.
– Так! Истинно так, вашблаародь! Урра! – мощно и теперь уже стройно прокатилось по рядам солдат.
На смуглом морщинистом лице коменданта появилась улыбка.
– Теперь вы знаете главное, ребята! – окрепшим и уверенным голосом крикнул он в солдатские ряды. – Дальнейшие мои приказания вы получите от своих офицеров!..
Лико что-то тихо сказал поручику Безносову и, опустив голову, задумчиво побрёл к офицерскому флигелю, как и прежде не разбирая дороги и шагая по жёлто-зелёным лужам. Поручик Безносов громко приказал, чтобы люди занесли оружие в бараки и возвращались на плац.
– Зачем же мы тогда их строили с оружием? – недовольно проворчал вполголоса молоденький прапорщик Гаевский, оглядываясь на свой взвод.
– Забыли вас спросить, господин прапорщик! – неприязненно ответил за Безносова подпоручик Краумзгольд, и слух Гаевского резанул его нерусский акцент, которого Гаевский раньше не замечал.
– Разумеется! – вызывающе громко сказал он, не зная, что сказать, но Краумзгольд уже отошёл и не слышал его...
Солдаты работали весь день, дотемна. Как было решено на совете у коменданта, чтобы сократить линию обороны (это было необходимо ввиду малочисленности гарнизона), укрепление в самом узком месте перегородили завалом из брёвен, тёса и громадных дубовых бочек, крепко вонявших кислой капустой и солониной. В завале проделали амбразуру для орудия, снятого с бастиона в отгороженной южной куртине; остальные орудия в этой куртине артиллеристы заклепали, чтобы их, в случае чего, не могли использовать горцы.
Работа шла дружно, быстро, унтерам и офицерам никого не приходилось подгонять, но той ловкости, которая появляется у людей, когда они делают близкое их душе, любимое дело, не было. Никто не шутил, не смеялся; лица были серьёзны, беспокойно хмуры.
Большинство тенгинцев – три взвода из четырёх – работали на устройстве завала. Здесь был и старый Терехин, рассказывавший об Ермолове, и почти все его слушатели: веснушчатый рекрут, который больше всех боялся «татарвы», солдат, разбиравший сундучок, добродушный силач Пиня Рухман. По общему молчаливому уговору самые большие тяжести доставались Пине и другому «большаку», Архипу Осипову, широкогрудому детине с воловьей шеей и могучими цепкими руками.
– Берись-ка, Пётр! – подходя вместе с Пиней к неокоренному и не просохшему ещё дубовому стволу, говорил Архип, который, как видно, считал настоящее Пинино имя несерьёзным. – Раз! Два! Взяли!
Захватив с комля и с вершины каменно-тяжёлый ствол, они, громко и в лад крякнув, закидывали его на плечи и несли, провожаемые завистливо-одобрительными взглядами...
К Гаевскому подошёл Краумзгольд и без всякой начальственности, почти кротко, хотя и своим обычным бесцветным голосом и с тем же акцентом, попросил его пойти присмотреть за работами в центре северного бастиона, обращённого к горам. Там взвод пластунов, под командой лекаря Самовича, исправлял осыпавшийся бруствер и углублял ров.
Гаевский вздрогнул и порозовел, ощутив мгновенную необъяснимую жалость, чуть ли не нежность к этому белёсому скучному человеку, который в свои двадцать семь лет был точь-в-точь как сорокалетний бобыль, ничего уже не ждущий от жизни. Через несколько дней он, может быть, умрёт, так и не припомнив перед смертью ни одного светлого мига...
И хотя Гаевский только что сердито возмущался равнодушием «этого немчуры», который ни слова не возразил поручику Безносову, когда тот, будто нарочно, отделил от роты беспомощного Самовича, ему вдруг захотелось сказать Краумзгольду что-нибудь хорошее, идущее от души. Но, подавив в себе это желание, он молча откозырял и пошёл на северный бастион. По пути, машинально перепрыгивая через брёвна и фашины, вокруг которых суетились пластуны и навагинцы, Гаевский растроганно думал о том, что Краумзгольд дал ему это поручение только затем, чтобы иметь предлог заговорить с ним...
На полукруглой глинистой площадке, обнесённой невысокой стеной из сырцового кирпича, двое или трое артиллеристов чистили орудие. За стеной, на валу, стоял лекарь Самович, глядя вниз, в ров, где работали пластуны. Гаевский поднялся на площадку, прошёл боком мимо артиллеристов, едва не опрокинув ведро со щёлочью, и через орудийную амбразуру вылез к Самовичу.
– А! Это вы? Здравствуйте! – некстати сказал Самович, уже много раз в течение дня видевшийся с Гаевским.
Глаза у него были потухшие, плечи под узкими чиновничьими погонами обвисли.
«И этот же... и этот умрёт», – снова ощутив ту же острую жалость, подумал Гаевский и нарочито буднично и грубовато спросил:
– Ну, как тут у вас?
И, не слушая, что скажет Самович, взглянул вниз. Стоя в воде – прямо в сапогах, чтобы не простудиться, – пластуны обрывали лопатами берег рва, обмелевшего, несмотря на частые сильные дожди. Обрытую землю вычерпывали вёдрами и выплёскивали к подножию вала, у самой воды. Чуть пониже гребня, стоя на корточках, несколько пластунов забивали в доски длинные толстые гвозди – делали «ежи» – и тоже укладывали их у подножия вала, против тех мест, где ров особенно мелок. И вал, и ров, и эти доски с гвоздями не могли создать серьёзного препятствия в случае штурма и казались Гаевскому безобидными принадлежностями мальчишеской игры. Он вздохнул и покачал головой.
– Ведь это всё-таки кое-что да значит – как вы считаете? – спросил Самович, не заметивший или не понявший этого жеста.
– Ну конечно же! – преувеличенно бодро ответил Гаевский, желая его успокоить, и, ещё раз взглянув на копошившихся во рву пластунов, подумал: «И они тоже...»
Гаевский вернулся на площадку, где артиллеристы всё ещё чистили орудие, и по висячему тесовому настилу, уложенному на высокие бревенчатые опоры, пошёл посмотреть, окончена ли расчистка ружейных бойниц в стене и в турах. На этом фасе, от орудийной площадки до западного бастиона, обращённого к Вулану, работало отделение того же взвода под командованием урядника Загайного.






