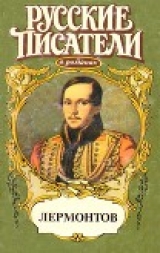
Текст книги "Лермонтов"
Автор книги: Лидия Обухова
Соавторы: Александр Титов
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 38 страниц)
...Варенька? Ну конечно же Варенька! Мадемуазель Барб её можно назвать только осердясь.
Её кожа продолжала светиться румянцем, как фарфоровый колпачок над пламенем свечи, но глаза даже при улыбке казались ему грустными.
Она несмело протянула руку, он слегка пожал – и это было как тайное обручение.
Потом он встречал её уже всякий день; первое волнение исчезло, словно начисто позабылось. Приятно следить за её движениями: так летит птица или гнётся дерево.
Но и только...
Он был так ещё молод! Целый мир заполнял его, и для новой любви пока не освобождалось местечка.
Лермонтов чувствовал всю жизнь привязанность и благодарность к старшей из сестёр Лопухиных – разумной, сдержанной и благожелательной Марии, которая на много лет стала его конфиденткой. В её письмах он находил всегда лишь то, что хотел найти: участие и благие пожелания без навязывания советов или опасной проницательности. Это была сердечная, но и поверхностная дружба. Внутренний мир Марии Лопухиной, тогда уже вполне взрослой и не очень счастливой горбатой девушки, задержавшейся в родительском дому надолго, остался юному Лермонтову чужим. Чрезмерно впечатлительный, пылкий мальчик, он был полностью занят собственными страстями. Отношение Марии Лопухиной ко всей этой молодёжи – соседу Мишелю, брату Алёше и сестре Варе – было поневоле материнским: они нуждались в ней как в «копилке секретов». Разница всего в несколько лет словно давала им право на бессознательный эгоизм. С приятелями мужского пола, старшими его более значительно, Лермонтов обходился как с ровнями. Марии Лопухиной он отказывал в этой привилегии, бессознательно проявляя известную чёрствость к своему многолетнему другу.
Варенька была существом совсем другого рода. Не отягощённая ни заботами, ни обязанностями по дому, она любила бродить по саду с полуоткрытой книгой, могла подолгу сидеть в уголке широкого дивана, зябко закутавшись в пуховую шаль. Её полуопущенные веки, тёмно-коричневые, словно от бессонницы или скрытых слёз, наводили на мысль о некоей загадочности... Словно она и молчала неспроста, и внимала ему из своего диванного уголка недаром. Она казалась постоянно бледной, потому что никогда не выходила на воздух без шляпки и зонтика. Ручки у неё были слабые, мягкие, приятно податливые... Наслышанная о несчастной любви Мишеля, она простодушно сочувствовала ему. И ещё не догадывалась, что полюбила...
С самых ранних лет, привыкнув главенствовать в любой компании сверстников, Лермонтов, в сущности, не делал для этого ничего; первенство приходило к нему как бы само собой, по незримому праву, и он никогда не ставил такое право под сомнение.
А в университете дело повернулось по-иному. Аудитория была полна горластых самоуверенных юнцов; на Лермонтова никто не оборачивался. Он удивился, замельтешил перед чужими глазами, начал громко смеяться, сыпать торопливыми остротами, но вскоре опомнился, закусил от унижения губу и отошёл в сторонку, замкнувшись в презрительном молчании.
Понемногу кипение страстей улеглось. Вокруг складывались умные словоохотливые группы; их пылкие споры доносились до него ежеминутно. Он слушал издали, не подавая вида, но жадно навострив уши.
Ему было что сказать в любом из этих споров, и с каким бы наслаждением он вмешался, блеснул знаниями, ввернул яркое словцо, но он уже сам обрёк себя на изоляцию и, не сумев выйти из неё вовремя, затем увязал в придуманной отчуждённости всё глубже и безнадёжнее.
Его фронда переходила буквально на всё и на всех. С надменной рассеянностью он слушал лекции, изображая на лице лишь утомление и иронию.
Происходило нечто странное: погружаясь в мир студенчества, всё замечая и впитывая, проигрывая в уме собственное участие в сходках и дискуссиях, он не открывал между тем рта и вскоре снискал неприятную славу надутого аристократишки.
Профессора в класс входили с раздражением. Бельмо на глазу: сидящий сбоку, вызывающе-безразличный, без явной насмешки, но и без всякого внимания к ним... юноша? По летам – да. Молокосос. Только слово это никак не идёт к нему. Ученик? Студент? По званию, по положению именно так. А по сути? Неординарность, неуместность. Талантлив? А в чём? Вот они, будущие российские орлы, – пусть ныне непокорные, но глаза блестят оживлением, неосторожные пылкие речи на устах... Всё понятно в них учёным мужам.
А что такое Лер-мон-тов? Пожимание плечами. Прищур глаз. Сердитое дрожание пальцев.
В Благородном пансионе он шёл одним из первых, получал награды, в рукописном журнале помещались его стихи. А в университете он даже не аттестован ни по одному предмету. Зато вечерами танцует на балах, сыплет мадригалами, бесится с досады, когда Катишь Сушкова предпочитает ему какого-нибудь кавалергарда или, побившись об заклад со старичком князем Лобановым-Ростовским на пуд конфет, что не носит накладных волос, на виду у всех раскидывает до полу свои роскошные чёрные косы. «Какое кокетство!» – бормочет Мишель. Она отвечает ехидным шёпотом: «Утешьтесь, я поделюсь конфетами с вами». Она убеждена, что Мишель влюблён в неё: выдумщица Саша Верещагина подсовывает стихи, якобы обращённые к ней... Всё это веселье прерывает холерный карантин. Москва затихает, по улицам возят телеги с мертвецами. Лермонтов вновь погружается в мрачные мысли, пишет стихи о чуме...
То ли вследствие избалованности, когда любой его поступок с раннего детства, самый резкий и неожиданный, безоговорочно принимался бабушкой – и не только из-за её слепой любви, а может быть, ещё в большей степени благодаря неимоверной гордыне, с которой она наотрез отказывалась признать, что внук Столыпиных может сделать что-то не так, – возможно, и от свойства собственной натуры Лермонтова, когда энергия действия часто опережала в нём внутреннюю оценку, – как бы то ни было, понять собственные чувства он способен был лишь после того, как они отодвигались в прошлое. Он был подвержен жгучему чувству ностальгии не только по людям, но и по обстановке своей прежней жизни. Если потребность в общении с отцом возникла с особой силой, когда тот уже умер (желание объясниться, объяснить, высказаться перед ним то и дело возникает в его стихах), а печальная привязанность к Вареньке Лопухиной окончательно прояснилась в его сознании лишь тогда, когда любое реальное приближение к ней стало полностью немыслимым; то и Московский университет, принятый им поначалу с насмешкой над порядками и ограниченностью его профессоров, на фоне гвардейской школы, куда Лермонтов поступил в начале ноября 1832 года[18]18
...на фоне гвардейской школы, куда Лермонтов поступил в начале ноября 1832 года... — Школа гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров (Школа юнкеров) была учреждена в 1823 г. приказом Александра I для обучения молодых дворян, которые поступали в гвардию из университетов или частных пансионов, не имея военного образования или подготовки. Помимо изучения военных дисциплин, выездов на лагерные учения в окрестности Петергофа в летние месяцы и на осенние манёвры близ Красного Села, воспитанники получали тут знания по математике, словесности, истории, географии, судопроизводству, французскому языку. Пребывание поэта в Школе юнкеров длилось два года; он писал меньше, таясь от начальства, урывками. Продолжал и занятия рисованием. 22 ноября 1834 г. Лермонтов был выпущен из Школы корнетом в л.-гв. Гусарский полк. В нем сложились черты военного человека.
[Закрыть], представился уже совсем иначе.
Святое место!.. Помню я как сон
Твои кафедры, залы, коридоры...
Порывистость решений и почти не контролируемая рассудком привычка ни минуты не терпеть временных неудобств играли с Лермонтовым злые шутки во всю его жизнь.
Мнимая обида – требование повторить в Петербурге первый курс, пройденный им в Московском университете, по правде-то говоря не полностью и с грехом пополам из-за холерного карантина, – этот столь незначительный урон самолюбию заставил его ринуться в условия жизни гораздо более стеснительные и неподходящие.
Каждый раз он, словно в насмешку над самим собою, выбирал худший, а не лучший поворот в судьбе. И в то же время дело вовсе не обстояло так просто! Внешняя взбалмошность уравновешивалась упорной, поистине железной и несгибаемой работой ума, феноменальным возмужанием его внутренних сил. Юнкерская школа стала для Лермонтова тем неожиданным упором со всех сторон, при котором его однобоко направленная в детстве природная сила сопротивления вдруг получила новый, уже по-настоящему мощный стимул: творчество. Бросив вызов всем запретам, замкнувшись по ночам, он писал там «Вадима», самый разоблачительный и яростный свой роман! (Подлинное название навсегда от нас сокрыто: в некую тревожную минуту автор косым срезом ножа изъял заглавную страницу.) Однако роман завяз, не пройдя и половины пути. Почему? Не потому ли, что юный ум бился над загадкой самой истории, когда зарево крестьянского бунта неизбежно бросало отблеск на близкое грядущее? «Умы предчувствовали переворот и волновались...» Причина «пугачёвского года» виделась ему лишь в жестокости господ. А ежели рабовладелец чудом подобреет? Неужто «русский народ, этот сторукий исполин», в самом деле «желает быть наказанным, но справедливо»? Существует ли «справедливое» наказание для бесправного?.. Недоумение заставляло перо спотыкаться: «Мой роман – сплошное отчаяние», сознавался он в письме к Марии Лопухиной.
Есть плоды, которые, созревая, разрываются с пушечным звуком, далеко раскидывая семена. Если бы можно было подключить невидимый фонограф к лермонтовскому внутреннему «я», щелчки и разрывы раздавались бы ежедневно, ежечасно.
...Но что это было за заведение – школа гвардейских подпрапорщиков, переименованная новым шефом великим князем Михаилом Павловичем в школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров?
Ещё так недавно – несмотря на приказ царя всячески ужесточать правила, будить учащихся на заре барабанным боем, – устройство и обиход школы мало отличались от университетского, они были заведениями, схожими по духу, разве только что в «школе» преподавались военные науки. Возможно, это сталось так потому, что командиром школы был полковник Измайловского полка, добрый и всеми уважаемый Павел Петрович Годеин. Помощников он выбирал себе под стать, образованных и умных. Личные приязненные отношения с Николаем Павловичем, тогда ещё великим князем, позволяли Годеину вершить дела школы самостоятельно, без вмешательства высших армейских чинов.
После восшествия на престол Николая школа перешла в ведение его брата. Сначала великий князь Михаил ограничился увеличением часов, отведённых строевым занятиям, да запрещением в стенах школы читать книги литературного содержания; ведь смута на Сенатской площади мыслилась царским семейством лишь как следствие либерального воспитания! Но с 1830 года Михаил Павлович, уже начальник всех военных учебных заведений, стал наведываться в школу всякую неделю, и каждое посещение сопровождалось раскатами громового голоса. Один из подпрапорщиков вызвал его гнев нарушением правил чинопочитания – а всего-то дело в том, что юноша шёл по Невскому проспекту рядом с офицером, родным братом! В другой раз, нагрянув невзначай, великий князь велел первому встречному юнкеру раздеться – и обнаружил под мундиром... жилет. Шёлковые галстухи приравнивались им к проявлению революционного духа. Посыпались аресты и взыскания. Годеин был заменён бароном Шлиппенбахом[19]19
Шлиппенбах Константин Антонович (1795 – 1859) – барон, генерал-майор, с 1831 г. начальник Школы юнкеров, знакомый Е. А. Арсеньевой. «Враг всякой науки» (по выражению И. В. Анненкова), имел пристрастие к военной муштре. При нём юнкерам запрещали чтение художественной литературы, что было особенно тягостно для Лермонтова.
[Закрыть], убеждение которого состояло в том, что науки мешают службе, а командиром эскадрона стал Алексей Степанович Стунеев[20]20
Стунеев Алексей Степанович – в 1832 – 1840 гг. командир кавалерийского эскадрона в Школе юнкеров. Лермонтов бывал на домашних вечерах Стунеева, любителя музыки, где мог встречаться с А. С. Даргомыжским и М. И. Глинкой, который в 1835 г. женился на сестре жены Стунеева.
[Закрыть] – мишень лермонтовской насмешки:
Пускай в манеже
Алёхин глас
Как можно реже
Тревожит нас...
Ах, разумеется, Лермонтов с первых же дней пребывания в казарме понял, что совершил страшную ошибку, что не мелкие стеснения и пустяковые уколы самолюбия ожидают его здесь, а нечто вроде каменного мешка, где ни света, ни воздуха. Обилие противоречивых чувств и мыслей, которые обуревали его до сих пор, были, в сущности, пока его единственной заботой: как понять самого себя, добиться ясности, выразиться наиболее точно стихами? Всё это подвергалось теперь смертельной опасности от тупого внешнего воздействия «школы».
Лермонтов был воспринимаем разными людьми с полярных сторон. В глазах университетских однокашников он слыл гордецом и аристократической штучкой, а подруги юности – умненькая, острая на язык Сашенька Верещагина и заботливая Мария Лопухина – в письмах предостерегали на все лады, чтобы в сей критический момент его судьбы он помнил обещание при отъезде. «Берегитесь слишком поспешно сходиться с товарищами... Вы характера доброго и с любящей Вашею душой Вы тотчас увлечётесь; в особенности избегайте молодёжь, которая кичится всякого рода молодечеством и видит особое удовольствие в фанфаронстве, – увещевала Мария. – Умный человек должен быть выше всех этих мелочей... Это хорошо для мелких умов, им и предоставьте это, а сами идите своим путём».
Оба письмеца ему принёс собственный слуга, тархановский человек, вместе с корзиночкой домашних лакомств, уложенных бабушкой. Елизавета Алексеевна тоже разошлась умом: укоризненный гомон, поднятый роднёй вокруг решения Миши бросить университет и идти на военную службу, толкал её на защиту внука, доказывание его правоты. А в то же время, зная его самолюбивость, нервные срывы, угрюмую неуживчивость, она трепетала за ближайшее будущее. Волновалась и Сашенька, барышня отнюдь не сентиментальная, а скорее жестковатая нравом.
Косо, с поспешностью разорвав конверт, Лермонтов погрузился в чтение письма, как в живой голос, чёткий и легко грассирующий во французской речи.
За первую неделю своего юнкерского житья-бытья он уже успел пережить всю гамму испуга, растерянности, ожесточения и теперь наметил линию поведения на все два года вперёд. «Я переживу их», – поклялся он себе, не разжимая пухлых, детского рисунка губ, которые так часто принуждал кривиться в желчной усмешке.
Советы запоздали; он уже давно не обнажает душевных порывов перед другими. Даже перед близкими – перед ними в особенности! И не собирается никем очаровываться – было бы кем! А вот избегать новых товарищей не станет; совсем напротив, сделается таким же, как все они. Да, да, милая Мария и Сашенька! Фанфароном и буяном почище других. Таков единственный путь уцелеть, сохраниться в безвоздушной атмосфере юнкерского каземата.
Он ставил над самим собою эксперимент: не только существовать в чуждой среде, но и выделяться в ней. А если удастся, то и главенствовать.
Сам себя прозвав Маёшкой, кличкой циника из модного французского романа, он вовсю развлекал холостяцкий Петербург забубёнными поэмками:
...Но без вина что жизнь улана?
Его душа на дне стакана,
И кто два раза в день не пьян.
Тот, извините, не улан!
...Сквозь дым волшебный, дым табачный.
Мелькают лица юнкеров.
Их рожи красны, взоры страшны.
Кто в сбруе весь, кто без штанов...
(Остепенившиеся дебоширы до конца жизни не желали принимать стихи Лермонтова всерьёз, считая его лишь кутилой и скабрезником. Утехи юности неприличны столпам общества!).
Он, которого с детства коробила несправедливость к подневольному человеку, теперь присоединялся к беспечному жестокому гоготу юнкеров, когда один из них, ухарства ради, незаметно надламывал свою тарелку, громоздил на неё груду других, а служитель, убирая господский стол, ронял всю стопку и получал наказание. Тягался с известным на всю школу силачом Евграфом Карачевским: наперегонки они гнули шомпола, плели из них верёвки. (Лермонтов совал потом украдкой деньги унтер-офицерам, ответственным за казённую амуницию.) Начальник школы Шлиппенбах не так был не прав, назвав эти выходки глупым ребячеством. На что Лермонтов за его спиной с усмешкой возразил: «Хороши дети, шомпола узлом вяжут!»
Нельзя сказать, что эта разрушительная стихия не захватила его: в восемнадцать лет крушить предпочтительнее, чем созидать. Лермонтов-юнкер упивался безрассудствами. Лермонтов-поэт относился к ним с внутренней брезгливостью. Но больше всего он боялся прослыть неженкой и страшно вспылил, когда допытался у дворового человека, что бабушка велела будить внука до боя барабана, чтоб резкий звук не испугал его своей внезапностью.
Жестокий искус юнкерского житья длился всего два месяца. Молодецки вскочив в седло плохо объезженной лошади, Лермонтов не смог укротить её; она металась по манежу, путалась между другими лошадьми, те стали лягаться, и одна ударом копыта расшибла ему ногу до кости. Лермонтова без чувств вынесли с манежа.
Остаток зимы он пролежал на квартире у бабушки, и Алексей Лопухин спрашивал его в письмах, сможет ли он вообще продолжать военную службу?
Лермонтов не знал и сам. Он опять надолго оказался в привычной обстановке домашнего уединения и уюта. Неприятное ошеломление, которое произвёл на него поначалу Петербург «своим туманом и водой», людьми, похожими, – как он писал Марии Лопухиной, – на французский сад, где хозяйские ножницы уничтожили всё самобытное, начинало понемногу проходить. Он с любопытством вглядывался в посетителей бабушкиной гостиной.
В один прекрасный день бабушка ввела за руку молодого человека в партикулярном платье – крестника, внука пензенской подруги детства, ныне чиновника Департамента государственных имуществ Святослава Раевского[21]21
...крестника, внука пензенской подруги детства, ныне чиновника Департамента государственных имуществ Святослава Раевского. – Раевский Святослав Афанасьевич (1808 – 1876), чиновник, литератор, этнограф, ближайший друг Лермонтова. Бабушка Раевского воспитывалась в доме Столыпиных вместе с Е. А. Арсеньевой, которая впоследствии считалась крестной матерью Раевского. Он бывал в Тарханах и помнил Лермонтова ребёнком. В 1827 г. окончил нравственно-политическое отделение Московского университета, но ещё год слушал лекции на словесном и физико-математическом отделениях. Оказал большое воздействие на формирование общественно-политических воззрений Лермонтова. В комментируемом тексте романа встреча Лермонтова и Раевского происходит в 1832 г. в Петербурге, однако известные исследователи жизни и творчества Лермонтова отмечают, что их сближение началось в Москве в 1827 – 1830 гг. В 1831 г. Раевский переехал в Петербург, где служил в Министерстве финансов. С осени 1832 г. вновь стал встречаться с Лермонтовым, поселившись на квартире Е. А. Арсеньевой.
[Закрыть].
– Мишынька, Славушка, вспомните и полюбите друг друга! – сказала она, распахивая перед собою дверь в радостном нетерпении. – Славушка, вишь, какой ты заморённый! Велю стол накрыть попроворней. А вы, голубчики, пока потолкуйте. Да не дичитесь, без церемоний будьте, как в детстве. Что же ты, Мишынька, насупился?
– Я рад, – сказал Лермонтов, не спуская глаз с пришельца, которого ему с такой бесцеремонностью предложили в товарищи.
Тот спокойно, с серьёзным любопытством выдержал долгий испытующий взгляд. Отозвался просто:
– Я тоже.
Присаживаясь с папироской, он сказал без нажима и показного интереса, но с той же приветливой естественностью:
– Говорят, вы пишете стихи?
– Кто их нынче не пишет, – отозвался Лермонтов. – Башмаками следят по паркету, пером – на бумаге. Тьма-тьмущая развелась альбомных стихотворцев!
– Совершенно с вами согласен. А так как льстить, не способен, то промолчу, когда прочтёте свои.
Кажется, он заранее рассчитывал на худшее. Самолюбие Лермонтова было задето.
– Я стихов наизусть не затверживаю, – небрежно отозвался он. – Да и обнародовать их, признаться, не люблю. Но чтобы скоротать время, пока накрывают на стол... Извольте. Я эту пьесу написал для одной премилой московской барышни. – Он зорко искоса поглядел на нового знакомца.
Тот молча дожидался. При словах о московской барышне лицо его несколько вытянулось. Злорадное предвкушение всё более охватывало Лермонтова. Он тянул, продолжая бубнить светским тоном:
– Прогуливался по Петербургу, любовался осенней погодой; я вообще обожаю слякоть. А тут ещё серое дождливое море, челнок на волнах... Весьма романтично.
Раевский решил всё вытерпеть, хотя невольно уже поглядывал на дверь.
Внезапно в лице Лермонтова что-то изменилось; облако, заслонявшее лоб, сошло само собою. Тёмно-карие глаза посветлели.
«А не сероглаз ли он? – мелькнуло у Раевского. – Какой странный. Хотел надо мною посмеяться, а теперь, кажется, робеет?»
– Так слушайте же, – почти сердито вырвалось у Лермонтова. И он начал, уставясь в сторону:
Белеет парус одинокой
В тумане моря голубом!..
Что ищет он в стране далёкой?
Что кинул он в краю родном?..
Приятный грудной голос вздрагивал и вибрировал, как музыкальный инструмент.
Раевский смотрел на него с удивлением. Он непроизвольно сжал пальцы, рискуя обжечься дотлевающей папиросой. Что-то заныло у него в груди.
Играют волны – ветер свищет,
И мачта гнётся и скрыпит...
Увы! он счастия не ищет
И не от счастия бежит!
Голос звучал настойчиво, тревожно:
Под ним струя светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой...
А он, мятежный, просит бури.
Как будто в бурях есть покой!
Лермонтов резко оборвал, а Святослав всё ещё ждал чего-то. Неужели это тот младенец, которого он видел в Тарханах, куда его привозили мальчиком погостить? Который ползал по полу, застланному толстым зелёным сукном?..
– Барыня просят пожаловать откушать, – пропела сладким голоском Дарьюшка, заглядывая в дверь и рыская по сторонам глазами-буравчиками.
Раевский, выходя из-под обаяния мятежного паруса, молча подал руку. Лермонтов, не произнося ни слова, опёрся на неё – и так они вошли в столовую, где бабушка уже усаживалась за переполненный блюдами и супницами стол под опрятной льняной скатертью.
– Подружились, голубчики? Вот и славно, вот и ладно.
Его наставники, его учителя... Их было много, они сменяли друг друга. Одни ему нравились, другие сумели быть полезными, третьи остались безвредными. Тётушки, гувернёры, университетские профессора, лекторы гвардейской школы... Но духовным событием жизни стал чиновник Раевский, старше его всего шестью годами. И – Пушкин. Тот говорил с ним постоянно лёгкими строфами стихов. И никогда – живым человеческим голосом.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
«Гусар мой по городу рыщет, и я рада, что он любит по балам ездить; мальчик молоденький, в хорошей компании и научится хорошему», – писала бабушка пензенской приятельнице.
Вздохнула на мгновенье, поправила очки. Пенза... Улицы степенно переваливают с холма на холм; за каждым забором зеленеют сады. Тихо, уютно. Недаром и Михайла Михайлович Сперанский, опальный губернатор, говаривал в добрую минуту, когда не чувствовал себя печально в окружении людей не равных ему по уму и знаниям, что в Петербурге служат, а в Пензе живут в своё удовольствие.
Елизавета Алексеевна скучала по родным местам. Однако знала про себя, что для пользы Миши не только в Петербург, а и на край света поскакала бы; хоть к магометанскому султану, хоть к диким в Америку. Корила себя втихомолку: нет ничего хуже пристрастной любви! Но и извиняла тотчас: ведь один свет очей, единое блаженство у неё в жизни...
Кончался 1834 год. В Тарханах сугробы по пояс, а петербургские проспекты подметает лишь сырая позёмка. Мишенька уже три недели как корнет. Сторговала ему скакуна серого в яблоках, как заведено в их лейб-гвардии гусарском полку. Серебряные шпоры заказала лучшему мастеру, чтоб с особенным звоном. Слава Богу, становится как все. Шалит, кутит – бабушка только рада, слова не скажет в упрёк. Летом можно тронуться в Тарханы со спокойной душой, заняться хозяйством. Денег теперь только припасай! Внук Столыпиных никому не должен уступать в щедрости и блеске. Наняла ему квартиру в Царском Селе, вблизи казарм, пополам с племянником Алексеем Григорьевичем[22]22
Наняла ему квартиру в Царском Селе... пополам с племянником Алексеем Григорьевичем... – Столыпин Алексей Григорьевич (ок. 1805—1847), старший сын Григория Даниловича (сына троюродного брата отца Е. А Арсеньевой) и Натальи Алексеевны (младшей сестры Е. А. Арсеньевой), штаб-ротмистр л.-гв. Гусарского полка (1836 – 1839); с 1839 г. адъютант герцога М. Лейхтенбергского; двоюродный дядя Лермонтова. По его совету поэт поступил в Школу юнкеров. Одно время жил в Царском Селе вместе с Лермонтовым и А. А. Столыпиным (Монго) (см. ниже). Когда понадобилось разрешение Николая I на перевоз тела Лермонтова из Пятигорска в Тарханы, основные хлопоты легли на Алексея Григорьевича.
[Закрыть]; тот девятью годами старше Миши, штабс-капитан. И присмотрит и наставит по-родственному. Скоро к ним присоединится третий Столыпин, сын покойного Аркадия, Алексей Аркадьевич[23]23
...третий Столыпин, сын покойного Аркадия, Алексей Аркадьевич. – Столыпин Алексей Аркадьевич (дружеское прозвище Монго́ ) (1816 – 1858), двоюродный дядя и друг Лермонтова. В 1835 г. был выпущен из Школы юнкеров в л.-гв. Гусарский полк. Вместе с Лермонтовым и А. Г. Столыпиным жил в Царском Селе в 1835 – 1836 и 1838 – 1839 гг. Был членом «Кружка шестнадцати». В 1837 г. ездил «охотником» на Кавказ, в ноябре 1839 г. вышел в отставку. После суда за участие секундантом на дуэли Лермонтова с Э. де Барантом Николай I предложил ему возвратиться на военную службу. Столыпин был негласным секундантом на дуэли Лермонтова с Мартыновым. Мнения современников об А. А. Столыпине противоречивы – от самых лестных до крайне отрицательных.
[Закрыть]. Мишенька ещё в юнкерской школе прозвал его Мунгом, по кличке ньюфаундлендской собаки, которая мешала ученьям, хватая лошадей за хвост. Забава, простительная по Мишенькиному легкомыслию! Мунго – иначе Монго – помладше, ещё не произведён, но в свете имеет успех: красив, воспитан. Нет в нём досадной Мишиной порывистости, его внезапного простосердечия. Ну да авось обтешется среди добрых людей!
Бабушка полна радужных надежд.
Алексей Григорьевич Столыпин с удобством лежал на диване, покрытом рыхлым персидским ковром, лениво бренчал на гитаре, припевая вполголоса:
Ай да служба! ай да дядя!
Распотешил, старина!
На тебя, гусар мой, глядя.
Сердце вспыхнуло до дна.
Час был поздний, вернее, ранний. За окнами стояла непроницаемая туманная мгла, сдобренная мелкими, беспрестанно кружащимися снежинками. Они до сих пор влажно блестели на бровях и ресницах Лермонтова. Оба только что прискакали по декабрьскому морозцу из Петербурга в Царское.
Лермонтов как приехал, так и присел к столу, скинув только шинель с длинным серым капюшоном, исписывал бумагу и грыз перо.
Алексей Григорьевич, напротив, успел умыть лицо, протереться душистой водкой и, как ни кратковременно должно было продлиться это ночное бдение перед тем, как окончательно отправиться в постель (ибо он отчаянно зевал), надел пёстрый архалук[24]24
Архалук – мужская и женская верхняя распашная одежда у некоторых народов Кавказа.
[Закрыть].
Наконец Лермонтов в досаде отбросил перо. Столыпин задумчиво наблюдал за ним. С тех пор как по его совету Мишель поступил в военное училище, в нём жило охранительное чувство к младшему «братцу». Он искренне хотел способствовать его карьере. То, что Лермонтов жил не своею жизнью, что богатый наследник, светский жуир – лишь роли, навязанные ему обстоятельствами, что он продирался сквозь них, как сквозь дремучую чащу, – разумеется, и в голову не приходило заботливому штабс-капитану.
У обоих осталось совершенно разное ощущение от прошедшего вечера. Алексей Григорьевич, лишь недавно принятый в большом свете, удачно продвинулся в своём искательстве руки княжны Марии Трубецкой, особы, приближённой к домашнему кругу императорской семьи[25]25
Алексей Григорьевич... удачно продвинулся в своём искательстве руки княжны Марии Трубецкой, особы, приближённой к домашнему кругу императорской семьи... – Трубецкая Мария Васильевна (1819 – 1895), с 1839 г. жена Алексея Григорьевича Столыпина; сестра А. В. и С. В. Трубецких (А. В. Трубецкой был однополчанином убийцы Пушкина Дантеса; впоследствии генерал-майор; член «Кружка шестнадцати»; был фаворитом императрицы Александры Фёдоровны. Была близка к царскому двору, дружна с великой княгиней Марией Николаевной. В передаче Марии Васильевны известны две фразы Николая I, будто бы сказанные при получении известия о гибели Лермонтова: «Собаке собачья смерть» – в кругу родных, и: «Нас постигла тяжёлая утрата, умер тот, кто мог бы заменить нам Пушкина» – перед толпой придворных.
[Закрыть], тёзки и подруги старшей дочери царя. Посреди толпы нарядных женщин и важных сановников он дышал своим естественным воздухом, излучая ответное обаяние.
Лермонтов, посещавший пока гостиные второго ранга, в одинаковой степени был недоволен собою и светом.
– Если хочешь, чтобы тебя заметили, мон шер, – благодушно процедил Столыпин, отставляя гитару и сладко позёвывая, – нужно устроить громкую историю со светской женщиной. Твои гусарские фарсы остроумны, но не выходят за стены казармы. Свету до них нет дела. Человек комильфо, который не умеет играть сердцами, неинтересен.
Лермонтов остановил на нём пристальный тяжеловатый взгляд.
– Катишь Сушкова? – полувопросительно бросил он.
Тот небрежно пожал плечами, что можно было понять как «пожалуй» или «изволь, если хочешь». Он снова зевнул и поднялся с дивана.
– У меня поутру выездка лошадей. А ты будешь в манеже?
– Скажусь больным.
Они расстались до утра. Вернее, до полудня, когда Столыпин вернётся с манежа, а Лермонтов покинет спальню. Нервы Лермонтова были раздражены; из-под пера вылилась лишь неудачная эпиграмма (он скомкал листок). Мысли беспрестанно возвращались к бальному вечеру. К целой их череде. Принять лукавый совет – казарменные фарсы разыграть в светской гостиной? Мысль показалась забавной. Она требовала дерзости и энергии. Смуглые щёки Лермонтова зажглись слабым румянцем.
Катишь была бойка и невоздержана на язык. Отсутствие такта лишь в ранней юности казалось в ней очаровательной живостью, бьющими через край силами. Пропустив своё золотое цветение и не достигнув заветной цели – блестящего замужества, она предстала во второй раз перед Мишелем уже опытной светской волчицей – вечно алчущей и не находящей поживы. Она уже порядком примелькалась в том «втором обществе», которое взирало на «большой свет» исподтишка, ловя крохи его сплетен. Но и злословье Катишь отдавало безнадёжностью старой девы.
Впрочем, Лермонтову она обрадовалась искренне; тем более искренне, что не бескорыстно. Приятный её памяти образ влюблённого насупленного мальчика никак не совпадал уже с теперешним многознающим, замкнуто-колючим и мстительно-тщеславным офицериком, богатым наследником да ещё поэтом! – каким его знали в гостиных. Но на Катишь словно нашло сентиментальное ослепление: она ничего не желала видеть и полна была решимости продолжать их отношения с позавчерашнего дня.
Выпрыгнув из саней прямо на влажный снег атласными туфельками, не оглянувшись на сестру и тётку (всякий выезд был для неё свободой от семейной тоски!), она взбежала на несколько ступенек парадной лестницы, устланной ковром и разукрашенной зелёными растениями. Едва успела оглядеть себя в огромное зеркало, обрамленное бронзовыми купидонами, – платье с пунцовыми звёздочками, живые гвоздики в волосах, – как дорогу ей заступил Лермонтов. Она его узнала тотчас. Всё так же невзрачен, бедняжка. Но возмужал, плечи стали шире, лихие усики оттеняют пухлый рот. Золотое шитье гусарского доломана ему к лицу.
– Я давно караулю у дверей, чтобы первому ангажировать вас на мазурку.
– Охотно. Но как же мы не встретились ранее? По слухам, вы здесь уже два года?
– Не хотел появляться на глаза в юнкерском мундире. Эполеты дают надежду...
– О, как откровенно, – усмехнулась бывшая мисс Черноглазка. – Однако лишь скрытые чувства заслуживают уважения. Они интереснее, когда их угадываешь!
Катишь была в ударе и танцевала со многими кавалерами.
Всякий раз, когда надо было подержать её веер или принести блюдечко мороженого, рядом оказывался Лермонтов.
Не только потому, что мисс Черноглазка безжалостно дразнила его в Москве и Середникове, а самолюбие предписывало злопамятство, и даже не от того, что её иронические гримаски и сверкающие взоры до сих пор волновали его отнюдь не безгрешно, – причиной усиленного внимания к ней были и два письма в шкатулке на его столе: от Марии Лопухиной и Саши Верещагиной. Обе тревожились об одном и том же: о начавшемся ещё прошлой весною во время прогулок по Нескучному саду бурном романе между Алёшей Лопухиным и мадемуазель Сушковой. Тогда они не посчитали это серьёзным, потому что девятнадцатилетний Алёша не мог выйти из воли отца. Но теперь всё переменилось; старик Лопухин внезапно умер, сын его становился сам себе хозяин, да к тому же богатый наследник. Через неделю-другую он собирается в Петербург, не скрывая, что там его ждут.
«Добро же, госпожа Летучая Мышь, – бормотал про себя Лермонтов, неотступно провожая взглядом белое платье с пунцовыми звёздами. – Вы привыкли цепляться крыльями за всё встречное, ну так не угодно ли запутаться в собственных сетях?»
Остаток вечера они проговорили, сидя в уголке гостиной. Лермонтов гадал ей по руке и вспоминал московских знакомых. Сушкова избегала имени Лопухина. Тогда он принялся шутливо предлагать ей одного за другим проходящих.
– Чтобы я решилась выйти за подобного урода? Неужели в ваших глазах я такая дурнушка? – кокетливо воскликнула она.
Он ответил высокопарно:
– Вы воплощённая мечта поэта. Но зачем вас прельстила мишура? Неужели так звучно называться мадам Лопухиной? Да не будь у него пяти тысяч душ, вы на него и не взглянули бы.
– Есть имена и получше, – досадливо возразила Катишь. – Знайте, что богатство для меня лишь переплёт; глупую книгу оно не сделает более занимательной.
– Ой ли? А букетик незабудок в Нескучном саду? Я всё знаю, у Алексея нет от меня тайн.
Катишь вспыхнула. Болтливость нареченного уязвила её. На самом деле Лермонтов почерпнул подробности из письма Саши Верещагиной, которой сама же Катишь всё и рассказала. Интрига заплелась!
Две недели кряду Лермонтов не отходил от мисс Черноглазки ни на шаг. Утром проезжал в санях мимо её окон взад-вперёд раз по десять; днём являлся с продолжительным визитом (тётка Беклешева, воспитательница сестёр Сушковых, считала его несносным, но неопасным мальчишкой), вечерами танцевал с нею на балах.
Ему нравилось попеременно обращаться к Катишь разными лицами; то чувствительным, покорным, почти влюблённым, то язвительным и циничным до грубости. Сбитая с толку, растерянная, помимо воли втягиваясь в эту опасную для неё игру, она стремилась уже только к тому, чтобы одержать верх. Позабыв о всякой осторожности, сама искала встреч, вела томительно-длинные, полные загадочной двусмысленности разговоры, сносила лермонтовские выходки, извиняя их про себя, – и всё это неслось со скоростью водопада к развязке, о которой она боялась и помыслить, – к скандалу, к разрыву, к «истории»... В борьбе двух самолюбий Катишь выглядела всё более беспомощной, ещё не осознав этого полностью.






