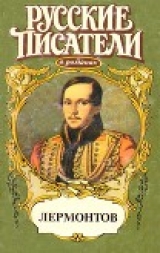
Текст книги "Лермонтов"
Автор книги: Лидия Обухова
Соавторы: Александр Титов
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 38 страниц)
– А Печорин? – не утерпел Белинский. – Не умея жертвовать собою ни для кого, что он искал в Персии? К чему применится там его кипучая натура?
Лермонтов усмехнулся.
– Жертвовать собою, может быть, и прекрасно, да кто нынче ждёт этой жертвы? Кто её примет?
Он замолчал. Ушёл глубоко в себя. Представился милый Саша Одоевский, который, выйдя на Сенатскую площадь, мог лишь воскликнуть с самозабвенной пылкостью; Ах, как славно мы умрём!» – но не победить, не пустить в дело свои идеи. Да и в чём они, эти идеи? Добрый царь? Их не бывает. Постепенное просвещение народа? Ой ли?
В который раз Лермонтов потрясал Белинского философским хладнокровием мысли. Объем лермонтовской личности стремительно расширялся в его восприятии. Будто в самом деле некий Демон сначала выпрямился во весь рост, а потом ещё и распростёр крылья...
А между тем они находились в достаточно тёмной и скудно убранной комнате гарнизонной гауптвахты, и перед сутулым, щуплым от болезни, с впалыми щеками Белинским, который то самолюбиво замыкался, то вспыхивал энтузиазмом и предельно распахивал себя перед собеседником, сидел низкорослый опальный офицерик, который был не только малозаметен в толпе, но если б даже и остановил внимание, то скорей какой-то неприятной дисгармонией черт, самоуверенной презрительностью мины, змеящейся ухмылкой и покоем широкого смуглого лба.
– А всё-таки вы верите в людей больше, чем хотите в том признаться! – воскликнул напоследок Белинский.
Лермонтов отозвался с задумчивостью:
– Дай-то Бог!
– Давайте, бабушка, посидим рядком на прощанье.
Старуха прерывисто вздохнула, приподняла пальцем дергающееся веко. Оно всё чаще бессильно повисало над мутным зрачком. Устремила взгляд на внука.
– Устала я, мой друг, с тобой прощаться. Помни: не за горами и вечное расставание... Посидел бы ты, Мишынька, хоть годок тихо, смирно, без шалостей...
– Это и моё желание, милая бабушка! Помогите только скинуть мундир, выхлопочите отставку, и так славно мы с вами заживём! Я ведь вовсе намерен переменить свой жизненный строй.
– Ай надумал жениться? – встрепенулась Елизавета Алексеевна с неистребимым женским интересом ко всевозможным марьяжным происшествиям. – То-то намедни сон видела, будто красное платье на меня надевают. Да уж такое рдяное, что и на пальцах от него красно. Обтираю, не могу обтереть. Не к худу ли, думаю? Ан, даст Бог, к добру.
– А что? – весело отозвался Лермонтов. – Будет ваше благословение, я не прочь. Но сейчас не про то. Я, бабушка, намерен заняться делом. Вы пеняли, что не беру с Краевского за стихи денег. А что вы скажете, если стану выпускать свой журнал, капиталы заколачивать?
– А сам-то писать бросишь? – с неясной надеждой спросила старуха.
– Ну зачем же? К каждой книжке припасу что-нибудь новенькое. Уж я постараюсь, увидите!
– Увижу, – неопределённо согласилась она. И задумалась, прикидывая что-то в уме. – На первоначальное обзаведение много ли надобно?
Лермонтов смутился.
– Я ещё не считал, бабушка. Прежде отставку получить. Но думаю, не намного превысит то, что вы мне по доброте своей на гвардейское содержание определили.
– То-то и оно, что превысит.
Но вдруг распустила мягкие складочки румяного лица, покивала сквозь улыбчатые слёзы.
– Всё ведь твоё, душа моя! В домовине мне ничего не будет надобно.
– Бог с вами, милая бабушка! Про что вы?
– Про неизбежное, друг мой. Два века никто не живёт. Сядь-ка поближе, поглажу головушку твою непутёвую. Потемнела отметина – русая прядка? Не вижу, глаза слабы. От меня она. Смолоду коса была льна светлее... А Машенька родилась воронёнок воронёнком. И у отца твоего, Юрия Петровича, масть каштановая...
Впервые гордая старуха произнесла имя зятя без сухости, голос её не задрожал от старых обид.
Всё смывает время. Годы притупляют чувства. Одна любовь остаётся.
Лермонтов благодарно прильнул к её руке. Они расставались навсегда. Но ещё не знали об этом.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Проездом в Москве Лермонтов появится уже не в гусарском доломане, а в невзрачном зелёном мундире поручика Тенгинского полка. Красный отложной ворот без всякого шитья не подпирал ему шею, и он чувствовал себя вольнее, чем в прежней форме.
Весна входила в полную силу. Цвела сирень. По арбатским садам разливался соловьиный щелкот. Лермонтова встретило множество прежних знакомых, среди них общительный душа-человек, умница Александр Иванович Тургенев, с которым он недавно виделся в Петербурге. На Николу Вешнего, девятого мая, оба были званы к историку Погодину на гоголевские именины.
Гоголь только что вернулся из Италии и с успехом читал по гостиным главы «Мёртвых душ». Своего дома он никогда не имел, жил налегке; сундучок с рукописями и платьем ему переносили от одних знакомых к другим. У Погодина он занимал застеклённую антресоль над крышей, что-то вроде башни с куполом. А именинный стол ему накрыли вдоль липовой аллеи. Гоголь нарядился в голубой фрак. Был он остронос, с блондинистыми волосами, которые жидкими прядями спускались почти до воротника. Довольно неуклюж: подрагивал при ходьбе коленками и махал одной рукой. Но карие глаза вперялись в человека с тонкой проницательностью. В обращении неровен: или говорлив и самоуверен, или увядал, свёртывался наподобие улитки.
На именинном собрании Лермонтову предстояло явиться перед лицом всего московского общества – молодых университетских профессоров, носителей западных идей; почтенных литераторов, щеголявших московским духом в пику северной столице; любителей византийской истории, славянофилов.
Пришёл холодно-молчаливый Чаадаев, встреченный с большой почтительностью; живчиком вкатился, самолюбиво кося глазом, поэт Хомяков; пожаловали добродушные приверженцы старины отец и сын Аксаковы; бывший декабрист генерал Михаил Фёдорович Орлов; романист Загоскин, актёр Щепкин, Баратынский, Чертковы, Свербеевы, Глинки – словом, вся интеллигентная Москва.
Именинника Лермонтов видел урывками: то он варил жжёнку, отдаваясь этому занятию с каким-то детским азартом, то таинственно уводил кого-нибудь под руку в сторону. Принимая книжечку «Героя нашего времени», на автора посмотрел любезно, но вскользь, а вот старику Аксакову сказал с неожиданным жаром, что в Лермонтове прозаик окажется сильнее поэта. Столкнувшись вновь у пруда, попросил Михаила Юрьевича почитать стихи; послушал из «Мцыри» битву с барсом, выбрался из тесного кружка с кислым видом. И опять кому-то говорил, что страсть и страданье – всё идёт у Лермонтова от самолюбия, что нет у него никакой любви к детям собственного воображения, что он мастер лишь на безрадостные встречи и беспечальные расставания.
Но не было ли это суждение обычным приёмом (не всегда осознанным) всех пишущих: свою одёжку примерить на другого, пересоздать его по своему образу и подобию?
Упрёк Лермонтову в демонском страдании мысли, а не сердца мог быть отнесён к самому Гоголю, особенно позднее, на трагическом переломе между «Мёртвыми душами» и «Перепиской с друзьями». Все гоголевские письма той поры полны учительной риторикой, но черствы к близким людям. Собирательное понятие «Русь» он ощущает бьющимся комком сердца. Горести сестёр и давних друзей смахивает рукой как нечто незначащее. Больная душа Гоголя всё более погружалась во мрак. Тогда как «холодный» Лермонтов неуклонно двигался от юношеской мизантропии к более солнечной и действенной стороне жизни...
В тот день прошёл дождь, потом солнце подсушило землю, защёлкали соловьи. Следующим вечером они встретились ещё раз в доме у Свербеевых. Тургенев оставил в дневнике запись: «Лермонтов и Гоголь. До 2 часов». Почему засиделись? О чём толковали?
(В 1847 году Гоголь запоздало признал: «Никто ещё не писал у нас такой правильной, прекрасной и благоуханной прозой. ...Готовился будущий великий живописец русского быта...).
Чем ближе подкатывала коляска к особняку Щербатовой, тем беспорядочнее обуревали Лермонтова странные мысли.
«Нам нечего делать друг с другом! – почти с отчаянием повторял себе Михаил Юрьевич. – Это написано у каждого из нас на лбу. И всё-таки тянемся, как слабые магниты. Словно даже не руками, а муравьиными усиками. Значит, бывает и так между мужчиной и женщиной? А ведь всё, о чём говорим, – не только лишнее, но и враждебное нашему внутреннему строю. Духовно мы за тысячу вёрст. Каждая встреча нас разъединяет... Господи! Но неужели я всё-таки её люблю? Неужели она любит меня при всём этом?!»
– Я должен сказать вам правду: я ценю вас и восхищаюсь вами, но недостаточно люблю. А для меня это невозможно – так относиться к женщине. Мне чудилось, что полнота чувств вот-вот придёт, стоит только прижать губы к вашим губам... Мне и сейчас безумно хочется поцеловать вас. Всякий раз хочется, когда ощущаю, что стена между нами поднимается выше.
– Какая стена, Мишель? – прошептала Щербатова, не поднимая глаз, отягощённых слезами.
Он не отозвался. Продолжал говорить, будто бы сам с собою:
– Но ведь это только от отчаяния, а не от любви. Сознаться ли? Я ощущаю облегчение, едва остаюсь один. Хотя меня переполняет печаль, когда вы уходите. Всё хочется что-то сказать, разрушить эту проклятую стену, а слова не находятся...
– Нельзя всегда во всём сомневаться! – с досадой воскликнула Машет. – Есть же наконец что-то истинное?
Он слегка поклонился с деланной усмешкой:
– Едва сомнение родило истину, как истина уже вновь рождает сомнения.
Их разговор шёл рывками. Марию сокрушала новая сплетня: будто бы вероломный Мишель на коленях умолял бабушку не соглашаться на его брак с нею.
– Вы полюбили другую? – спросила Щербатова, улыбаясь сквозь слёзы.
Лермонтов покачал головой.
– Я никого не люблю.
А сжавшееся сердце неслышно отстукало: «...даже вас». Щербатова нетерпеливо взмахнула рукой, словно заслоняясь от него.
– Бог с вами, Мишель, я устала. Прощайте. – Уже в спину ему она добавила: – Мне жаль вас, хотя я ничего не понимаю в вас.
Он живо обернулся и понял, что она не кокетничает. Кокетство предполагает внутреннее напряжение, а она сидела в креслах вольно, без всякой скованности, печально и просто. Его сердце забилось с прежней болезненной силой. «Сейчас я навсегда теряю её», – мелькнуло в уме.
Он переступил порог не оглядываясь.
Лермонтов выехал из Москвы с опустошённым сердцем. Последнее свидание с Марией Щербатовой окончательно оборвало принудительность их связи. В сущности, Машет покинула его прежде, чем он её, хотя отречение произносил он. Она слушала невнимательно, уже всецело погруженная в собственные заботы. Смерть ребёнка, потеря состояния, которое теперь возвращалось в щербатовский род... ах, какой хмель любви устоит перед столь жестокими обстоятельствами? Виновата ли она, что похожа на остальных женщин: малодушна и слаба?
С каждой верстой Лермонтов отодвигал её всё в более дальний угол памяти. Он снова был одинок. Перед ним лежала дорога. Губы его улыбались печалям и одиночеству, как старым дорожным товарищам.
Он дышал глубоко, не насыщаясь встречной струёй воздуха. Безмолвие души, которое тяготило его последнее время, понемногу заменилось ритмом и звуками. В памяти пронеслось:
И скучно и грустно, и некому руку подать
В минуту душевной невзгоды...
Желанья!.. что пользы напрасно и вечно желать?
А годы проходят – все лучшие годы!
Любить... но кого же?.. на время – не стоит труда,
А вечно любить невозможно...
Да, он навсегда покидал Марию Щербатову, и это вызывало грусть по несбывшимся мечтам, столь поспешно и самонадеянно устремлённым к ней. Он клялся навсегда вытравить из себя те убогие чувства, неспособные на самоотверженность и жертву, которые он в светской слепоте так часто принимал за любовь.
Захотелось колючего ветра, обжигающего солнца, необозримых просторов, в которых он затеряется крошечной частицей. Только движение могло выветрить приторный душок, досадное неудовольствие самим собою. Перевёрнутая страница сердца оставалась позади.
Как в России повально цвела сирень, так здесь, на юге, в мае бушевала белая акация. Ветки были сплошь в цветах, словно в облаке. Земля лопалась от плодородия.
Обратить мир лишь на потребу человеку – такой взгляд был несвойствен Лермонтову. Земля цвела сама собой. Он тоже жил сам по себе. Чувство внутреннего равновесия, столь недостающего ему равенства между людьми, наедине с природой давалось без всякого усилия. Он подъехал к крепости Георгиевской поздним туманным утром. Накрапывал тёплый дождь. Дорога ныряла по холмам. Каждая мокрая травинка источала пряный аромат. Крепкие дубки стояли стеной, будто зелёная цитадель. Солдаты-пушкари и казаки-верховые зорко посматривали по сторонам. Колонна двигалась медленно. Лермонтов сошёл с повозки и шагал рядом с пушечным лафетом.
– Хорошие края, – уронил он полувопросом.
– Так точно, ваше благородие. Земли пропадает страсть, – охотно отозвался пушкарь.
– Почему же пропадает? Всё идёт в рост.
Солдат пренебрежительно шмыгнул носом. Был он конопат, рыжеус и, несмотря на раннее время, загорел до медного цвета.
– Непахано, несеяно – разве земля?
Солдат шёл на Кавказ, а нёс в себе Россию; держал оружие, но оставался крестьянином.
В Ставрополе Лермонтов задержался недолго. Там всё изменилось. Семейство Петровых переехало в Галич. Вместо покойного Вельяминова войсками Кавказской линии командовал Павел Христофорович Граббе, человек порядочный, но суховатый. Начальником штаба при нём состоял молодой полковник Траскин, отличавшийся неимоверной грузностью: ни одна лошадь не держала! Прямодушный Граббе не замечал его угодничества и склонности наушничать.
Служил здесь же, при губернском управлении, после олонецкой ссылки старый друг Святослав Раевский. Да на то время он оказался в отлучке; странствовал где-то по делам службы в астраханских степях при хане Букеевской орды...
Лермонтов предпочёл стеснительной должности командира взвода живое участие в чеченском походе генерала Галафеева. Добился назначения офицером связи при штурмовой колонне и двигался теперь вместе с отрядом. ...К пустому чеченскому аулу подошли на рассвете. Дорога была мокра от недавнего дождя. Серое, ещё словно неживое небо с тонкой серьгой месяца накрывало волнистую равнину. Убогие сакли и тополя, ручьи, бегущие по изрезанным балкам, и казацкие костры, меркнущие при свете разгорающегося утра, – всё дышало покоем, миром. А между тем начинались опасные места. И этот контраст безмятежности природы и настороженности человека вызывал недоумение. На западе возвышалась снеговая цепь остроконечных гор, сначала столь неясная и туманная, что он её принял за облака. И лишь толчок сердца подсказал о чём-то уже виденном в детстве. По мере того как солнце вставало, дальние вершины из белых становились розовыми. Их зубцы и грани выступали всё явственнее – и в то же время отдалялись; ковёр свежей травы в жёлтых мелких цветочках не мог служить для них подножием. Они казались роднёй небу, а не земле. Косое солнце, проясняя небесный купол, заставляло снеговой хребет выдыхать сизые облачка, и они перепоясывали вершины, так что те плавали уже без всякой связи с твердью.
Пока Лермонтов наблюдал небесную фантасмагорию, замычало и заблеяло тощее стадо, потянуло съестным дымом от солдатских костров. День начался.
Горы отплывали от дороги; белые паруса хребта таяли.
Передохнув, он ехал дальше, переходил вброд мутные глинистые реки Терек, Куму, Сунжу, Аргун. Копыта лошадей оскальзывались на мелких камнях. Дорога петляла между зелёной стеной леса, за которой почти не угадывались засеянные поля чеченцев. А ведь они, разумеется, были. Кружились птицы – сороки, грачи, – указывая на невидимое присутствие человека. Иногда лес распахивался, как ворот одежды, обнажая поросшую травами долину в маках и лютиках.
От крепости до крепости лежала, словно безбрежное море, враждебная страна – полмиллиона горцев, которые не желали признавать за турецким султаном право «уступить» их России, как произошло по Адрианопольскому договору[65]65
Адрианопольский договор (Адрианопольский мир) – заключён 14 сентября 1829 г.; завершил русско-турецкую войну 1828 – 1829 гг. По нему к России отошли устье Дуная с островами и ряд крепостей на восточном берегу Чёрного моря. Турция признала присоединение к России Грузии, Имеретии, Мингрелии, автономию Молдавии, Валахии, Сербии и Греции.
[Закрыть]. Аульские старшины пытались когда-то втолковать это самому «Ярмулу».
Грозное имя Ермолова до сих пор витало над Кавказом[66]66
Грозное имя Ермолова до сих пор витало над Кавказом, – Ермолов Алексей Петрович (1777 – 1861), генерал, соратник А. В. Суворова и М. И. Кутузова, полководец и дипломат. В 1815 г. назначен главнокомандующим на Кавказ. Николаю I были известны его оппозиционные настроения и некоторая близость к декабристам. В 1827 г. Ермолов получил отставку. Лермонтова с детских лет окружали люди, хорошо знавшие Ермолова (например, П. П. Шан-Гирей).
[Закрыть]. Он напоминал воинов Святославова века: спал на плаще и всегда при сабле. Кутузов отозвался о нём как о человеке, который рождён командовать армиями.
Через три десятка лет после Георгиевского трактата о добровольном присоединении Грузии к России[67]67
Через три десятка лет после Георгиевского трактата о добровольном присоединении Грузии к России... — Трактат этот заключён 4 августа 1783 г. в крепости Георгиевск по просьбе Ираклия II. Русское правительство гарантировало автономию Грузии и её защиту в случае войны.
[Закрыть] Ермолов застал Кавказ в разброде и вражде. Южные мусульманские ханства готовы были отложиться и лишь ждали сигнала от Турции и Персии. Северокавказские и дагестанские народы считали, что кровавыми набегами можно вынудить Россию платить дань, как ранее откупалась от них маленькая Грузия. (О могуществе и размерах северной империи они просто не имели понятия! Даже храбрый Шамиль, уже пленённый, сознался, что, знай он о величине России, едва ли взметнул зелёное знамя газавата[68]68
Газават – «священная война» мусульман против иноверцев.
[Закрыть].) «Золото не охрана от неприятеля, а приманка. Ценно только железо», – любил повторять Ермолов и действовал в этом духе. Военно-Грузинская дорога делила Кавказ на две части: к востоку Чечня и Дагестан, к западу Кабарда, Закубанье с черкесами. Начиная с 1818 года Ермолов стал строить крепости – Грозную, Внезапную, – прорубать в густых дебрях просеки к чеченским аулам. Сжимал кольцо вокруг неприступных дагестанских гор. А южные ханства при любом удобном случае подчинял русской администрации (один хан умер бездетным, другие бежали). Когда в 1827 году Ермолова сместили, его тактика применялась уже с меньшей энергией. У императора Николая был свой план покорения Кавказа: по восточному берегу Чёрного моря выстроить цепь укреплений и тем отрезать горцев от снабжения водным путём. Но при бездорожье, при отсутствии связи малочисленные гарнизоны находились в постоянной осаде: заготовка сена, рубка дров, рытье могил – всё оплачивалось кровью. От цинги и других болезней погибало до половины солдат, а при захвате укрепления горцы вырезали всех до единого. Узнав о падении Михайловского форта и то, что на линию обороны двинуты батальоны Тенгинского полка, царь отменил трёхмесячный арест Лермонтова, предписав тому спешно отправиться к месту службы. (Царица, пытаясь смягчить мужа, дала ему в дорогу «Героя нашего времени». Тот возвращался пароходом после похорон прусского короля. Ей было невдомёк зловещее окончание письма Николая Павловича к ней, после того как он разбранил книгу: «Счастливого пути, господин Лермонтов!») Одновременно с Лермонтовым на Кавказ поехал и Монго; он вышел было в отставку, но от царя ему передали, что в его годы прилично служить...
Аполлон Васильевич Галафеев – приземистый, в туго обтянувшем его походном мундире, с тяжёлыми щеками – был смел и распорядителен, но неудачлив. Майская погоня за Шамилем по предгорьям Дагестана не дала результатов: всё междуречье Андийской койсу и Аварской койсу примкнуло к мятежному имаму. В июле заволновались чеченские аулы по Сунже – отряд метнулся в другую сторону. А Шамиль с молниеносной быстротой возник там, откуда только что ушли войска.
Двухтысячный отряд Галафеева двигался медленно, отягощённый обозной артиллерией. Сапёры прорубали и расчищали путь. Перекликались сигналами рожков. Чаще всего доставалось арьергарду; чеченцы вдруг вырастали из-за каждого дерева. Пока разворачивали ряды, нацеливали орудия – всё исчезало.
Лермонтов носился под пулями верхом на белом скакуне в распахнутом мундире без эполет и в заломленной холщовой фуражке. Он перестал бриться, вдоль щёк курчавились баки, волосы отросли. Его отвага изумляла даже бывалых кавказцев.
На привале расчищали под лагерь длинный четырёхугольник. Костры горели всю ночь; за погасший огонь с солдат строго взыскивали.
Лермонтов делил походную палатку с Монго Столыпиным и художником Григорием Гагариным, который напросился в экспедицию с ящиком красок и переносным мольбертом. Из «кружка шестнадцати» здесь были также Сергей Трубецкой и Александр Долгорукий.
Часто собирались в просторной палатке офицера Генерального штаба Льва Россильона, которого Лермонтов открыто недолюбливал.
Однажды к тому привели старика чеченца из сожжённого аула; все бежали, а он замешкался.
– Куда ушли эти разбойники? – добивался Россильон.
Чеченец показывал то в одну, то в другую сторону.
Россильон в сердцах вскричал:
– Да ты, видно, слеп, старик?
Толмач перевёл.
Старик бросил на него презрительный взгляд и, пошарив в отвороте черкески, вынул иглу, затем выдернул волосок из бороды, продел в ушко и снова прехладнокровно вколол иглу в укромное местечко одежды. Россильон смотрел на него во все глаза. Когда офицеры вокруг расхохотались, он с досадой пожал плечами.
– Дикари, – пробормотал явственно.
– Ай да хват!– громко сказал Лермонтов, хлопнув в ладоши.
В другой раз, когда Лермонтов сидел в стороне за шахматной доской, а остальные играли в карты, зашёл разговор о характере горских племён: кабардинцы благородны, тогда как чеченцы скрытны и мстительны. Сакли бросают без сожаления, но в лесу на поредевшую цепь бросаются коварно, с кинжалами и шашками. Их излюбленный поэтический образ в песнях – волк: он без страха идёт на сильнейшего и умирает молча.
Смуглое лицо Лермонтова кипело раздражением. Бледные губы были искривлены насмешкой, он еле сдерживался.
Россильон, который сидел к нему вполоборота и не видел выражения его лица, говорил с обличительным пылом:
– Если горец – дитя природы, то это недоброе и испорченное дитя! Его легче взбунтовать, чем воззвать к здравому смыслу. Да и зачем ему здравый смысл? Тёмный ум охотнее питается самым невероятным вымыслом, чем фактами. Несбыточные надежды принимаются за чистую монету. Для горца словно не существует ни вчерашнего опыта, ни плана на будущее: все его мысли сосредоточены на сегодняшнем дне, на страстях и желаниях одного момента... Он кипуч и ленив одновременно, и нищета для него предпочтительнее, чем упорный труд.
Раздалось странное шипение, будто кто-то втягивал воздух сквозь стиснутые зубы. Россильон обернулся и невольно отпрянул: таким грозным показалось ему лицо низкорослого поручика.
– Упорный труд... простите, вы так выразились? ...на вытоптанных лугах и нивах? Или, может быть, в сакле с сожжённой тростниковой крышей? Не много ли вы требуете, барон, от этих детей природы? И почему вы их числите детьми? Не оттого ли, что, кидаясь в битву, они умеют отрешиться от страха за себя, пренебрегают расчётами завтрашнего дня и не вздыхают по прошлому? Это свойство зрелых воинов, а не малолеток.
– Но у них изначальная страсть к разрушению. Они готовы стоптать любые клятвы и ищут врагов охотнее, чем друзей. Русская державность несёт горцам освобождение от тьмы предрассудков, свет цивилизованности...
– Это сбудется в том дальнем будущем, которому мы не станем свидетелями. – Лермонтов вдруг запнулся.
Разжалованный декабрист Лихарёв, рядовой Куринского егерского полка, который не вмешивался в разговор, но очень внимательно слушал и наблюдал, стараясь понять людей нынешнего времени, подивился игре лермонтовского лица. Оно не то чтобы утихло, подобно пробежавшей буре, но энергия раздражения переключилась на энергию мысли.
– Во имя лучшего будущего творится страшное настоящее, – сказал Лермонтов тихо. – И наши с вами руки обагрены этим настоящим по локоть! Разве мы не подпадаем под правило всякой деспотии, когда раболепство перед высшими вымещается на возможности делать что вздумается с низшими? Наши солдаты трепещут перед своими офицерами и тем охотнее жгут беззащитные сакли горян.
Россильон не смог подавить волну недоброжелательства.
– Вы рассуждаете не как русский, – обидчиво сказал он.
– Зато вы как верноподданный, – живо отозвался Лермонтов. – Жаль, я не наветчик, чтобы передать приятное известие на Малую Морскую, в резиденцию графа Бенкендорфа.
Лермонтов с лёгким поклоном двинулся к выходу.
– Здесь слишком шумно, – сказал он. – Пойду к артиллеристам, предложу партию Мамацеву.
– Как неприятен этот человек! – сказал Россильон, отходя от ошарашенности, в которой его оставил Лермонтов. – Вообще он полон пустейшего самомнения!
– Лермонтов не «вообще», – мягко поправил Лихарёв. – Им движет искреннее чувство. Судит безжалостно, но сердце полно любви к отечеству.
– Возможно, что за вами правота, мой друг, – задумчиво вставил Карл Ламберт, поручик Кавалергардского полка, как и Лермонтов, офицер связи при Галафееве.
– Господа, господа, – примирительно вмешался Монго Столыпин. – В Мишеле просто сидит бес противоречия. Если кто угрюм или мямля, он так и сыплет остротами, вертится юлою. А столкнётся с человеком развязным, тотчас утихнет и смотрит исподлобья.
– Оригинальничает. Бабка набаловала, всё бы по его!
– Ну уж нет, – решительно сказал Руфин Дорохов, забияка и дуэлист, многократно разжалованный, а с нынешней кампании командир конных добровольцев-охотников. Он с шумом бросил карты. – Лермонтов – честная, прямая душа. И удалец, каких мало!
– Да, господа, – подхватил черноглазый Миша Глебов, товарищ Лермонтова по юнкерской школе, моложе его четырьмя годами. – Вспомните хотя бы его последнее молодечество! Пригласил нас, кажется, десятерых, – ты же был с нами, Трубецкой, помнишь? – поужинать за чертой лагеря. Денщики принесли бутылки, закуску, разожгли в ложбинке за кустами костерок. Было, конечно, не по себе, да успокаивала фигура дозорного казака в вечернем тумане. Лермонтов так нас смешил, что мы по траве валялись! А на обратном пути сознался, что никакого дозорного не было в помине: приладил чучело в бурке!
– Вот как? Тем не менее он мне решительно не по вкусу, – проворчал Россильон. – Нигде ему не сидится спокойно.
По Малой Чечне шли осторожно, пуще глаза берегли обоз («до него горцы особо лакомы»). Засады таились за вековыми стволами: солдат не подпускали к воде, они черпали её под пулями. На стоянках какой-нибудь мюрид вертелся волчком на коне, вызывая на бой. И смельчак непременно выискивался...
Одиннадцатого июля на заре отряд Галафеева покинул сожжённый аул Гехи и углубился в дремучий лес. Первыми на большую поляну вышли три батальона куринцев-егерей и сотня казаков. Опушку пересекала речка в отвесных берегах заросшего орешником оврага. На левом берегу громоздились естественной крепостью завалы из толстых деревьев. Было тихо, на выстрелы никто не отвечал. Наконец на поляну выбрался и обоз. Решили готовиться к привалу. Но едва артиллерия стала сниматься с передков, как затаившиеся в овраге чеченцы открыли со всех сторон убийственный огонь. Пришлось с ходу прыгать с высокого обрыва в воду и вступать в штыковой бой.
Белые солдатские фуражки против бараньих папах! Распахнутые груди – и от жары, и от презрения к смерти. Заросшие бородатые лица. Рукопашная. Скрежет, натужное дыхание, короткие вскрики. Чей-то предсмертный стон...
Когда четыре арьергардных орудия подпоручика Мамацева обогнули завал и принялись засыпать его гранатами, на артиллеристов сбоку кинулись горцы. Атаку помог отбить Лермонтов; с отрядом охотников он поспел вовремя. Но вскоре оставил их, чтобы участвовать в главном штурме. Его красная канаусовая рубаха из-под распахнутого сюртука, казалось, мелькала повсюду – он должен был скакать к Галафееву, докладывать о ходе боя, затем переносил его приказания обратно на передовую.
Бой уже длился несколько часов; чеченцев дралось до шести тысяч. Лишь шаг за шагом они пятились к лесу. К вечеру резня прекратилась, последние одиночные выстрелы смолкли, и оставшиеся в живых смогли перевести дух.
Солдаты присаживались к костру; каша уже булькала в котле на двух рогульках. Пороховой дым не разошёлся полностью, хотя от реки тянуло ветерком, и вместе с запахом пропитанной кровью корпии, заскорузлых повязок просачивался пряный диковатый запах горных трав и свежих листьев.
Лермонтов прошёл между костров, вспыхивая малиновой рубахой из-под накинутого мундира без эполет. Он ничего не спрашивал, ни о чём не говорил. Его присутствие здесь было естественно, как вся картина начинающейся мирной ночи после дневного боя.
Солдаты провожали глазами небольшую фигуру с широкими плечами и крупной непокрытой головой, она то сливалась с сумерками, то вновь озарялась костром. Охотник из казаков сказал, шевеля затрещавший сучок концом штыка, чтобы поддать пламени под днище котла:
– Их благородие со мною рядом были. Без спешки, без крика, а где пройдут, там делать больше нечего.
– Пуля-то дура, дура... ан и умна, – добавил другой, рябоватый, с заросшим скошенным подбородком. Их отрывистый разговор был всем понятен, и больше к этому не возвращались, со вниманием следя лишь за пузырящейся в котле кашей.
Черкес-толмач расположился на примятой траве поодаль, вынув из перемётной сумы зачерствевшую лепёшку и кусок острого овечьего сыра, который крошился у него на зубах, как твёрдое зерно под мельничным жерновом. Запах каши его не соблазнял нимало. Он сосредоточенно жевал, уставившись перед собою, словно не было позади солдатских костров, а вокруг лишь одни вечные горы, пристанище свободы. Он не вздрогнул и не повернул головы, когда рядом на корточки присел офицер, обмахиваясь от мошкары фуражкой.
Лермонтов только что уложил в повозку почти бесчувственного Мишку Глебова[69]69
...уложил в повозку почти бесчувственного Мишку Глебова... – Глебов Михаил Павлович (1819 – 1847), друг Лермонтова, его секундант на последней дуэли. По окончании Школы юнкеров в 1838 г. был выпущен корнетом в л.-гв. Конный полк. Вместе с Лермонтовым участвовал в сражении при р. Валерик 11 июля 1840 г., отличился и был тяжело ранен, летом 1841 г. жил в Пятигорске в одном доме с Мартыновым. Некоторое время после дуэли оставался возле убитого Лермонтова, ожидая возвращения других секундантов. Но затем, по словам Раевского, ускакал в Пятигорск, доложил о случившемся Ильяшенкову, был посажен на гауптвахту. Приговор о лишении Глебова «чинов и прав состояния» Николай I отменил «по уважению полученной им тяжёлой раны». В сентябре 1843 г. попал в плен к горцам, но через полтора месяца был выкраден благодаря обещанной за него награде. Убит в 1847 г. при осаде аула Салты.
[Закрыть] с туго стянутой повязкой ключицей, велев везти его быстрей к лекарям, но и не трясти понапрасну.
Теперь, когда потеря крови согнала с лица Глебова обычный смуглый румянец и он лежал с сомкнутыми белыми веками, его юность была особенно заметна. Ни молодечество, ни громкий голос, ни размашистые жесты не заслоняли более двадцати двух лет... Лермонтов хотел наклониться, поцеловать его, но испугался дурной приметы и только махнул рукой, чтобы трогали.
В стороне, в куче других тел, лежал безгласный Лихарёв, сорокалетний декабрист, сосланный на Кавказ за участие в мятеже на Сенатской площади. Серая шинель не придавила его, он оставался рассеянно-изящным при всех невзгодах. Лермонтов радовался, что рядом с ним есть человек, с которым они могли часами философствовать, нимало не заботясь о том, как кто взглянет, что офицер прогуливается дружески со своим солдатом.
Когда перестрелка почти утихла и оставалось лишь закрепиться на месте, Лермонтов, по обыкновению, взял Лихарёва под руку. От пережитого лихорадочного волнения хотелось отвлечься разумным человеческим разговором. Они медленно шли, вполголоса беседуя о том, что горец, умирая с воплем «Яшасын Шамиль!», так же тёмен и фанатичен, как и солдат, кинувшийся в штыковую атаку за батюшку царя.
– По правде, я не вижу в этом разницы, – сказал Лихарёв, – оба мифа равно далеки от повседневной заботы этих людей. Но сама идея отечества... – Он вдруг смолк.






