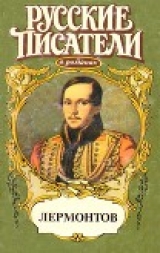
Текст книги "Лермонтов"
Автор книги: Лидия Обухова
Соавторы: Александр Титов
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 38 страниц)
– А мне не нужны благородные чувства. Не допущу повторения Сенатской площади! Мне нужны верноподданные, сударь! – Голос сорвался на фистулу.
Бенкендорф давно не испытывал на себе приступы царского гнева и невольно втянул голову в плечи.
Николай тяжело дышал, как после бега, но белые пятна уже сходили с его лица.
После минутного молчания он добавил успокоенным голосом:
– На Кавказ, Александр Христофорович, под пули. С чувствами...
Бенкендорф понял, что царь усмехнулся, но не видел этого, склонясь в низком поклоне. Мысленно он проклинал старуху Арсеньеву, а заодно и самого себя за мягкосердечье.
За вечерним чаем возник разговор в царской семье о Лермонтове.
– Он смело держится в седле, – прогудел великий князь Михаил, приземистый, с широким лицом и толстым затылком. – Пусть потужит по гвардейскому ментику. Вернётся ниже травы, ручаюсь. Полковое братство верноподданно.
Царь пожал плечами, но понял брата. Лишение парадировок и блестящего гвардейского фрунта ему самому мыслилось как безусловный урок судьбы. Братья Романовы обладали мышлением, вытянутым в ниточку, будто носки сапог в строю. Шаг назад или шаг в сторону просто не попадали в поле их духовного зрения.
...Человек жёстко приторочен к месту и времени. Но кроме родины в пространстве, у него может существовать особая отчизна – тот кусок истории, к которому он чувствует себя наиболее пригодным. Был ли Лермонтов «человеком декабризма», лишь по ошибке родившимся на десять лет позже? Мог бы он воскликнуть, как Одоевский, спеша к Сенатской площади: «Ах, как славно мы умрём!» – захотел бы сказать это? Следует ли довериться его горестному четверостишию:
Моё грядущее в тумане,
Былое полно мук и зла...
Зачем не позже иль не ране
Меня природа создала?
Может быть, в своём времени Лермонтову было не только тесно: оно стало для него смертельно несовпадающим?
ГЛАВА ПЯТАЯ
– Меня восхищает этот карнавал, который ежеминутно течёт перед глазами. Готов сидеть на скамье хоть целый день и смотреть до изнеможения. Что за преуморительные физиономии! Какие курьёзные платья! Вон тот в нанковом сюртуке и с золотой кокардой на залихватском картузе. Или дама в вуалях под охраной черкесской папахи... Поистине водяное общество – уродливый сколок с большого света! То же разделение по ступеням, та же невидимая субординация. Генерал не потерпит, чтобы его стаканчик висел на крючке наравне с капитанским. Да инвалид-служитель и сам не посмеет ошибиться! Нет, ты обязательно обрати внимание. Сатин[33]33
Сатин Николай Михайлович (1814 – 1873) – переводчик Байрона и Шекспира, друг А. М. Герцена и Н. П. Огарёва, участник их кружка в Московском университете; в 1835 г. был вместе с ними арестован, затем выслан в Симбирскую губ. С Лермонтовым познакомился в Пансионе, где учился одновременно с ним. Летом 1837 г. поэт бывал у него на квартире в Пятигорске, где произошла его первая встреча с В. Г. Белинским. В конце того же года в Ставрополе Лермонтов вновь встретился с Сатиным и через него и Н. В. Майера познакомился с декабристами С. И. Кривцовым и В. М. Голицыным.
[Закрыть], с каким беспокойством публика следит, где поместят их посуду!
– А в каком ранжире обретаешься ты сам?
Лермонтов небрежно пожал плечами.
– Я брезглив и хожу с собственной кружкой.
Молодые люди замолкли, но продолжали следить за проходящими. Жидкая тень липок, не так давно привезённых с лесистых склонов Машука, чертила сквозные узоры по песку центральной аллеи пятигорского бульвара и на зонтиках гуляющих барынь. Каждая двигалась в сопровождении маленького двора, где ей спешили услужить или занять беседой. Дама глубокомысленно кивала, между тем как быстрые взоры ревниво обшаривали толпу, выделяя туалеты встречных соперниц, проходивших мимо с таким же точно чванливым и настороженным видом. То, что доходило до ушей обоих приятелей, касалось материй скучных: как часто и в каком количестве следует пользовать целебные воды?
На Горячей горе каждые полчаса сторож отбивал время большим колоколом, давая знать, когда начинать и когда кончать приём ванн в Николаевских купальнях. Для верности он сверялся с солнечными часами, которые были установлены в сквере. Дни на водах протекали в хлопотах.
– Да здесь, кажется, пропасть хорошеньких, – продолжал Лермонтов, развалясь с удобством на скамье. – Кто та провинциалочка в розовом капоре с опущенными глазками? Ты ведь всех, верно, знаешь, Сатин?
– Ошибаешься. Я не жуир. Первое время лежал недвижим, еле стал передвигаться... Но барышню, как и её родительницу-майоршу, ту, с бородавкой на лбу, по случайности знаю; обе из Симбирска, места моей высылки. Госпожа Киньякова с дочерью. Мать лечит печёночные колики, выпивает в день по полведра воды из источника, а дочка отчаянно скучает. Её прозвали здесь по-английски Мери.
– Мери? Княжна Мери... – почти беззвучно повторил Лермонтов. Душа его внезапно напряглась. – На ближайшем балу в четверг в ресторации Найтаки буду с нею танцевать. Сам увидишь.
– Я туда не хожу, Лермонтов. Сил нет, да и жаль времени, которое можно употребить с пользой. Поверь, ты разочаруешься. А вот эта в самом деле мила! – воскликнул он с молодой живостью, опровергая предыдущие постные слова. – Сколько естественности в каждом движении! Походка без вычурностей. Да и лицо ласковое.
Лермонтов пристально посмотрел на приближающуюся троицу: отставного подполковника – его явственно подтачивала болезнь, щёки были впалы и сероваты от бледности, – сухопарую даму, выступавшую с энергией матери-командирши, и их привлекательную дочку, которая без робости бросала вокруг любопытные взгляды. Лермонтову она ещё издали обрадованно улыбнулась уголками губ.
– Представь, это мои знакомцы, – вполголоса бросил он Сатину. – Почтеннейшее семейство Мартыновых из Москвы. Дочки все красотки... Перед нами средняя, Наталья.
Мартыновы приближались. Лермонтов поднялся и сделал навстречу несколько шагов. Приложился почтительно к ручке маменьки, козырнул подполковнику и с оттенком шутливой дружественности кивнул барышне.
– Не ждали подобной встречи, – в нос с кислым видом произнесла барыня. – Имели о вас от Николя совсем другие сведения.
– Немощи одолели, милостивая государыня Елизавета Михайловна! Приехал весь в ревматизмах, из коляски на руках вынесли. Здесь лечусь по методе доктора Реброва, – бойко ответствовал Лермонтов, слегка склонив голову.
Та подозрительно окинула взглядом его свежее загорелое лицо.
– Теперь-то находим вас, слава Богу, в отменном здоровье, Михаил Юрьевич.
– Меньше недели как покинул госпиталь. Укрепляю ноги долгими прогулками, ежедневно беру ванны.
– Мы тоже купили билеты на ванны, – обрадованно вставила барышня. – Будем часто встречаться, и вы развеете здешнюю скуку, Мишель, не правда ли?
– Почту за удовольствие, Наталья Соломоновна! Можно нанять верховых лошадей и выезжать в горы. Вы запаслись амазонкой?
– Разумеется! – Наталья Мартынова одарила его мерцающим взглядом из глубины глаз.
Мать дёрнула её за руку.
Затем все четверо обменялись церемонными прощальными поклонами, и Лермонтов с облегчением вернулся к Сатину.
– Спасу нет от знакомых, – пробормотал он, глядя вслед Мартыновым. – Можно взобраться на верхушку Эльбруса и там натолкнуться на московскую кокетку под охраной свирепой матушки.
– Однако же признайся, она сделала на тебя впечатление?
– Натали Мартынова? Нимало. Единственная женщина, которой я сейчас увлечён, это княжна Мери.
– Тёзка симбирской барышни? Проживает на водах?
– Надеюсь, что скоро появится... Не стану интриговать: она лишь лицо романа, который я не делаю, а пишу.
Сатин весело расхохотался. Его бледное болезненное лицо слегка зарумянилось. Да и солнце припекало всё жарче.
– Вот это славно! А я уж подумал за болтовнёй, что ты вовсе отстал от литературы, впал в апатичность. И это тогда, когда твои стихи ходят по всей России! Симбирская молодёжь рвёт их из рук.
Лермонтов поморщился. Любой разговор о литературных занятиях вызывал в нём замешательство и тайное смущение. Он не умел говорить о поэзии вслух; она не должна служить предметом шуточек и сарказмов!
Сатин заметил заминку и чутко переменил разговор.
– С кого же ты возьмёшь черты своей княжны? Какую розу здешнего цветника предпочтёшь? Твоя Мери, разумеется, красавица?
– Не уверен. В ней должна быть сдержанность чувств, ирония и одновременно простодушье. Внутренние черты важнее внешних. Хотя, разумеется, без красоты женщина немногого стоит. Только ведь и красоту можно искать в разном. Для меня очень важны походка и прямой нос. Что касается волос... О, взгляни-ка на ту стройную даму с длинными локонами!
– Кажется, это госпожа Иванова. Шляпка почти заслонила ей лицо.
– Тем лучше. Вдруг оно окажется глупым или уродливым? Не потерплю разочарования. Знаешь, Сатин, в чём разница между светской женщиной и кровным скакуном? При близком соприкосновении женщина всегда проигрывает. А к породистой лошади привязываешься всё теснее и пламенней!
– Полно, брат, щеголять цинизмом и оттачивать попусту злословье. Хочешь наговориться всласть, приходи ко мне ближе к вечеру. Здесь нынче Виссарион Белинский, умник преотменный. В русской словесности живёт, как в собственном дому... А соседом у меня доктор Майер, философ и самый оригинальный субъект на Кавказских водах. Придёшь?
– Благодарствую. Непременно.
– Кстати, Белинский ведь из наших, из Московского университета.
– Эх, Сатин, сам я давно не ваш.
– Да уж, выкинул штуку, облёкся некстати в мундир... Добро бы был из тех пустоголовых, которым кроме как в уланы и податься некуда. – Сатин с искренним сокрушением махнул рукой. – До встречи?
– До встречи. Впрочем, обожди. Всё собираюсь спросить, за что тебя два года назад выслали? Московские происшествия по дороге в Петербург теряются.
– Пустое. За пасквильные куплеты. Распевали хором что-то вроде:
Русский император
В вечность отошёл.
Ему оператор
Брюхо распорол...
А добрейший граф Бенкендорф обиделся. Жандармы страсть как чувствительны! Автора, Сергея Соболевского[34]34
Автора, Сергея Соболевского, ты его знаешь... – Соболевский Сергей Александрович (1803 – 1870), эпиграмматист и острослов; друг Пушкина, Грибоедова, Баратынского, Дельвига. Владелец известной библиотеки (25 тыс. книг). С Лермонтовым встречался у Карамзиных, А. И. Тургенева. Сближала их и страсть к эпиграммам и карикатурам, возможно, Соболевский бывал иногда соавтором Лермонтова.
[Закрыть], ты его знаешь, в Шлиссельбургскую крепость, меня, Герцена и Огарёва в ссылку. Такой вот фарс с куплетами!
Приятели расстались. Сатин, придыхая, поплёлся в гору вдоль прямой улочки с белыми опрятными домами, в одном из которых он квартировал, а Лермонтов, глядя ему вслед, чтобы отогнать неприятные мысли, стал рассеянно думать о том, что Пятигорск при самом своём рождении имеет уже разграфлённый, какой-то утомительно немецкий вид! Ему стало жаль того живописного поселения Горячие Воды из своих детских воспоминаний с войлочными кибитками и наскоро возведёнными балаганами под тростниковой кровлей, с кремнёвыми осыпями, по которым он, бывало, карабкался, едва переступал порог дома; с толкотнёй окрестных горцев, волокущих за рога лохматых баранов на продажу, с кучами новых пахучих седел и жестяных кувшинов затейливого орнамента, выбитого молоточками аульных мастеров... Он мог бродить по ежедневной ярмарке часами, выворачиваясь из-под руки Христины Осиповны или ускользая от зазевавшегося дядьки. Уши с восторгом ловили гортанный говор, вскрики и зазыванье; глаза купались в разноцветье цыганских юбок, черкесских бешметов, бараньих папах, ермолок, солдатских бескозырок, шляпок и платков. Всё было празднично и свободно вокруг. И в то же время ощутимо сквозило опасностью: даже на прогулку не отправлялись тогда без конвоя...
Лермонтов обвёл глазами усмирённые склоны. С гор текло горячее марево. Дамы притаились под зонтиками, подносили к губам платочки, часто, мелко дышали. Лермонтов, подставив лицо солнцу, медленно побрёл прочь. Голова его уже была занята первой встречей Печорина с княжной Мери. Как того поразил её бархатный взгляд, притушенный ресницами! Образ княжны вырисовывался всё яснее с каждым шагом. Она походила немного на застенчивую симбирскую барышню Киньякову; ещё более и несомненнее на бойкую Наталью Мартынову. Но были в ней также твёрдость и самоуважение стройной дамы в длинных локонах. Лермонтов всё прибавлял и прибавлял шаг.
Но, как назло, попадались знакомцы! Бывший улан Колюбакин[35]35
Бывший улан Колюбакин... – Колюбакин Николай Петрович (1811 – 1866), поручик Оренбургского уланского полка, разжалован в 1835 г. (за пощёчину командиру) в рядовые Нижегородского драгунского полка, стоявшего на Кавказе. Познакомился с Лермонтовым в апреле 1837 г. в госпитале в Ставрополе, а летом они встретились в Пятигорске. В его поведении и биографии много общего с Грушницким. Однако он был ещё и разносторонне образованным человеком, даровитым, храбрым и честным, дружил с декабристами. Так что Колюбакин был лишь одним из прототипов Грушницкого. Впоследствии Колюбакин был сенатором, одним из видных военно-административных деятелей на Кавказе.
[Закрыть], разжалованный за пощёчину командиру, привстав ему навстречу со скамьи, не удержался на раненой ноге – и Лермонтов проворно подал ему уроненный костыль. Колюбакин был храбрец, забияка, но непереносимый фат. Всего лишь тремя годами старше его самого.
– Последние дни ношу эту гадкую шинель, – громко сказал он, самодовольно оглядываясь по сторонам. – Приказ о производстве в прапорщики уже подписан.
– Рад за тебя, – рассеянно отозвался Лермонтов, – хотя не понимаю, чем армейский мундир лучше? Особенно от здешнего портного.
– Хотя бы тем, что, если мне захочется, смогу вызвать тебя на дуэль! – захохотал Колюбакин.
– По числу дуэлей мне тебя не обогнать. Попробую потягаться в волокитстве, – отшутился Лермонтов, ускользая таким манером от его навязчивости.
Вдали мелькнул зонтик дочери доктора Реброва. Её звали Ниной, а это имя имело странную власть над Лермонтовым. Учтиво проводив барышню, он пустился к дому, уже не оглядываясь.
Скорее за стол. К рукописи. Плотно сшитые листы сероватой бумаги дожидались его у распахнутого окна, в которое торкались ветки черешни.
Всё, что он видел, слышал – даже порхнувшее мельком, прихваченное боковым зрением, – немедленно включалось в активный полёт воображения. Дальние мечты и повседневные мелочи словно перемалывались жерновами, рождая черты ещё не существующих личностей. Их жизненный путь совершался на его глазах, восходил и закатывался, подобно звёздам на чётком августовском небе. Нестройная вереница требовала трезвой работы мысли. Одних следовало задвинуть подальше, приберечь на будущее их нетерпеливый воинственный натиск, дать им наплескаться в рыбном садке замыслов. Но других предстояло вывести в первый ряд за руку, приободрить, оправить складки их одежды – словом, держаться старшим братом или скорее терпеливой нянькой. Новое творение не могло возникнуть само собою. Когда он грыз в нетерпении перо – это было лишь внешнее движение мысли. Лоб пылал, но сознание оставалось ясным. То, что возникало рывком, сердечным сжатием, требовало сплава со спокойно льющимся ритмом русской речи.
Необъятность родного языка захлёстывала, словно он сам был островком в океане. Но в иные минуты его перо приобретало могущество маршальского жезла. Он видел вымышленные им лица так ясно, будто их высвечивала молния! Они не толпились бестолковыми новобранцами (которые и ему, бывало, попадались во взводе), а маршировали рядами обстрелянных воинов; их обветренные умные лица были повёрнуты прямо к нему.
Откуда всё это бралось в нём? А откуда берётся свет небесных звёзд? Откуда внезапный порыв даёт нам иногда столь сильное ощущение бытия, что по коже бегут мурашки? Разве талант стучится в двери, предупреждая мир о своём явлении?! Следовал ли Лермонтов лишь тайным нашёптываниям из глубины собственного существа или весь был обращён вовне – Бог весть!.. На свой счёт он не обольщался: обуревавший его поток образов требовал ещё и труда каменотёса! Перед натиском фантазии он становился скромен и исполнителен.
Однажды он рассеянно перелистывал попавшую под руки старую неоконченную рукопись о горбаче Вадиме. Его так и подмывало пройтись пером по страницам заново – столько несуразностей стиля подмечал теперь глаз: ангельские черты... демонская наружность... роковая клятва... Слава Богу, цветистость слога осталась позади. Он старается держать перо в подчинении, писать внятно для всех. Сочинитель одинок только по способу труда. Разве не бесспорный коллективист тот, чей взгляд неотрывно направлен в толщу человеческой массы? Кто в явлениях жизни ловит странности сильного характера с таким же стоическим упорством, как и раскапывает серую однотонность малозаметного существования? И находит в обоих блестки поэзии! Люди, послужившие толчком, давно исчезли с горизонта, их судьбы пошли собственным путём. Но тень на страницах успела облечься плотью и обрела иную цель существования...
Лермонтов покинул Петербург в досаде и страданье, чувствуя вину перед Раевским, сосланным из-за него в Олонецкую губернию.
На следствии по делу о непозволительных стихах на смерть Пушкина он держался твёрдо, никого не называл, пока генерал Веймарн, который вёл допрос, не прибегнул к коварному приёму – а ведь Лермонтов был ещё так молод и простодушен! – не сказал, что послан прямо от государя. Что это царь хочет слышать правду от офицера Лермонтова, присягавшего ему. А тем, кто переписывал стихи, ничего-де не будет. Нет, Лермонтов не испугался угрозы, что при запирательстве его сошлют в солдаты, хотя в покаянном письме Раевскому великодушно выставил это как причину («вспомнил бабушку... и не смог. Я тебя принёс в жертву ей»). Воспитанная с пелёнок дворянская верность престолу, магические слова «спросили от государя» – вот что толкнуло его к минутной слабости! Со времён юнкерской школы на парадах при приближении императора, вознесённого над всеми крупом серого жеребца, и ему, скептику и протестанту, невольно передавалась заразительная искра бездумного обожания. Он тоже ловил цокот приближающихся копыт в сладком забытьи, рот его сам собою раздирался в «ура». И за это, пребывая потом в желчном похмелье, он без жалости язвил себя. Лермонтов упорно вырывался из предрассудков своей среды. Но явным это сделалось гораздо позже. Пока что его протест воспринимали как незрелую браваду. Недаром грубоватый брат царя Михаил Павлович, пробегая глазами громовые «шестнадцать строк», недоумённо пожал плечами; «Эк, разошёлся. Будто он сам не из старинного рода?»
Минута острого отчаяния, в которой Михаил Юрьевич сознался одному лишь любезному другу Святославу, миновала не вовсе бесследно. Но чем смятеннее было у Лермонтова на душе, тем беспечнее представлялся он окружающим! Словно находил особое наслаждение представляться пустейшим из самых пустых перед людьми, которых не уважал и не считал себе равными. Щеголял на их глазах презрением к судьбе и ядовитыми шуточками.
Две недели в Москве прошли в суматошных удовольствиях. Вечерами ходил в театры, утром навещал родню, а днём развлекал и смешил до упаду в доме однокашника по юнкерскому училищу Николая Мартынова его сестёр[36]36
...в доме однокашника по юнкерскому училищу Николая Мартынова... — Мартынов Николай Соломонович (1815 – 1875), убийца Лермонтова. Сын пензенского помещика полковника С. М. Мартынова. Вместе с Лермонтовым учился в Школе юнкеров, выпущен в декабре 1835 г. корнетом в Кавалергардский полк (где тогда же служил убийца Пушкина Ж. Дантес). В 1837 г., командированный на Кавказ, остановился в Москве и почти ежедневно встречался с Лермонтовым. Возвратившись в полк, в Петербурге продолжал часто с ним видеться, равно как и на Кавказе летом и осенью 1840-го. В феврале 1841 г. вышел в отставку в чине майора и в апреле приехал в Пятигорск. Был внешне красивый, но незначительный человек, всегда озабоченный успехом у женщин, обманувшийся в расчётах на быструю военную карьеру на Кавказе.
[Закрыть].
Но едва сел в дорожную кибитку, как наигранное оживление исчезло. Силу ему давало только одиночество. Люди вокруг расслабляли; кого-то он жалел, от кого-то отталкивался. Словно плыл и всё время размахивал руками – держался на воде.
Твёрдой землёй становилось лишь одиночество.
Лермонтов ехал и ехал, а Кавказ всё не приближался. По-старому мелькали пологие холмы и крестьянские пашни с прямыми бороздами – будто гребнем чесали волосы. Деревни возникали не кучно, не сбившись по-овечьи, а растягивались в нитку по течению реки или вдоль дороги, тоже вытянувшейся и устремлённой вперёд.
Что-то богатырское, но и кроткое, заглядывающее в душу было в постоянно меняющемся пейзаже. Небо кудрявилось облаками, мягко обтекало лесистый окоём. Бесконечная дорога, так созвучная внутренней потребности каждого русского человека, навевала на путника попеременно то унылость, то удальство. Смена полярных чувствований, составляющих народный характер!
В потряхивании возка на колдобинах, в звоне бубенцов, к которому ухо скоро привыкало, уже почти не слыша его, в ветровом шуме, упругом или мимолётно-ласковом, – повсюду существовал ритм, струение поэтических форм. Лермонтов бормотал стихи, свои и чужие, не разбирая этого, лишь бы вписывались в дорожную грусть мыслей, в дорожную весёлость сердца...
От Москвы до Ставрополя было 1359 вёрст.
В Ставрополе он сразу попал в родственные объятия генерала Петрова[37]37
В Ставрополе он сразу попал в родственные объятия генерала Петрова. – Петровы — родственники Лермонтова со стороны матери. Павел Иванович (1790 – 1871) служил на Кавказе с 1818 г. под началом А. П. Ермолова; в 30-е гг. генерал-майор, начальник штаба войск Кавказской линии и Черноморья. Его дружба с Ермоловым продолжалась и в годы опалы славного генерала. При содействии Павла Ивановича Лермонтов был отправлен за Кубань в отряд А. А. Вельяминова. Анна Акимовна (урожд. Хастатова; 1802 – 1836), жена Павла Ивановича, двоюродная тётка Лермонтова. Аркадий Акимович (1825 – 1895), их сын, впоследствии участник Крымской кампании, поэт-дилетант; дочери – Мария, Варвара и Екатерина, старшая, которая впоследствии была замужем за С. О. Жигимондом; она обладала музыкальными способностями, написала романсы на стихи Лермонтова «Казачья колыбельная песня» и «Молитва».
[Закрыть]. Павел Иванович Петров был старым кавказцем, его ценил в своё время Ермолов, приговаривая, что тот полк, которым командует Петров, будет наилучшим в России. Ныне он исправлял должность начальника штаба Кавказской линии и Черномории.
Он обрадовался приезду Лермонтова не только потому, что ценил его – и тотчас попросил сделать для себя список стихов на смерть Пушкина, – но ещё более оттого, что его покойная жена любила своего двоюродного племянника. Анна Акимовна скончалась год назад, и резкий в проявлении чувств Павел Иванович до сих пор не мог примириться с потерей. Шурин Аким Акимович Хастатов, служивший при нём адъютантом, шумливый храбрец ростом под потолок, мало утешал его. Осиротевших детей Петров любил, но в своём подавленном состоянии скупился на ласку. Приезд Лермонтова несколько оживил мрачный дом. Тринадцатилетнему Аркадию, воспитаннику пансиона швейцарца Тритена в Одессе, он тотчас сочинил экспромт, и сёстры Маша и Варя, сопя от нетерпения, рвали друг у друга альбомчик. Старшая Катя присела к фортепьяно, принялась подбирать к новорождённым стихам мелодию. Она умела перекладывать лермонтовские стихи на музыку...
Ставрополь был тогда немноголюден; каменные дома строились лишь в центре. Главная площадь была незамощённым полем на краю оврага. Весной становились явственны полынные запахи степи. Но ещё сильнее пахло лошадьми и амуницией: половину населения составляли солдаты.
Лермонтов, простуженный ещё в пути на резких апрельских ветрах с дождями, в Ставрополе окончательно слёг. Стараниями Петрова он был переведён для поправки в Пятигорский госпиталь.
Вечером по пути к Сатину за ним увязались трое незнакомых офицеров, тоже лечившихся на водах. Они слонялись возле ресторации Найта́ки, не заходя внутрь по причине карточного проигрыша, и ввалиться в чужой дом на дармовую выпивку им показалось соблазнительным. Но тесная комнатка с устойчивым запахом свечного нагара, на столе же вместо бутылок раскрытые фолианты (Сатин взялся за перевод Шекспира), развеяла их смутные надежды. Лермонтов уселся на свободный стул. «Банда» уныло последовала его примеру.
Кроме хозяина в комнате обретался забавно-уродливый мужчина в расстёгнутом сюртуке армейского медика и молодой человек в штатском, сутуловатый, с впалой грудью. Взгляд его светлых задумчивых глаз встречал каждого ещё на пороге. Он сидел неловко, жался на стуле, выдавая застенчивость и отсутствие лоска, хотя лицо светилось воодушевлением, а голос, когда они вошли, звучал напористо и задорно.
Прерванный разговор споткнулся, перейдя на малозначительные частности.
Однако тратить время на пустословие было решительно не в характере Белинского! То, что близкие именовали в нём «излишней энергией», составляло неотъемлемую часть его натуры. В стремлении жаждущего ума не застывать в праздности он не признавал никаких препон.
Внезапный перескок от ленивой болтовни к пылкому славословию французских энциклопедистов (Белинский наугад раскрыл книгу, и она оказалась «Записками» Дидро) произвёл на Лермонтова комическое впечатление. Самый дельный собеседник при горячности и многословии немедленно проигрывал в его глазах.
– Гениальность Вольтера отдаёт плесенью прошлого, – небрежно отозвался он. – Уверяю вас, что нынче его не взяли бы в порядочный дом даже гувернёром!
На секунду Белинский был озадачен, но тотчас со всей серьёзностью пустился в возражения. Он перешёл к философии Шеллинга и Гегеля, захвативших его с недавних пор. Находясь попеременно под обаянием то одной, то другой идеи, он быстро перерастал свои увлечения – «отрезвлялся», по его собственному выражению, – но всякий раз они овладевали им целиком.
Лермонтов отделывался шуточками; горячность Белинского подзуживала на колкие реплики. Не лишённые, впрочем, тонкого смысла, если в них хорошенько вдуматься, как молчаливо признавал про себя Сатин.
Белинский сдерживался изо всех сил. Ему всё ещё хотелось вернуть разговор в дружественное, а главное, литературное русло. Он много знал стихов Лермонтова в списках от общих знакомых. И не то чтобы захотел польстить ему – это было решительно не в нраве неистового Виссариона, – а утихомирить желчь задиры в армейском мундирчике. (Белинский плохо разбирался в отличиях обмундирования. Ему одно и то же, что гвардейская треуголка с перистым султаном, что барашковый кивер гречевником у нижегородских драгун. Ведь он стремился вернуть для себя в Лермонтове не солдафона, а поэта!).
– Вы не можете возражать против самого себя, – живо сказал он. – Разве не о гармонии мира и всего сущего в нём трактует ваша пьеса «Когда волнуется желтеющая нива...»? Да позвольте, я ведь её знаю слово в слово. – И он начал читать стихи.
Но чем больше искренности, увлечения звучало в голосе Белинского, тем неуютнее ощущал себя Лермонтов. «Банда», которую он так некстати затащил в гости к Сатину, уже переглядывалась, скучая и подтрунивая над чтецом.
– Как это прекрасно, как верно! – сказал Белинский почти шёпотом. Он потерял дыхание под конец и слегка закашлялся. – Здесь много таинственного, невыговоренного, но внятного сердцу. Какое успокоение души: «И счастье я могу постигнуть на земле...»
– Вы так полагаете? – Лермонтов подмигнул приятелям. – Но разве счастье возможно «постигнуть на земле» в окружении одной лишь флоры? Здесь явно не хватает дамского элемента для полноты картины! Нет, пьеска решительно не удалась! Я писал её, помнится, на гауптвахте и поневоле пребывал в монашеском состоянии.
Приятели грохнули жеребячьим смехом.
Белинский дрожащими пальцами ухватился за шляпу и, задыхаясь от обиды, невнятно пробормотал хозяину, что его неотложно ждут дела. В сторону Лермонтова он едва поклонился.
– Знатно проучил умника, – сказал кто-то из «банды».
Сатин, закусив губу, неодобрительно покачал головой:
– Ты, братец, удержу не знаешь в своих колкостях. Боюсь, что он тебя почёл отъявленным пошляком.
– Полно, – отозвался Лермонтов, с некоторым смущением поглядывая на безмолвного доктора Майера, за молчанием угадывая его проницательность. – Ей-богу, само собою получилось. А так... что мне в нём? Хотя смерть не люблю пиитических натур с их восторгами.
За остальное время в Пятигорске Белинский и Лермонтов видели друг друга лишь мельком и сухо кланялись издалека.
А ведь в душе Лермонтов был тронут тем, с каким воодушевлением принял его стихи этот московский литератор, статьи которого он и сам не пропускал в журналах! Время для разговора было неудачно выбрано.
Впрочем, сказалось и нечто другое. Лермонтов, может быть, впервые натолкнулся на то, что написанное им живёт уже своей собственной, отдельной от него жизнью.
Для него каждый стих был выражением минутного переполнения души. Мыслью, которая сверкнула именно в определённый миг и имела веский внутренний повод.
Он отлично помнил тот хмурый февральский день с липким сырым снегом на стёклах здания Генерального штаба, ну ничем решительно не отличавшегося от соседних домов, с такими же лепными веночками и гипсовыми ленточками над парадным входом. И всё-таки это была тюрьма, где ему не разрешалось иметь ни чернил, ни тетрадки для записей. И он с нетерпением ожидал дядьку Андрея Ивановича: тому было велено завёртывать обеденную посуду в чистую серую бумагу. На ней-то обгорелыми спичками Лермонтов и писал тогда эти стихи.
Первое ошеломление от жандармского дознания притупилось. Хотя он ещё не полностью отошёл от чувства вины перед Славой Раевским (Святослав утешал потом, что уже прежде того жандармы имели точные сведения о распространении листков с лермонтовскими стихами. Сам он не запирался, пробуя только прикинуться глуповатым и опрометчивым – что, разумеется, никого не обмануло! Но Лермонтов не утешился и до конца жизни считал это пятном на совести, не прощал себе, казнясь за минуту слабости. «Я пожертвовал тобою ради бабушки», – твердил он Раевскому. Это было почти так. И всё-таки... Вспоминая, Лермонтов готов был застонать от стыда).
Так что же он чувствовал, набрасывая мало разборчивым слитным почерком умиротворённые строки о желтеющей ниве? С кем примирялся? От кого получал прощение, столь умилившее Белинского?
Он баюкал самого себя плавным размеренным стихом, как усталого испуганного ребёнка. Рисовал картины сладостные и отрешённые от мутных заснеженных окон, от двери с караульным по ту сторону, от всей унижающей процедуры допросов и объяснительных записок... И всё это поверх незаживающей раны: Пушкина больше нет! Иностранишка, проходимец всадил ему с десяти шагов пулю в живот. Тому уже минуло месяц. Немой, навсегда безгласный, заколоченный в лиловый гроб – Пушкин?!
Память делала зигзаг, ходила странными кругами.
...Но всё-таки откуда «желтеющая нива», если окружающее было столь жестоко и печально? Конечно, он сочинял импульсивно, подчиняясь порыву, но нынче поневоле задумался, припомнив, какие выводы сделал из его стихов умница Белинский (Лермонтов отлично понимал, что его земляк – редкий умница, а если и дразнил его, то скорее для проверки, в виде испытания: можно ему довериться впредь? Стоит ли перед ним приоткрыться?).
Лермонтов привык к чёткости мысли, принуждал себя к анализу – такова была одна из форм его беспощадного самовоспитания.
Ощущал ли он себя счастливым, радостным, когда складывались те стихи? Ах, конечно же нет. Душа просто устала от тревоги, позволила себе передышку, подобие смутного сна наяву... Как же Белинский не обратил на это внимание? Ведь здесь всё сказано:
Когда студёный ключ играет по оврагу
И, погружая мысль в какой-то смутный сон,
Лепечет мне таинственную сагу
Про мирный край, откуда мчится он, —
Тогда смиряется души моей тревога.
Тогда расходятся морщины на челе, —
И счастье я могу постигнуть на земле,
И в небесах я вижу Бога...
Тревога души способна смириться лишь тогда, когда... А вот «когда» этого не было на самом деле, и, видно, оно уже не выпадет ему в жизни. На роду не написано...
– Что нос повесил, Лермонтов? – Приятель увесисто хлопнул его по плечу. Другой бы согнулся от бесцеремонного шлепка, но литые мускулы Лермонтова отбросили ладонь, словно под мундиром у него не плечо, а камень.
Они шли по пятигорскому бульвару с его низкими деревцами в зыбком свете недавно поставленных фонарей.
– Да вот, – отозвался Лермонтов, – смотрю на ту, в длинной мантилье. В женщинах, мон шер, важна порода, то есть изящная нога.
– Тогда остаётся приподнять ей юбки, – последовал глубокомысленный совет.
Лермонтов цепко смерил его взглядом; ради щегольства тот носил на водах вместо мундира горский бешмет с галунами. Сущая находка для Грушницкого!..
На следующий день Лермонтов зашёл к Сатину, не застал его и по внезапному наитию постучался к доктору Майеру. Тот не удивился; по толстым выпяченным губам скользнула понимающая усмешка. Хромая, он отступил вглубь комнаты с приглашающим жестом.
Некоторое время оба молчали, поглядывая друг на друга, пока одновременно не рассмеялись.
– Доктор, – сказал Лермонтов, – у меня такое ощущение, что вы хотите ответить на вопрос, который я ещё не успел задать?
– Пожалуй. Вы бросили взгляд на стопку книг, и вас заинтересовало, чем именно я увлечён? Так вот: ничем. Я набит таким количеством всевозможных знаний, что в чужих идеях нет нужды. Лучшие советы – мои собственные! Вас посетило недоумение: зачем же весь этот книжный хлам? Не так ли?
– Вы положительно ясновидящий! Сознаюсь, подобная мысль у меня мелькнула.






