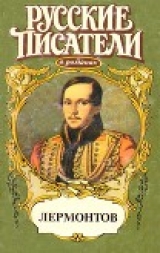
Текст книги "Лермонтов"
Автор книги: Лидия Обухова
Соавторы: Александр Титов
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 38 страниц)
Лермонтов от окна сказал, словно только вспомнив:
– Вот, кстати, а где Надёжка? Я её, помнится, не видал, как приехал.
– И-и, спохватился! Её ещё позалетошний год окрутили. Мужик непьющий, старательный, даром что вдовец. Они ведь, козлиное племя, любят зенки заливать: то на поминках, то на девятый день, то на сороковины... А там и приохотятся.
Лермонтов нетерпеливо прервал:
– Надёжка охотой шла за него?
Бабушка поджала губы.
– На то не её воля, а моя. У мужика на руках сиротинки остались, мал мала меньше. Должна я о них порадеть? Девка крепкая, гладкая. И чужих, и своих вынянчит.
– У неё свои тоже есть?
– Чего ж не быть, мой друг, коли замуж отдали? Да тебе-то к чему голову забивать? Была Дёжка и нет Дёжки... Полна девичья их, толстомордых...
– Пойду хоть на крыльце постою, – рванулся Лермонтов. – Мочи нет от духоты!
– Шубу накинь, Мишынька, – неслось вслед. – Воздух студёный не глотай!..
Но он не пошёл на крыльцо, а поднялся к себе, в мезонин. Комнаты были пусты и как-то мертвы от снежного дня: розовые и жёлтые цвета мебели и обоев блекли на глазах. Лишь лампадка с детской простотой теплилась у киота смородиновым огоньком.
Лермонтов присел и задумался. Шуршание снега по стёклам напоминало ему шлёпанье войлочных подошв. Так осторожно, словно вечно конфузясь, ступала по тархановским полам Христина Осиповна. Её доброе овечье лицо всплыло перед ним, поморгало короткими ресницами, губы беззвучно зашептали по-немецки и сомкнулись. Исчезла, как не бывала. Ворвался на миг и папенька в заиндевелой шубе, шумливый, раздражительный, ещё молодой, нимало не напоминающий того понурого, рано поседевшего человека, каким он увидал его в последний раз. Лермонтов старательно перебирал в памяти многие лица. А тоскливая, виноватая мысль о Дёжке не отступала. Сколько с ним случилось всего за это время! А у неё ничего. Подневольное венчанье – в этом-то он не сомневался! – да бородатый мужик в курной избе. Не в Тарханах, в двух шагах от барской усадьбы. Бабушка уж позаботилась, отправила подальше, в Михайловку. Спасибо, что вовсе не сбыла с рук... И ведь не спросишь! Кого? О чём?..
Душу по-прежнему саднило. Он в чистых натопленных комнатах, а она, может быть, в ту самую минуту по колено в снегу бредёт по лесу с вязанкой.
«Не жениться же мне на ней было!» – оборвал самого себя. И тотчас понял: не то, не о том. Будь проклято рабство, безжалостное к ним обоим!
Унимая нервную дрожь, решительно присел к столу. Макнул перо в заботливо наполненную чернильницу. Единственный, кто мог бы его понять, – Святослав. Но и тому он не станет открываться. Обнажать сумбур и сумятицу чувств.
Перо быстро бежало по глянцевитой бумаге, успокаивая, примиряя.
«Слушаю, как под окном воет метель; снег в сажень, лошади вязнут...»
Раздались шаги бабушки. Приоткрыла дверь, молча постояла у порога: Мишынька пишет, слава Богу, отвлёкся.
Он не оборачивался. Неоконченное письмо отставлено, на листке начальные строки новой поэмы:
Наш век смешон и жалок, – всё пиши
Ему про казни, цепи да изгнанья.
Про тёмные страдания души,
И только слышишь муки да страданья...
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
Редко перед кем открывалась бездонная глубина внутренней жизни Лермонтова. Столкнувшись с ним, почти каждый ощущал нечто неприятно-неподатливое, будто наткнулся на каменную глыбу или стену. Он не дарил быстрого понимания.
Лермонтов воспринимал мир как очень молодой человек, но судил его со взрослой зоркостью. Он был по-молодому честолюбив и почти по-детски тщеславен, по-молодому готов наедине с собою лить поэтические слёзы, являвшиеся не столько признаком печали, сколько следствием переизбытка чувств. По-молодому горд. И в то же время умел сожалеть о прошедшем – которое ещё не было его собственным! – со скептическим пониманием следить за игрой жизни, словно сам стоял уже над нею, был знающ и равнодушен ко всему.
Эта двойственность восприятия мира сказалась и на его отношении к Пушкину.
Оно было столь сложным, что Лермонтов инстинктивно не вдумывался: просто жил образом Пушкина, как какой-то добавочной вселенной! Переходил от восторга к горечи, от досады к тихому обожанию. Пушкин царствовал в поэтических строфах – и был принижен на светских раутах! Щуплый, с вертлявыми движениями и высоковатым голосом – он весь был блистательная неуместность. И двигался не так, и говорил иначе.
Лермонтов видел его издали. Странная робость заставляла его избегать тех гостиных, где он мог встретиться со своим кумиром и быть ему представленным. Чего он опасался? Что не понравится Пушкину? Или что Пушкин не понравится ему? Он слишком обожал его и боялся разочарования.
Разочарование – одно из самых мощных сокрушительных свойств лермонтовской души. Очаровывался он ненадолго и вполсилы; бес анализа не оставлял его ни при каких обстоятельствах. Зато разочаровывался со всей страстью. Словно это и был тот вулкан, который способен привести в бурление энергию, родить новые мысли.
Лермонтов боготворил Пушкина и, наверное, не изменился бы к нему, доведись им встретиться. Пушкинская гармония была для него притягательной прежде всего потому, что казалась недостижимой.
Терпимый же Пушкин, скорее всего, Лермонтова не воспринял бы вовсе: тот мог показаться ему из-за желчности мелким, из-за мрачности – напыщенным. Лермонтовская натура, направленная в одну сторону, одержимая чувством протеста, была антиподом Пушкину, который бушевал чувствами и оступался в жизни, но был трезв и уравновешен в мыслях и в стихах.
Однажды Лермонтов совсем уже было собрался подойти к Пушкину, когда перемигивания, шёпот, едва заметные покачивания головой за спиной мрачного поэта, особенно беззащитного перед толпой, наполнили грудь такой острой жалостью, что горло перехватило и слёзы навернулись на глаза. Лермонтов бросился вон из зала.
Лермонтов вправе был предполагать своё внутреннее родство с Пушкиным: ведь он застал того в драматическое время, когда от пушкинской жизнерадостной проказливости, от ясного и дружелюбного Пушкина ничего уже не осталось.
Пушкин видел почти в каждом новом приближающемся к нему человеке клеврета Третьего отделения. Издерганный слежкой, он становился мнителен.
Поэт был одинок и трагичен. А если временами натягивал на себя маску беспечности, то Лермонтов-то был мастер разгадывать любые маски! Тем более такую прозрачную у человека, столь мало способного к притворству. И столь любимого Лермонтовым! Одно это не могло не обострить его интуицию. Встречаясь с Пушкиным всякий день, друзья-приятели Вяземский, Жуковский, Карамзины ничего не замечали, кроме скверного характера и неуместных выходок любезного «арапа». А вовсе незнакомый офицерик, который видел его мельком, издали, где-нибудь на лестнице или из-за колонны, понимал и предчувствовал ВСЁ.
Начиная стихи «Смерть поэта», Лермонтов ещё не знал, о чём и как станет писать. Страшная весть потрясла его до глубины, раскачала внутренние волны. Перо подчинилось подземному гулу, но куда всё это вынесет его, он не знал ни в первый, ни в третий, ни даже на седьмой день. Волны внутри себя и волны, приносимые извне, сталкивались, сшибались... Погиб поэт! Какая боль. Какое злодейство!
Первый листок мгновенно испятнала клякса.
Его противник хладнокровно
Наметил выстрел...
Не кончив строку, он перескочил на следующую:
Пустое сердце бьётся ровно,
В руке не дрогнул пистолет...
Ага! Вот оно как: не «наметил выстрел», а «навёл удар». Заменил слово «противник» на «убийцу». На полях перо, словно само собою, чертило чей-то лисий профиль: длинные усы, острые глазки, вытянутый вперёд подбородок... Ба! Да это же Дубельт. Жандармский генерал. Тоже столыпинский родственничек[30]30
Да это же Дубельт. Жандармский генерал. Тоже столыпинский родственничек... – Дубельт Леонтий Васильевич (1792 – 1862), генерал-майор, начальник штаба корпуса жандармов с 1835 г., с 1839 г. одновременно управляющий III Отделением Собственной Его Императорского Величества канцелярии. Один из гонителей Лермонтова. Родственными связями с Дубельтом (был женат на племяннице Н. С. Мордвинова, приходившегося тестем Арк. А. Столыпину) пользовалась бабушка Лермонтова, ходатайствуя перед ним за внука. Сам Лермонтов к Дубельту за помощью не обращался.
[Закрыть], чёрт его побери... Нет, не стану отвлекаться.
Сюда заброшен волей рока,
Подобный сотне беглецов.
Искатель счастья и чинов...
Лермонтова посетило внезапное воспоминание: когда ему случалось сталкиваться с Дантесом, поражало, с какой лёгкостью тот менял формы поведения! Бывал то циничен, то беззаботен или чванлив до высокомерия, в зависимости от окружения. Но всегда бесстыден, всегда душевно пуст.
Его душа в заботах света
Ни разу не была согрета
Восторгом русского поэта.
Глубоким пламенем стиха...
Что-то ещё от недавнего любования этим холёным жеребцом осталось на дне души... Но зачем оскорблять лошадей? Хищник, хорёк, забравшийся в чужой дом, обитатель подполья... В ушах раздался самодовольный хохот: Дантес веселился над собственной площадной остротой. Зачеркнуть о душе. Потаскун фортуны!
Смеясь, он дерзко презирал
Земли чужой язык и нравы,
Не мог щадить он нашей славы...
Пушкин, Пушкин! К чему были ему все эти люди? Скопище мерзавцев, наглых клеветников...
Зачем от мирных нег и дружбы простодушной
Вступил он в этот свет, завистливый и душный...
Пушкин становился понятен до нестерпимого ожога сердца. Уже невозможно было провести черту между ним и собою...
Двадцать девятого января поутру Лермонтов стоял у окна с разрозненными мыслями, бесцельно следя за экипажами и пролётками. По Садовой взад-вперёд торопливо и как-то бестолково сновали люди. Он смотрел и не понимал: о чём можно хлопотать и печься, если умирает Пушкин?
Придворный медик Арендт приехал покрасневший от резкого ветра, суетливо грел рука об руку, хотя обычно такое было не в его манере. Спросил Лермонтова о самочувствии, но тот махнул рукой.
– Что с ним?
Арендт сбросил с лица докторскую полуулыбку, щёки обвисли. Сел со вздохом.
– Часы, часы... да скорей бы. Муки не по вине.
Он начал рассказывать, как Пушкин бредит от невыносимой боли, как, опоминаясь, зовёт друзей. И они приезжают один за другим, подходят к его ложу, жмут пылающую руку, целуют в лоб, покрытый испариной, со слипшимися волосами. Молча рассаживаются по углам.
У ворот по всей Мойке толпы чужого народа. Стоят, вытягивая шеи. На каждого покидающего дом взирают с надеждой и враждебностью: жив ли? Словно эти-то выходящие и есть огнестрельщики, душегубцы...
– А как спрашивают про него? – невнятно сказал Лермонтов, но Арендт понял.
– Как про поэта. У народа чутьё: ехал как-то к дому Хитрово, замешкался свернуть, спрашиваю, как лучше проехать? «К дому-то героя?» – спрашивают. «Какого героя?» – Мне невдомёк с налёту. Отвечают: «Папенька ихний был герой». А другой добавил: «И муж со знаменем на поле преставился. Сам Бонапартец перед ним шапку скинул». Да... не забыты ни Кутузов, ни молодой Тизенгаузен... Василия Андреевича Жуковского, слыхал вот, называют царским учителем. А Пушкина – поэтом.
Арендт говорил, а сам всё проницательнее, озабоченнее смотрел на Лермонтова.
– Нервическая лихорадка не унимается ваша. Пить валериану, лежать спокойно.
Лермонтов опять махнул рукой.
– Что же государь?! Неужели спустит французику, сукиному сыну? Доктор, вы всё знаете... что дворец?
Арендт вздёрнул и опустил брови. Правое веко у него дёргалось.
– У двора свой счёт, – отозвался нехотя.
Когда Арендт уехал, Лермонтов присел к столу и над готовыми стихами написал не задумываясь, в той же лихорадочной поспешности, как и жил все эти дни:
Отмщенье, государь, отмщенье!
Будь справедлив и накажи убийцу...
– К вам братец, Николай Аркадьевич, – раздался от порога голос Вани, дворового человека, который не отлучался от Лермонтова с гвардейской школы, числясь денщиком.
Лермонтов досадливо дёрнул плечом, хотел чем-нибудь отговориться. Не успел. Столыпин, брат Монго, уже входил в комнату с обычной покровительственной улыбкой, которая так раздражала последнее время Лермонтова.
– Да ты, мон шер, в самом деле нездоров? А я-то, грешным делом, подумал: службой манкируешь, затеял новую интрижку... Оказывается, смирнёхонько хвораешь? Именно в то время, когда стал положительно в моде! Во всех салонах барыни читают твои стихи про Пушкина. Жуковский отзывается самым одобрительным образом. А великий князь Михаил Павлович[31]31
...великий князь Михаил Павлович (1798 – 1849) – младший брат Николая I, генерал-фельдцейхмейстер; в 30-е гг. командир Отдельного Гвардейского корпуса и главный начальник военноучебных заведений, почему и знал Лермонтова ещё по Школе юнкеров. Педант и формалист в соблюдении военного устава, Михаил Павлович наказывал Лермонтова за несоблюдение отдельных его положений. Так, по его приказу поэт в 1838 г. был арестован на 15 дней из-за слишком короткой сабли, с которой был на параде, а в 1839 г. – за неформенное шитье на вицмундире. Опасаясь либеральных влияний, был недоволен сплочённостью офицеров л.-гв. Гусарского полка, среди которых были и члены «Кружка шестнадцати», считал это следствием сходок на квартире Лермонтова и Столыпина (Монго). Однако неправильно было бы считать, что он последовательно преследовал Лермонтова, некоторые действия великого князя говорят даже о его благожелательном отношении к поэту. Например, он не без сочувствия отнёсся к нему в конце апреля 1840 г., когда тот письменно обратился к нему в связи с требованием А. X. Бенкендорфа признать ложными показания о выстреле в сторону на дуэли с Барантом. Содействовал также смягчению приговора Лермонтову по делу о дуэли и помогал ему в продлении отпуска, данного поэту в феврале 1841 г. для свидания с бабушкой.
[Закрыть] даже пошутил, что, если ты примешься отдавать взводу команду стихами, он тебя упечёт под арест... хе-хе...
Комната как-то внезапно стала наполняться. Следом за Столыпиным с шумом и звоном шпор возникли трое гусар – заехали по пути после дежурства. Дуэль Пушкина с Дантесом продолжала быть у города на устах; все четверо тотчас заговорили о ней.
Лермонтов нервно кусал губы. Понимал, что терпения его хватит ненадолго.
Бабушка вошла при начале разговора вместе с двумя родственницами, молоденькой и старой, на которых Лермонтов настолько мало обратил внимания, что потом едва мог вспомнить, кто его навестил. Хотя бабушкину сестру Наталью Алексеевну недолюбливал за вздорность и мелочность суждений, а её дочь Анюта, третий год как вышедшая замуж за Философова, адъютанта великого князя Михаила, была предметом его былого детского обожания[32]32
...её дочь Анюта, третий год как вышедшая замуж за Философова, адъютанта великого князя Михаила, была предметом его былого детского обожания, – Философова Анна Григорьевна (1815 – 1892), дочь Григория Даниловича и Натальи Алексеевны Столыпиных, двоюродная сестра матери поэта – М. М. Лермонтовой. По мнению некоторых исследователей, Анна Григорьевна – предмет «второй» любви Лермонтова. С её именем связывают его стихотворения «К...» («Не привлекай меня красой...»), «Дереву», прозаические заметки «1830 (мне 15 лет)», «Моё завещание», а также драму «Menschen und Leidenschaften». Философов Алексей Илларионович (1800—1874), полковник; с 1828 г. – адъютант великого князя Михаила Павловича; с 1838 г. – воспитатель младших сыновей Николая I; позднее – генерал. Двоюродный дядя Лермонтова по жене Анне Григорьевне, урожд. Столыпиной. Высоко ценил поэзию Лермонтова и, будучи близок к придворным кругам, не раз хлопотал за него. В 1837 г. он через В. Д. Вальховского старался облегчить участь поэта на Кавказе. К нему же Лермонтов обращался с письмом, содержащим просьбу о свидании с Е. А. Арсеньевой в ордонансгаузе во время ареста 1840 г. В 1839 г. по совету А. И. Философова Лермонтов переработал «Демона» для чтения в придворном кругу.
[Закрыть].
Обе дамы уселись в креслица, раскинув бархатные подолы.
Лермонтов в домашнем архалуке, с закутанным горлом полулежал на ковровом диване, подсунув под локоть подушку с золотыми шнурами. Он приподнялся с рассеянной вежливостью.
Николай Аркадьевич Столыпин сидел перед ним на стуле с твёрдой спинкой в напряжённой позе легавой, вскидывая иногда с ироническим недоумением брови на длинном гладком лице, обрамленном тощими бачками.
Трое однополчан устроились поодаль, старательно дымя трубками.
Едва вошли дамы, гусары вскочили, щёлкнули каблуками и поспешно застегнули вольно распахнутые красные доломаны. Затем приняли прежние позы.
– Надымили-то, насмолокурили, – заворчала бабушка, отгоняя от лица синеватые струйки. – Здорово ли это для тебя, мой друг? Прими советы Арендта, а то шибче прежнего расхвораешься. Про что толкуете? Слышу из-за дверей: Пушкин да Пушкин... А я вам вот что скажу: не в свои сани забрался молодчик! А севши, коней не сумел удержать. Вот они и помчали его в сугроб, а оттуда путь прямиком в пропасть. – Увидев, как искривилось в болезненной гримасе лицо внука, словно хотел что-то сказать, да с трудом удержался, она заторопилась: – Недосуг мне чужие косточки перемывать. Хотели, голубушки, проведать Мишыньку? Вот он. Авось четверть часа не поскучаете ни хандрою его, ни лихорадкою.
Она выплыла, шурша тугим платьем, а прерванный было разговор вспыхнул снова.
– Эти проклятые авантюристы, дантесы, иностранишки ползают по России, как тли по растению; пожирают его и гадят на нём, – с невыразимым отвращением сказал Лермонтов.
– Дантеса принудила к дуэли честь, – возразил Николай Аркадьевич. И не без ехидства ввернул: – Твоя желчь пристрастна. Разве ты сам не приятельствовал с ним?
В памяти Лермонтова немедленно всплыл единственный раз в конце прошлой осени, когда после пирушки сначала у гусар в Царском Селе, а потом в Новой Деревне, где стояли кавалергарды, они, очутившись вдвоём с Дантесом, проходили мимо ресторанного зеркала, и Лермонтов увидел, какой же рядом с ним плечистый красавец. Но – страшный: он есть и его нет. Осязаемо большое тело. И ничего внутри. Нет человека! Его передёрнуло.
Не пожелав отозваться на реплику Столыпина, он продолжал своё:
– Коль уж Россия дала им кров, то именно честь обязывала не подымать руку на лучших людей государства!
– Напрасно апофеозируешь Пушкина, – сказал Столыпин, скидывая воображаемую пылинку с обшлага отлично сшитого сюртука. Служа в Коллегии иностранных дел по ведомству Карла Васильевича Нессельроде (которого Пушкин озорно представил карлой Черномором) и будучи завсегдатаем салона его жены, он одевался с особым тщанием.
– Пушкин – наша слава! – хрипловато выкрикнул Лермонтов. – Убить его было хуже разбоя!
– Помилуй, Мишель, ты увлекаешься. При дворе числят Пушкина прежде всего камер-юнкером. И хочешь знать о нём мнение одного значительного лица? Препустой и заносчивый человек – вот как тот отозвался ещё ввечеру. Заметь, никто не оспаривал!
Анюта Философова, зашедшая мимоходом и присевшая словно невзначай, не сняв капора, следила за разговором с острым любопытством, приоткрыв малиновый ротик.
– Неужто правда, что госпожа Пушкина сделала историю с приёмным сыном барона Геккерна? Ах, опрометчиво! Можно ли так забываться перед лицом света? Но муж-то, зная, что дурен собою... Разве не глупо было ему требовать от неё верности?..
– Пушкин погиб жертвою неприличного положения, в которое себя поставил, – глубокомысленно изрёк гусар.
– Уверяю, мадам, вдова не долго пробудет вдовою. Траур ей не к лицу, – вставил Столыпин, обращаясь к дамам.
Лермонтов зажал ладонями уши. Его трясло.
– Это невыносимо! – простонал он. – Что вы говорите?! Прошу тебя, Николя, замолчи...
Тот пожал плечами.
– Изволь. Но если причиной женская ветреность...
– Подлое петербургское общество причиной! Гадость высшего света! – закричал Лермонтов, страшно вращая глазами. – Уходите немедленно! Не могу видеть... – Схватив клочок бумаги, он стал что-то быстро писать, ломая карандаши один за другим и уже не обращая ни на кого внимания.
Анюта Философова тихонько ойкнула и попятилась к двери. Её мать с обиженным видом тронулась следом.
– Твоё ребячество переходит всякие границы, – отозвался Николай Аркадьевич. – Даже если при этом рождаются стихи. – Он с достоинством выпятил губу.
Выйдя уже за дверь, довольно громко сказал переполошённой бабушке – та перехватила его на полдороге к прихожей, – что Мишель, разумеется, умён, но ум имеет разные свойства, в их числе врождённое чувство приличия. И не худо бы ему приобрести навыки в сем последнем.
Что возразила Елизавета Алексеевна, не было слышно, но к внуку она не вошла, то ли озадаченная, то ли вконец разгневанная.
Гусары тоже потянулись за остальными.
– Плюнь, Лермонтов, – посоветовал один. – Вели, брат, сварить пуншу. Отлично помогает от горловой хвори!
Оставшись один, Лермонтов неожиданно заплакал.
Слёзы взрослого человека вызывают недоверие и даже отчасти отвращают: что-то безвозвратно окаменело уже в чертах лица, слёзы на нём, как промоины в глине.
Но в Лермонтове оставалось много детского. Он плакал, омываясь слезами. Рот коверкался совсем по-младенчески, без стыда и самолюбия.
Он плакал по Пушкину, уже неделю как убитому; по оскорблённой поэзии, которую подобно нищенке оттирают в углы; по отчизне, которая с рабским неведением дремлет на необозримых просторах в убогих снах. И только самого себя он не оплакивал.
Слёзы высыхали на воспалённом лице; удары сердца, беспорядочно сотрясавшие грудную клетку, обретали определённый ритм. Он неподвижно смотрел перед собою пылающим взором, словно только сейчас смутно ощутив собственное предназначение.
А вы, надменные потомки...
Стихи распахнулись сразу во всю ширь, как ворота. Их не потребовалось собирать по строчкам и рифмам. Они оказались выкованными из цельного листа железа и, подобно железу, громыхали, как вызов дальнего будущего убогости этого дня.
Лермонтов писал не отрываясь. В густых сумерках перо брызгало, скрипело, но безошибочно находило свой путь. Оно казалось не менее одушевлённым, чем рука поэта – смуглая, с гладкой горячей кожей, с крепкими пальцами. Движимая не только усилием мышц, но ещё более – быстротою мысли.
Стихи всегда были лермонтовским дневником, его памятными заметками. В меняющихся стихотворных ритмах словно выявлялась сама архитектура личности. С собою он говорил раскованно, не сдерживая дыхания...
Таким и застал его Раевский, без стука поспешно вбежавший в сумеречную комнату, на ходу сбрасывая на руки слуге камлотовую шинель на байке. Мишель бледен до синевы, глаза как две мерцающие свечи.
– Слава, вот... – сказал, с трудом разжимая стиснутые зубы.
Раевский хотел спросить о чём-то, но Лермонтов повелительным кивком указал на ближайший листок, и Раевский послушно подобрал его, подошёл к окну, ловя последний отблеск дневного света, близко поднёс к глазам:
Вы, жадною толпой стоящие у трона.
Свободы, гения и славы палачи.
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда – всё молчи...
Поражённый, оглянулся на нахохленную, почти слившуюся с темнотой фигуру. Поспешно дочитал до конца. Незримо захлебнулся. Начал читать снова. Лермонтовский набат уже гудел и в нём.
– Но ведь это... это же воззвание?! Послушай, не время болеть... Непременно надобно, чтобы всё, всем... – Он бормотал невнятно, охваченный какой-то неотступной мыслью. И вдруг гаркнул, распахнув дверь: – Вздуйте свечи! Самовар нам! Встряхнись, Миша. Работы на всю ночь. А поутру засажу свою канцелярию... Кто там? А, Юрьев. Садись, брат, тоже писцом будешь. Андрей Иванович, – адресовался он к переступившему порог лермонтовскому дядьке с зажжённым шандалом в вытянутой руке. – Побольше света, а к самовару булок. Пусть Дарья покруче чайку заварит. Михаилу Юрьевичу для горла полезно, да и мы с улицы прозябли. Вина ни-ни. И – никого сюда, как на часах за дверью стой. Просидим до рассвета.
Пока Раевский хлопотал, Николенька Юрьев пробежал глазами ближайший листок и даже присвистнул в изумлении. Вернулся к его началу. Задумчиво стал складывать листок к листку всю кипу.
Он был добрый малый, этот дальний родственник Столыпиных. Прекрасно декламировал стихи и восхищался Лермонтовым ещё со времён военного училища, которое они кончали вместе. Первым естественным движением его был заботливый испуг за Мишеля. Он даже полуобернулся к тому, приоткрыл рот – и не произнёс ни слова. Немудрёную его душу охватило – как знобящей струёй ветра – ощущение некоего вверенного им троим высокого жребия.
Николай проворно скинул драгунский мундир, придвинул поближе шандал с четырьмя свечами под синим жестяным козырьком, обмакнул перо. Сказал просто:
– Ну что ж, братцы, я готов.
...И всю эту ночь, метельную, ветреную, Лермонтову ощутимо дул в лицо ветер судьбы. Он был счастливо возбуждён, собран и решителен не только в каждом движении, но даже в мимолётной мысли. Ночь подвига. Груда листков готовилась завтра выпорхнуть на улицы...
Едва стихи разлетелись по Петербургу, Лермонтов всем стал известен, хотя оставался безымянным. Но у поэзии есть свойство: она высвечивает поэта до полной узнаваемости каждому, кто прочёл его не поверхностно. Не столкнувшись ни разу в повседневном быте, они – поэт и читатель – уже сблизились, почти породнились через дыхание из уст в уста.
В эти вьюжные дни с порывами сырого ветра по Петербургу, кроме мельтешения снега, совершался полёт бумажных листков. Их читали повсюду. И то, «другое общество», которое так яростно и не скрываясь оплакало Пушкина, и посетители модных гостиных, принявшие стихи как опасную новость.
Их принесли на Мойку Александрине Гончаровой, чтобы она передала вдове. Ещё не оправившись от обмороков и судорог, Наталья Николаевна жадно читала всё, что касалось мужа.
– Как это правдиво, – прошептала она. – Но кто же сочинитель?
– Кажется, какой-то гусар. Лементов или Лермонтов.
Наталья Николаевна прикрыла глаза, и слёзы вновь брызнули из-под опухших век. Её беспомощный мозг осаждали обрывки недавнего прошлого. Мелькали лица; голоса перебивали один другого:
«Мадам, можете ли вы понимать чувства людей, которые вас окружают?» – это нашёптывает Геккерен, снедаемый страстью к интригам, ревностью и страхом, что Жорж из-за русской простушки сломает себе карьеру. «Ты живёшь как во сне, сестра. Мне страшно от этого». – «Отчего же? Что в этом трагичного?» – «То, что к трагическому концу приходят другие, не ты». – «Александрин, ты выражаешься так, будто я виновата перед тобою. А виновата передо мною ты!» – «Ну, не делай вид, что ревнуешь! Ты топала ножкой на Александра, потому что так принято. Ты слыхала, что существует ревность, но сама не способна испытывать её...» – «Тебе неведома страсть, моя раскосая мадонна. Может быть, поэтому я так обожаю тебя. Ты – берег, не достижимый ни одним пловцом». – «Натали, когда вы входите в зал, вы раскрываетесь как цветок!» – «Не из вашего букета, месье Жорж». – «Цветком владеет тот, кто осмелится вдохнуть его аромат. О, ваши губы!.. Если я завтра возьму барьер и моя кобылка обгонит всех, вы поцелуете меня?» – «Какие глупости, Жорж. Ах, лишь бы завтра не было дождя!» – «Мадам, ваши шторы были опущены, когда я дважды утром проезжал мимо вашего дома. Почему? Вам неприятно изъявление покорности терпеливого поклонника?» – «О нет, государь, как можно! Я принимала модистку». – «Значит, завтра в саду мы сможем полюбоваться новой шляпкой? Она розовая?» – «Голубая, государь, и отделана стеклярусом, который похож на лёд». – «Как ваше сердечко. Мой Пушкин держит в плену снежную деву... Мадам, ждём вас завтра. Вы лучшее украшение моего, двора. Хотя ваша красота возбуждает в обществе комеражи. Адьё, мадам!.. Как мила и как простодушна...» – «Но ведь мир вокруг не коробка с шоколадными конфетами, милая Натали́...» – осторожно увещевала Софья Карамзина. Наталья Николаевна плакала и затыкала уши.
А лермонтовские стихи продолжали свой бесшумно-громовой полёт.
Один из множества, некто Бурнашев, литератор с острым репортёрским носом, известный под хлёсткой кличкой Быстропишева, приткнулся к задней комнате кондитерской Вольфа, спросив чернил. Стихи он получил от знакомого улана и невольно вспомнил день, когда возвращался от гроба Пушкина. Не потому что был близок с тем при жизни, но тысячи шли прощаться с прахом поэта, смерть уравняла в правах званых и незваных. Растревоженный величием минуты, Бурнашев переписывал лермонтовские строки с таким волнением, будто сочинил их сам – и именно в эту минуту! Подобно железным гвоздям, они вбивались ему в череп. Какое-то время легкомысленный писака жил в совсем ином, несвойственном ему мире.
Поистине стихи оказались с зарядом пороха внутри! Когда Дантесу, сидевшему под арестом, прочли их, топорно переводя с русского на французский, тот поначалу лишь презрительно пожал плечами, но потом впал в раздражение.
– Я вовсе не ловец чинов, не авантюрист, – восклицал он. – Меня на службу пригласил российский император, я принят в высшем свете, куда этот захудалый дворянчик не войдёт дальше порога. Как же, отлично его помню: кривоногий и без всякой выправки! Я бы вызвал его к барьеру, если бы распоряжался своей свободой... – Дантес закатил глаза и жалобно застонал, словно от сильной боли в раненой руке. Поднёс к ноздрям флакончик с нюхательной солью. Флакончик был оплетён золотой сеткой, в пробку вделан маленький бриллиант: вещица для туалетного столика кокотки, а не из обихода кавалерийского офицера!..
Поначалу смазливый кавалергард перетрусил до колик, вообразив, что его станут сечь плетьми в каком-нибудь тайном каземате. Но снисходительность военного суда и ворох дамских записочек приободрили, он снова принялся фанфаронить, отзываясь о Пушкине уже не иначе как о посредственном версификаторе, каких-де в Париже десятками. Во всём, что он говорил и делал, было много напускной развязности, рисовки. Но стихи Лермонтова задели за живое. Припечатали, как клеймом. Мало того, что карьера в России по милости Пушкина безвозвратно оборвана, что от выходок этого ревнивого бретёра он изнервничался до того, что на дуэли рука прыгала и, выпалив наугад, он угодил противнику в живот – это же стыд для такого стрелка, как он, хотя бы в грудь или в голову! – так на тебе, теперь ещё весь Петербург потешается стихотворным пасквилем!
Дантес бранился и топал ногами.
Дежурный офицер постоял у дверей, послушал, отошёл с бормотаньем:
– Бульварная сволочь. Чешутся руки дать этому Дантесишке плюху!
Когда Лермонтова взяли под стражу, история приняла другой оборот. Хотя поначалу Бенкендорф был склонен не раздувать страстей и отнестись к поэтической вспышке «мальчика Лермонтова» как к пустому ребячеству. Такого же мнения держался и великий князь Михаил, командир гвардейского корпуса.
Но царь решил иначе. Пока Бенкендорф колебался, докладывать или нет о дерзкой приписке к уже известным стихам Лермонтова – пусть экзальтированным, но не переступавшим общепринятых границ, – одна из великосветских сплетниц, «язва гостиных», сунула ему листок с шестнадцатью строками, ехидно приговаривая: «Вот, граф, как нас отделали!» Медлить стало нельзя. Шеф жандармов отправился на доклад к царю.
И опоздал. Когда вошёл, у того на столе уже лежал знакомый листок, присланный с городской почтой. Анонимная надпись на стихах «Воззвание к революции» была для Николая подобно красной тряпке перед быком.
– Да этот господин, верно, помешан? – произнёс царь ледяным тоном. – Я велел медикам его освидетельствовать, а Веймарну сделать обыск вещей. Далее мы поступим по закону.
События завертелись с головокружительной быстротой.
Бабушка металась по городу, её коляску немилосердно трясло. Одних она не заставала дома, другие не могли понять её страхов.
– Господи, – я ведь не хочу многого, – твердила она, – у других полный короб просьб. У меня желание лишь одно, и его хватит на всю жизнь: сохранить Мишу, единственного, последнего...
Елизавета Алексеевна входила в чужие дома, словно проламывала стену. Всё рушилось перед её напором.
Новый родственник Столыпиных Алексей Илларионович Философов, человек очень на виду (его прочили в воспитатели царских сыновей), взялся просить о заступничестве Бенкендорфа.
Тот выслушал не перебивая, слегка прищурился. Один глаз у него был крупнее другого, и он тщился скрыть этот маленький недостаток. Сказал, что стихи Лермонтова непростительно вольнодумны и даже преступны. Назидательно добавил:
– Ведь можно скорбеть прилично, благонравно, не так ли? Князь Вяземский был усопшему приятель. И что же? Как он пишет? – Бенкендорф для вида порылся в бумагах. Искать не было надобности, всё лежало в неукоснительном порядке. Отнеся листок подальше от глаз, прочёл голосом, полным удовольствия:
Всем затвердит одно рыдающий мой стих:
Что яркая звезда с родного небосклона
Внезапно сорвана средь бури роковой...
Пожевал губами, пропуская строки мимо глаз, пока не остановился на заключительных:
Что навсегда умолк любимый наш поэт,
Что скорбь постигла нас,
Что Пушкина уж нет!
– Вот и всё. Читает в салонах со слезою в голосе. – Бенкендорф крякнул в досаде на самого себя: сарказм не входил в его расчёт. Он сделался строг и даже отчасти печален. – Мы всё льём слёзы.
Философов поспешно подхватил:
– Уверяю, ваше сиятельство, молодой Лермонтов выразил чувства истинного русского патриота. Его бабушка припадает к вашим стопам. Окажите ей милость, походатайствуйте перед государем!
Бенкендорф побаивался петербургских старух, сильных своими связями. К тому же продолжал думать, что незачем привлекать к стихам внимание, делая из их автора мученика.
Он со вздохом согласился. Однако выбрал не лучшую минуту.
Когда, запинаясь, выдавил: «Бабка Арсеньева уверяет, что у внука благородные чувства», – Николай внезапно выкатил глаза.






