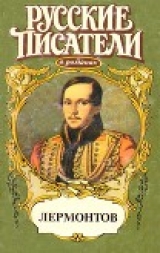
Текст книги "Лермонтов"
Автор книги: Лидия Обухова
Соавторы: Александр Титов
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 38 страниц)
Кушинникову было рекомендовано не заниматься сбором ничтожных сведений, как его предшественники, которые косились на чьи-нибудь янтарные чётки, видя в том знак тайного общества...
– Сожалею, мон ами, но ваша карта убита, – с сочувственной улыбкой сказал подполковник Лисаневичу, который держал перед собою бубновую даму, положив поверх крупную ассигнацию.
Кушинников метал колоду на две стороны, и дама выпала ему, а не понтёру. Он сгрёб деньги себе.
– Присядь, Лисаневич, освежись, – сказал Васильчиков. – Игроцкое счастье нельзя вверять даме. Даже карточной.
– Ты заговорил как Лермонтов, – недовольно отозвался тот.
Услышав имя Лермонтова, Некто, праздно слонявшийся по комнате, мигом навострил уши. Обменялся с Кушинниковым взглядом. Подполковник повернулся широкой спиной, заговорив о чём-то с хозяйкой дома. Но и та уловила неприятное ей имя («...И Мерлини, как тигрица, взбешена...»).
– Положительно, он стал чумой здешних мест! – вскричала кавалерственная дама. – Знаете, что мне противно в Лермонтове? Этот демонский взгляд зловещего всезнайства, который он обращает на вас посреди разговора. В нём есть что-то нечеловеческое. А его стихи? Обычные поэты пишут о предмете сердца. Он – только о мести, обиде, ненависти.
– Ему душно в мире, – сказал Васильчиков, будто не отвечая, а думая вслух. – И другому тоже становится душно. Словно он заражает собою, как болезнь.
– А для заразных определён карантин, не так ли, господа? – ввинтился со смешком Некто.
Васильчиков косо взглянул на него, затем, словно опомнясь, порывисто встал и со светским поклоном в сторону Мерлини раздражённо вышел. Навязчивый господин с крысиными усиками тотчас подсел к Лисаневичу, впавшему в меланхолию от проигрыша.
– Я слышал, этот Лермонтов не раз задевал ваши нежные чувства?
Лисаневич встрепенулся;
– Откуда вам сие известно, сударь?
Тот вздохнул с постным видом:
– Весь Пятигорск наслышан, увы. Да, позвольте... Как это? Ага, вот: «За девицей Эмили молодёжь, как кобели. У девицы же Надин был их тоже не один...»
Лисаневич заскрипел зубами.
– Молчите! Я, кажется, возненавижу его...
«Косым броском и мгновенным укусом!» – подумал Некто.
Придвинулся ближе, задышал в самое ухо:
– Честь обязывает... Я, как благородный человек, готов передать ему ваш вызов. Решайтесь, мой друг!
Лисаневич внезапно отодвинулся и внимательно посмотрел ему прямо в лицо.
– Не знаю, кто вы, милостивый государь, и знать не хочу. Но чтобы я поднял руку на такого человека, как Лермонтов?! Да за кого вы меня принимаете?
Глядя ему в спину. Некто подумал с презрением и злобой; «У-у, чистоплюй! Другого сыщем».
Тем же вечером в уютной гостиной Верзилиных, обитой палевым ситцем в цветочках, который сходился посередине потолка розеткой, а оттуда спускалась люстра с восковыми свечами, на узком диване вдоль стены сидели рядышком Лермонтов и Лисаневич, от души веселясь тем, что Лермонтов свёл выразительность шаржа на Мартынова к одной волнистой линии. На Лермонтова напал всплеск открытости, добродушия и болтания, свалившихся ниоткуда. Должно быть, просто от ощущения собственной молодости.
– Вы умеете смеяться? – с удивлением сказала Эмилия, впрочем не спрашивая, а утверждая.
Странные слова в доме, переполненном молодёжью, где шутки раздавались с утра до вечера.
Лермонтов посмотрел на неё очень проницательно, вовсе не как на барышню, то есть существо детски примитивное.
– Сознайтесь, вы нимало не уважали княжну Мери? – непоследовательно сказала она с обидчивой горячностью. Словно хотела сказать: вы не ставите меня ни во что.
– Напротив, – отозвался Лермонтов, всё ещё не спуская с неё глаз. – Только её-то и уважаю.
– За что? – живо спросила Эмилия.
– За искренность и твёрдость, – отозвался Лермонтов. – Единственное, что ценю в людях. Почему вы сказали о моём смехе?
– Потому что... вы засмеялись не напоказ, не от яда или насмешки, а будто очень здоровы внутри... ну, как бутон лопается, если время расцвести... – Она совсем смешалась и покраснела.
– Благодарю, – тихо сказал Лермонтов и тотчас отошёл, оставив Эмилию в досаде, в явном неудовольствии на него, будто это он виноват, что в ней приоткрылась какая-то щёлка в глубину, неведомая ей до сих пор и ненужная вовсе, в чём-то неприличная и уж конечно обременительная для дворянской девицы да ещё красавицы... Лишний повод для эпиграмм и злословья!
А Лермонтов давно и думать о ней забыл. Хотя слова о смехе запали глубоко. Он вспомнил пушкинский смех в бальной зале: отрывистый и словно неостановимый, хотя оборвался очень скоро. Смех – знак здоровья? Пушкин уже тогда был глубоко ранен. Теперь он это понимал. Возвратившись в свой флигелёк, он распахнул створки, и его обдало всегда волнующим бодрым запахом влажной зелени.
Не было ни дождя, ни ветра. Лишь издали мигали зарницы да гром погромыхивал прощально, уходяще. Чернота воздуха казалась свежей, будто открытое окно в мироздание. Жизнь начиналась сызнова; впереди рассвет, утро, день, вечер... Лермонтов откинулся. Улыбка, полная покоя и нежности, осветила его черты.
Стремясь с жадностью вникнуть в мельчайшие, даже противоречивые подробности течения жизни великого человека, потомки постоянно заблуждаются, думая, что этим они приближают его к себе. Он остаётся всё так же недосягаем и загадочен. Найдя общие слабости, разглядев пустяковые привычки, свойственные и нам и ему, что мы при этом узнали о том, чего в нас нет, но чем обладал он? Да ровным счётом ничего.
А разве нам самим захотелось бы, чтобы и нашу жизнь судили по той лени, с которой иногда начинается день, по мелкой раздражительности на неповинных близких (которые нас любят и потому простят), по мимолётным недобрым чувствам, которые нас посещают, хотя мы и не дадим им ходу впоследствии? Надо ли брать случайный день, произвольный отрезок душевной жизни, чтобы реконструировать личность?
В Лермонтове сказалась сила всего поколения. То, что уже перерастает отдельного человека и становится мускулом эпохи. Как подземный огонь, возникали во многих борение дум, кипение протеста. Лермонтов стал прорвавшимся вулканом. Именно в нём всё тайное сделалось явным. Недаром его стихи, его проза вызвали столь жадный и почти лихорадочный интерес у современников. Это не может не навести на мысль: они явились в ту самую минуту, когда их ждали и в них возникла нужда.
Нельзя согласиться с предположением, что Лермонтов не совпал со своим временем, что он либо отстал от декабризма запоздалым рождением, либо творчеством и устремлениями забежал в другую, более деятельную цареборческую эпоху, в которой жить ему уже не довелось.
Всё это, пожалуй, были бы незрелые и даже сентиментальные допуски. Личность Лермонтова, его перо решительно восстают против желания представить его страдательной, угнетённой фигурой.
Пленный гений? Ну уж никак нет. Пленной была его земная судьба, а дух оставался незамаянным. Ни разу он им не поступался и не обольщался ничем – хоть и его обольщали, не на уровне трона, как Пушкина, так вблизи него, и был он, пожалуй, по-человечески более уязвим, чем Пушкин: ни имени поначалу литературного за спиной, ни друзей вельмож-заступников, ни красавицы жены, которая хоть и вечное терзание, беспокойство, но и опора душе.
Лермонтов, напротив, одинок, некрасив, неприятен в общении, лишён пушкинского обаяния. Разве в одном благополучен – богат. Но бабка – дряхлая, незрячая в своём любвеобилии – обузой на нём, как ядро на ногах. У Пушкина такой обузы не было. Хоть и дети, хоть и родители, хоть и жена.
Пушкин жил на волне, пусть даже на спаде её. А Лермонтов уже под волной. Приоткрой рот – одна солёная вода. А он дышал! Вбирал свой глоток воздуха там, где душа, более приспособленная к свежему току, давно бы задохнулась. Отчаяние стало его твёрдостью, его шагом ввысь, а не книзу.
Как другим для полного дыхания нужна несжатая грудь, так Лермонтов в его мрачную эпоху больше кислорода поглощал во время предельной стиснутости.
Гений всегда приходит вовремя и говорит «во весь голос» то, что именно ему предназначено сказать миру. Он избран для этого.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Окружающие Лермонтова молодые люди не были уж вовсе ничтожествами. Напротив, многие по праву слыли храбрецами, остроумными собеседниками и обладали симпатичными человеческими свойствами: благородством – в дворянском понимании этого слова, верностью боевым товарищам, чувством патриотизма, а некоторые и свободолюбивым образом мыслей. Они были людьми своей среды и воспитания. Лермонтов – не всегда понимая это сам, – выламывался и из воспитания, и из среды. Он был другой. Не только его гениальный дар, но и человеческая личность не совпадали ни с кем из окружения. Он и хотел бы стать послушным внуком, беспечным воякой, галантным возлюбленным – хотел бы, да не мог. Сам способ дышать у него был иным. Глаза видели по-своему, мысль текла не банально, любой поступок, органичный для него, ставил всех в тупик, раздражал, вызывал подозрительность и недоумение. Он был рыбой других глубин и не мог бы изменить свою природу, очутившись на мелководье. Проще было задохнуться. И он задохнулся.
Но никогда он не был так внутренне ровен, полон планов и надежд на будущее, как в этот последний год. Общение с литераторами – хотя круг Карамзиных и Краевского он отлично видел со всеми их слабостями и недоговорённостями, таково уж было свойство его беспощадного внутреннего зрения! – дало ему очень много: это был прообраз среды, вращаться в которой ему могло быть интересно.
Судьба держала его силком в прибрежных водах.
...Мартынов? Что ж, Мартынов... Как каждый неумный тщеславец он лишь хотел быть на виду. Инстинктивно сознавал, что возможности его невелики, поэтому и замах всякий раз был маленький, беспроигрышный.
Он выбирал поприще, где конкурентов не находилось. Никому бы не пришло в голову с таким упорством цепляться за маскарад собственной внешности. У него был самый массивный кинжал и самая впечатляющая черкеска. Он по-горски сидел в седле. Уйдя в отставку, болтался среди прежних товарищей, чтобы вести их образ жизни, но без служебных тягот. Может быть, он надеялся натолкнуться на богатую невесту или карьерный «случай»? Мартынов плыл по волне ежедневной суеты с бездумностью щепки; то разыгрывая сам с собою роль сурового рубаки, то щеголял страстностью любовника, то иронией салонного льва. Он был начисто лишён этих качеств, но даже не подозревал об истинном положении вещей. Для него мир ограничивался собственной особой. Всё, что находилось вовне, представляло зыбкое туманное пятно. Не возникало даже желания углубиться на чужую территорию.
В Лермонтове он вызывал жалостливое сочувствие, но и раздражал. Часто Лермонтов наблюдал за ним с тем особым захватывающим наслаждением, которое доставляло ему исследование чужой души. Он мог предсказать, как поступит Мартынов в следующую минуту, что ответит, на что надуется. Наблюдения не наскучивали. Когда Мартынов внутренне скисал, погружался в апатию, Лермонтов, подобно опытному укротителю, слегка щекотал его эпиграммой. При всём том он искренне любил своего приятеля, как любил очень многих, щедро и неразборчиво, веря в странном самообольщении, что и они его любят, веселясь от души вместе с ним, когда он безжалостно потешался над самим собою и над ними.
Всякий раз приближаясь к человеку, он – такой проницательный! – безоглядно очаровывался чужой душой.
Васильчиков, например, несмотря на подтрунивания, представлялся ему более широким и свободным, чем был на самом деле. Лермонтов просто не мог вообразить обидчивой ограниченности его ума. Он спешил выговориться перед ним, найти единомышленника.
Князь Ксандр слушал с внутренним неудовольствием, хотя отвечал исправно, в тон. Он придерживался правила, что умный человек должен знать о своих ближних как можно больше и не отпугивать их возражением. К Лермонтову он сначала ощутил лёгкое презрение за его неоглядчивую доверительность, но вскоре усмотрел в этом надменность ума, превосходящего его собственный, и невзлюбил втихомолку, находя в приятеле множество погрешностей против хорошего тона. Он отлично знал, что двор относится к Лермонтову враждебно, и, чувствуя себя временно наравне с ним, с Васильчиковым, даже беря над ним верх (приходилось признавать и это!), поэт никогда не поднимется выше первой ступени той лестницы, по которой он сам сможет без труда пройти до самого верха.
Историчный отсчёт времени присущ, должно быть, одним людям: они постоянно не совпадают в его течении. Время Лермонтова не совпало не только со временем Мартынова и Васильчикова, но и со всем замедленным движением эпохи. Ей предстояло ещё лишь разворачиваться, как змее под солнцем – медленно, кольцо за кольцом, вытягиваться, поворачиваясь боками, блестя чешуёй. Лермонтовская судьба двигалась прямиком, как полёт метеора. То, на что у других уходила целая жизнь – работа, познанье, любовь, – ему пришлось втиснуть меньше чем в десять лет, если считать началом сознательного возраста шестнадцать – восемнадцать лет.
А что говорить о времени Мартынова! Куда ему было спешить? Он ещё и женится, и родит сыновей, и вдоволь насидится за карточным столом в Английском клубе, ловко передёргивая, по мнению партнёров. За рюмкой послеобеденного ликёра станет злословить – и с кем же? Да с Бахметевым! Мужем Вареньки Лопухиной, тогда уже вдовцом. Потому что Варвара Александровна пережила Лермонтова всего десятью годами, а узнав о его смерти, пролежала две недели без памяти, отворотившись к стене, не желая ни лекарств, ни врачей. Была безутешна. Увы, её замужество стало тем же гибельным шагом, что и гусарский мундир для Мишеля, как его отъезд в Петербург, их разлука... А Бахметев кипятился и всё доказывал, что покойная жена не могла быть выведена в «Княжне Мери»; родинка у ней не на щеке, а на лбу, и он никогда не возил её на кавказские воды...
Не совпали. Не совпали, но пересеклись. Оголённый провод выбросил искру: Лермонтов сгорел, а Мартынов, почадив чуть-чуть, пополз дальше.
Он ещё долго будет отягощать землю – холёный и бесполезный, – испытывая при имени Лермонтова отнюдь не раскаяние, а досаду: старая история, пора бы и забыть! Возможно, он искренне запамятовал, с чего она началась? И сестра его Наталья, якобы оскорблённая образом княжны Мери, давным-давно замужняя барыня, благополучно проживая за границей, едва ли вспоминала «несносного Мишеля», который не пожелал в неё влюбиться...
Причина ссоры Мартынова с Лермонтовым? Она могла произойти из-за чего угодно ещё восьмого июля, во время праздника в гроте Дианы, который Лермонтов – один из главных устроителей – собственными руками увлечённо украшал яркими шалями и цветными фонариками. Под звуки военного оркестра он кружился в бешеном вальсе то с «прекрасной креолкой» Катей Быховец, то с «розой Кавказа» Эмилией. Успел заметить и миловидную даму с ниткой жемчуга на шее – ей посвятил прочувственные «Карие глаза» его тифлисский знакомый Дмитриевский. Стихи Лермонтову понравились, он даже пошутил, что теперь, пожалуй, перестанет влюбляться в серые и голубые...
Тот вечер, к счастью, прошёл благополучно: Мартынов с Михаилом Юрьевичем ещё не столкнулся. На заре все мирно разошлись. Долина дремала в синем тумане, Эльбрус слабо розовел снежной вершиной, а по бульвару мелькали белыми пятнами, удаляясь, женские платья.
Михаил Юрьевич предложил руку своей кузине и довёл её до дому. Он сказал, что она похожа на девушку, которую он смолоду очень любил, да и теперь любит.
– Расскажите о ней, братец, вам и полегчает, – отозвалась простодушная Катенька.
Рядом с нею Лермонтова освещало ровное тепло, как от долгожданного костра посреди холодной ночи. Он боялся омрачить Катину ясную жизнерадостность случайным сарказмом и внимательно следил за собою.
Бог знает, в чём он нашёл у неё сходство с Варенькой? Та была светловолоса, с кожей необыкновенной прозрачности и белизны. Напоминала ромашку с золотой сердцевинкой. А Катя скорее – пунцовую мальву. Но ведь он смотрел глазами сердца. К тому же обе одинаково придерживали гладко причёсанные волосы тонким золотым обручем-бандо...
Между восьмым и тринадцатым июля (день вызова на дуэль) судьба прощально подарила Михаилу Юрьевичу встречу с умным, образованным человеком. Они провели вместе два вечера.
Иустин Евдокимович Дядьковский, знаменитый врач-клиницист, пятидесяти лет от роду, профессор Московского университета, терпевший гонения за вольномыслие в естественных науках, вёл знакомство с Арсеньевой ещё с Москвы, и Елизавета Алексеевна, не чинясь, передала с ним гостинец внуку.
Иустин Евдокимович сначала сам зашёл к Лермонтову, но не застал его, и тот поздним вечером поспешил в дом, где остановился профессор, прося прощения, что визит его случился впопыхах и он небрит. С первых слов церемонии показались докучны; они проговорили далеко за полночь.
Начав с личности Байрона и философии Бэкона, перешли на вопрос о нравственном идеале.
– Каждый мыслящий человек помимо прямой деятельности видит свою задачу в утверждении этого идеала, – сказал Дядьковский.
– А разве он есть? – прервал Лермонтов. – Разве Европа выработала такой идеал?
Полагаю, он в облегчении страданий многих людей?
– Не то дурно, что люди терпеливо страдают, – сказал Лермонтов с какой-то задумчивой печалью, – а то, что большинство из них даже не осознают своих страданий! Нет, пока не выйдешь из толпы, не освободишься от её стихийных порывов, невозможно критически обозреть путь, общий с нею. Лишь затем придёт пора действовать. Мне сдаётся, смельчаки на Сенатской площади сделали слишком раннюю попытку встать поперёк течения. Как, впрочем, случалось не раз в нашей истории.
– Когда же? – живо спросил Дядьковский, подперев ладонями лицо, что было у него знаком углублённого внимания.
– А когда отвергли языческих богов и возникло критическое отношение к непогрешимой мудрости предков.
– Вы именно так трактуете обращение Руси в христианство? Без державной воли Владимира Святого?
– Владимир стал триумфатором. Он заканчивал. А ведь были прежде него побеждённые. Осмеянные одиночки, которые пролагали путь к новому миропониманию ценой своей жизни... Вообще же на Руси было лишь две возможности вырваться из рутины: разбойничество и монастырь.
– Лю-бо-пыт-но... – протянул Дядьковский тоном сомнения. – Декабристский бунт, по-вашему, разбой?
– Разбойничество, – поправил Лермонтов. – Тяга открыто освободиться от прежних предрассудков.
– Допустим. А монастырь?
– Тюрьма и каторга тот же затвор. Кто силён духом, тот не изменится.
Они помолчали.
– Ну, а новое поколение?.. – спросил, недоговаривая, Дядьковский.
– Увы, оно погрязло в бесплодных сомнениях ещё до всякого действия. У скольких душа окажется вскоре прикованной к гибкому хребту чиновника!..
– Не смотрите так мрачно! – воскликнул почтенный профессор. – Девятнадцатый век родился на моих глазах, и на всех повеяло тогда струёй здоровой жизни. Пусть многие идеи оказались поверхностными. Но вы ещё дождётесь лучшего, молодой человек! – Он слегка захлёбывался от нетерпения, блестел доверчиво глазами.
Лермонтов ничего не ответил.
На следующий день он заехал за Иустином Евдокимовичем на дрожках и от имени хозяйки пригласил к Верзилиным на чай, где намеревался читать стихи. Он же его и отвёз вечером обратно.
– Что за умница! – повторял Дядьковский своим домашним. – А стихи его – чистая музыка. Но такая тоскующая... Я его спросил: вы, верно, фаталист? Он ответил, что нет, но своё предопределение, кажется, знает. Удивительный человек! Забыл ему сказать, что вся Москва поёт его «Горные вершины»...
Вечеринка у Верзилиных протекала как-то тускло. За фортепьяно сел юнкер Бенкендорф («бедный» Бенкендорф, как его называли: шеф жандармов не только не жаловал дальнего родственника, но и препятствовал его карьере). Барышни под нестройный аккомпанемент запели жидкими голосами.
Лермонтов сидел с угрюмостью поодаль, закинув ногу на ногу. Пели, словно по стеклу скребли. Не вытерпев, сказал Раевскому:
– Слёток, сыграй кадриль. Лучше уж танцевать!
Раевский сменил Бенкендорфа, забарабанил первые такты. Стали составляться пары. Одной барышне партнёра недостало. А в дверях картинно возник Мартынов – нафабренные усы, отполированные ногти, черкеска из тонкого верблюжьего сукна, серебряный кинжал. Так и бросается в глаза!
– Эй, Пуаньяр! – окликнул Лермонтов. – Тебя нам и не хватало. Становись в пару, дама ждёт.
Тот отворотился, будто не слыша, надменно закинув голову, прошёл в соседнюю комнату, к хозяйке дома.
Барышня смешалась почти до слёз. Лермонтов вспыхнул: она была из невидных, конфузливых, да и одета бедновато.
– А вот неучтивость делать не след, – громко сказал он в сторону распахнутой двери. – Велика важность, как окликнули.
И всё-таки вечер раскручивался понемногу. Эмилия прошлась с Лермонтовым в туре вальса. К ним на узкий диванчик под ситцевым чехлом подсел Лев Пушкин; болтали втроём о чём придётся. Остроты не обходили никого из присутствующих, пока дело не дошло до Мартынова, который, опершись о крышку рояля, любезничал с рыженькой Надеждой. Случилось так, что, когда Лермонтов произнёс по-французски «горец с большим кинжалом», музыка на ту секунду стихла и колкое прозвище прозвучало явственно на всю комнату.
Мартынов приблизился, переливчато звеня серебряными колёсиками шпор – каждое подбиралось по тону! – сказал деревянным голосом, что неоднократно просил оставить эти шутки хотя бы при дамах. Спускать он их не намерен.
– Ну вот, дождались ссоры, – недовольно укорила Эмилия.
– Пустое. Завтра мы вновь будем друзьями, – отозвался Лермонтов.
Когда все расходились, Мартынов догнал его у ворот и повторил, что больше насмешек терпеть от него не станет.
– Что же, нам к барьеру, что ли, идти? – В темноте чувствовалось, что Лермонтов улыбается. – Изволь, хоть сейчас извинюсь.
– Нет! Я вас вызываю! – Мартынов опрометью кинулся прочь.
На рассвете, до жары, Лермонтов и Столыпин поехали, как и собирались ранее, в Железноводск, где взяли билеты на ванны. Ночному разговору с Мартыновым Михаил Юрьевич по-прежнему не придавал особого значения.
А между тем в Пятигорске, во флигеле, где жили Мартынов и Глебов, страсти не утихали, а разгорались. С запозданием о ссоре узнал Руфин Дорохов, который, как и многие боевые офицеры, перемогался от ран на кавказских водах, не уезжая далеко.
Лермонтова рубака Дорохов видел в деле и искренне полюбил; спустя годы помнил его стихи наизусть, мог сказать, когда и под каким настроением был написан каждый из них. Он-то понимал, чем грозит новая дуэль человеку, подобно Лермонтову находящемуся на плохом счету и под особым надзором!
Но у других – Глебова, Столыпина, Васильчикова, Трубецкого – серьёзных опасений всё ещё не было, им хотелось просто помирить обоих, чтобы не портить общего веселья. Знали, что Лермонтов покладист и никогда не доводил своих шуток до прямой обиды.
Неожиданно упёрся Мартынов;
– Я от дуэли не откажусь, господа. И предупреждаю, не хочу, чтобы она была лишь предлог к бесполезной трате пыжей и попойке после.
Он упорно повторял нелепую фразу о пыжах, будто затвердил её с чьих-то слов.
Дело осложнилось. Поскакали в Железноводск к Лермонтову. Тот сказал:
– Я в Мартышку стрелять не стану, а он как знает.
В Пятигорске приятели продолжали судить да рядить уже как секунданты: со стороны Мартынова – Глебов и Васильчиков, от Лермонтова – Столыпин и Трубецкой. Совет подал опытный Дорохов; Мартынов трусоват, так не назначить ли устрашающие условия поединка? Десять шагов. По три выстрела каждому. Чтобы на месте он опомнился, принял извинения, и всё кончится тихо, втайне? На том и порешили.
Лермонтов возвращался один от ключа с железистой водой по аллее, ещё недавно прорубленной в диком лесу. Несмотря на знойный день, было свежо от нависшей зелени; лучи солнца почти не проникали сквозь ветви. Когда выбрался на ровное место, смеркалось. Над близкими горами затеплились ранние звёздочки. Блаженные минуты воли и покоя!
Он уже два дня сочинял стихи о гонимом пророке, том самом, пушкинском, которому Бог вырвал грешный язык и вложил «жало мудрыя змеи». Но что же сталось с тем пророком, тем поэтом после?
Провозглашать я стал любви
И правды чистые ученья:
В меня все ближние мои
Бросали бешено каменья...
Лермонтов остановился, тяжко вздохнул. Ему не хватало Пушкина. Всегда не хватало в жизни!
...Но как розов вечер! И как короток. Будто глоток воды, если томишься жаждой.
И вот в пустыне я живу,
Как птицы, даром божьей пищи...
Тропинку перебежал ёж, ночной добытчик. Вспорхнул сизоворонок, готовясь ко сну, в последнем луче сверкнул дивным лазоревым оперением. Лермонтов приостановил шаг, чтобы никого не пугать.
Завет предвечного храня.
Мне тварь покорна там земная;
И звёзды слушают меня.
Лучами радостно играя...
Допоздна сидел при свече, марая бумагу. Потом перебелил в альбом Одоевского. Сколько чистых листов! Сколько стихов впереди! В памяти вспыхнули знакомые лица: Додо, Софи, Смирнова... Быстрая, как ласточка, движется легко, будто скользит. На цыганку похожа. Глаза огромные, а уши маленькие...
Строки стали складываться одна за другой. Он уже написал было на новом свежем листе с нажимом – «Смирновой», да вдруг потянуло в сон. Подумал; «Завтра», и отложил перо. Еле добрался до подушки. Брегет прозвонил полночь.
Всё-таки он скучал по Петербургу. Ему приснилась танцовщица Тальони, какой он видел её последний раз в «Сильфиде»; двигалась задумчиво, меняя позы и не повторяясь в них. Прогибала спину, откидывала руки назад, будто крылья, стремилась вперёд, подобно льющейся воде. Как плавны были её движения! Он безгрешно наслаждался ими. А Тальони стояла уже неподвижно, лишь играя кистями рук, словно ловя солнечный зайчик или вспугивая с ладоней цветастую бабочку... Его и разбудил солнечный луч.
Наступил вторник. Пятнадцатое июля.
Но и утром он не успел записать новые стихи. Они отклонились от мадригала, как задумывалось первоначально. Были нежны и задумчивы. Возвращали его к строгому идеалу маленькой Нины, образ которой едва-едва начал прорисовываться в «Сказке для детей». (Её тоже надо ещё заканчивать).
Мечталось, чтобы рядом была женщина – не просто весёлая, как зяблик, и румяная, словно яблочко, но та, одно присутствие которой внушает желание стать лучше, прибавляет силы жить...
Монго вошёл одетый для верховой езды, с хлыстиком в руке.
– Ты не забыл, что к шести часам Мартынов будет ждать у подошвы Машука? Я еду в Пятигорск за кухенрейтерами. Прощай.
– Прощай, – рассеянно отозвался Лермонтов ему в спину.
Потом пришёл Дмитриевский читать свои новые стихи.
А ближе к полудню приехала в коляске вместе с тётушкой Катя Быховец. Верхами их сопровождали «бедный» Бенкендорф и Лёвушка Пушкин. Дом сразу заполнился суетой и смехом.
– Пикник, пикник! В Шотландке заказан обед; Ро́шке поставила на лёд кувшин кахетинского. Едем!
Лермонтов сел в коляску к кузине, и они тронулись.
Шотландкой называлось небольшое селение в восьми вёрстах от Железноводска, у подножия Бештау. Некогда здесь был аул Каррас, в который в начале века прибыли миссионеры – шотландцы из Эдинбургского библейского общества. Но проповедничество их шло вяло, они как-то незаметно исчезли, а в бывшем Каррасе обосновались предприимчивые немецкие переселенцы. Те охотно принимали весёлые кавалькады «водяного общества», угощали парным молоком, свежими фруктами, сыром, вином, горячими булочками.
Лермонтовская компания чаще всего наведывалась в домик Анны Ивановны Ро́шке, где кофе разносила миловидная племянница хозяйки Берта. Стол накрывали в саду под яблонями. На тесовой веранде в опрятных горшочках цвели незабудки.
Они просидели за столом довольно долго. Катя была в голубом платье под белым зонтиком с продернутой в нём голубой ленточкой (любимые лермонтовские цвета). Коса её вдруг рассыпалась, золотой обруч упал; Лермонтов подобрал его в траве и всё время навёртывал на пальцы гибкий ободок.
– Отдайте, сломаете, – просила Катя.
Но он только качал головой.
– Доверьте мне его до завтра. На счастье. А там верну сам либо кто другой.
Катя ничего не поняла, но согласилась. Он спрятал бандо на груди. (Как было знать наперёд, что пуля ударится в ободок и, отскочив, пробьёт ему оба лёгких?).
Когда собрались уезжать, Берта протянула Лермонтову кулёк со спелыми вишнями.
– Чтоб не скучать по дороге, – сказала застенчиво.
Лермонтов поблагодарил и сунул ей в передник мелкую монету.
Прощались на въезде в Пятигорск. Облака скрывали ближние вершины, но главный хребет был тонко очерчен голубой кистью.
– Кузина, душенька, – сказал Лермонтов, чуть отступая, чтобы полюбоваться в последний раз смуглой оживлённой Катенькой, принарядившейся с большим старанием. – Помните, у князя Вяземского?
Не для меня; так для кого же
И чёрным локоном завешено ушко...
Ей-богу, жаль, что не для меня!
– Почему же не для вас, братец? – краснея, ответила кузина. – Ваше общество мне чрезвычайно приятно. Поверьте, я не хотела бы его променять ни на чьё другое.
– Ну, ну, душенька, вы достойны лучшего, чем мимолётное восхищение грубого кавказца. Вы похожи на утреннее розовое облачко. Когда ещё рано-рано...
Дуэль должна была состояться около семи вечера у подножия Машука. Но уже часам к пяти, предварительно отобедав в пятигорской ресторации, некий господин, имя которого история не сохранила, а вернее, вовсе не имела о нём представления, так что для знатоков он может остаться лицом полностью вымышленным, этот Некто с крысиными усиками отправился на извозчике если не к самому месту дуэли, так как оно ещё не было точно определено, то просто к подножию Машука.
Однако версты за две он остановил изумлённого возницу, расплатился из кокетливо расшитого бисером кошелька – возможно, прощального дара неутешной покинутой им девы, – не торгуясь, но с видимой неохотой расставался с каждой монетой и, подождав, пока пролётка скрылась в клубах пыли на сухой, окаменевшей от дневного зноя дороге, не очень спеша двинулся вверх.
Намётанным взглядом он озирал местность, словно прикидывая, где, скорее всего, остановятся дуэлянты? Колючий терновник цеплялся за его сюртучок без эполет, он спотыкался на кремнистых осыпях и обтирал ладонью пот на висках. День был жаркий. Пйрило. Собиралась гроза. На левой стороне горы, при её подошве, от вершины пролегает широкая впадина, древний разлом, отбивший от Машука небольшую Перкальскую скалу – между ними идёт дорога на Шотландку. По сторонам она густо заросла кустарником, и не сразу усмотришь небольшую поляну.






