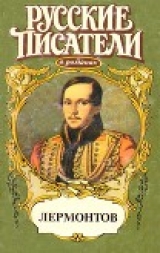
Текст книги "Лермонтов"
Автор книги: Лидия Обухова
Соавторы: Александр Титов
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 38 страниц)
– Есть правота, ваше высокопревосходительство, – не сразу отозвался Лермонтов.
– Я знал, что племянник моего боевого друга не может пренебречь доводами рассудка! – воскликнул повеселевший Ермолов. – А теперь оставим рассуждения, прошу к столу откушать. Да передай мне, как Петров? Здоровы ли его детки? Что Павел Христофорович Граббе?
Они перешли в столовую.
Уезжал Лермонтов в зимних сумерках со смешанным чувством неприятия и почтительности к опальному генералу.
Многие заметили, что Лермонтов в этот приезд изменился. Времяпрепровождение в свете больше не манило его. Он встретил там тех же дам с невинно-ядовитыми улыбками, тех же пустых адъютантиков. По гостиным пели те же самые романсы – и теми же сахарными голосами! Его воротило от них.
Придворные старательно исполняли своё докучное ремесло: с весёлой улыбкой холопствовали при высоких особах. Императрица старалась показываться лишь при свечах, когда её пышные плечи могли выглядеть соблазнительно. Николай Павлович возомнил себя полицмейстером Европы и вынюхивал малейший след революций. Даже на дам свиты он порой взглядывал как на солдат штрафного полка. Без него в столице не возводилось ни одно каменное здание, не утверждалась мода на причёски. Великий князь Михаил пробавлялся старыми каламбурами. На стол подавались те же яства, тот же водянистый переслащённый чай с бисквитами неизменной формы и вкуса... Свет напоминал комнату со спёртым воздухом. «Петербург создаёт себе подобное», – повторял Лермонтов. Когда прежние однополчане-гусары звали его к ломберному столу, он ставил несколько карт, зевал и удалялся.
В Москве он с некоторым удивлением увидел, как велика его популярность. Недавно вышедшую книжку стихов, куда он включил всего двадцать шесть произведений, покупали чуть не с боя. В Петербурге всё выглядело сдержаннее, но литературные круги встретили его уже как бесспорно своего. Белинский смотрел на него влюблённо, Краевский с жадностью хватал любой черновик, Карамзины обижались, если он пропускал хотя бы один их вечер.
Он вернулся в Петербург четвёртого февраля. Таяло. Бабушка не могла покинуть Тарханы из-за ранней распутицы.
На масленую он получил приглашение к Воронцовым-Дашковым[71]71
...он получил приглашение к Воронцовым-Дашковым... – Воронцовы-Дашковы: Иван Илларионович (1790 – 1864), граф; обер-церемониймейстер, член Государственного совета; его жена Александра Кирилловна (1818 – 1856), дочь К. А. и М. Я. Нарышкиных, одна из самых замечательных петербургских красавиц, обладавшая необыкновенным изяществом и тонким вкусом. В доме Воронцовых-Дашковых устраивались балы и приёмы, на которых бывали и члены царской семьи. А. К. Воронцовой-Дашковой посвящено стихотворение Лермонтова «К портрету» («Как мальчик кудрявый, резва...»).
[Закрыть] (Монго с недавнего времени был смертельно влюблён в графиню).
Казалось, как не затеряться среди шести сотен приглашённых? Ан нет. Царь, который явился совершенно неожиданно, высмотрел армейский мундир с короткими фалдами и выразил своё неодобрение дерзкому веселью не прощённого им поручика.
– Бога ради, Лермонтов! Что ты тут делаешь? Уезжай скорей, – твердил перепуганный Соллогуб. – Чего доброго, тебя ещё арестуют! Видишь грозные взгляды великого князя?
– У меня в доме не арестуют, – отозвалась графиня Воронцова-Дашкова.
Однако вывела его боковым выходом.
Бывать в свете Лермонтову решительно расхотелось. Зато теперь гораздо чаще он посещал своих литературных друзей.
Вечер у Карамзиных разгорался, как тёплый огонёк в печи. На столе шумел сменяемый самовар; гости, посидев за чайным столом, вновь переходили на диваны и кресла.
Пётр Андреевич Вяземский задал всем тему, утверждая, что стихи надобно читать, сообразуясь с логикой и смыслом, а не монотонной скороговоркой, как проборматывал их Пушкин.
Дух Пушкина всё ещё витал в этих стенах, и на него поминутно оборачивались.
– Вот и нет! Пушкин читал как истинный поэт, – пылко возразила Евдокия Ростопчина[72]72
Евдокия Ростопчина – Евдокия Петровна (урожд. Сушкова; 1811 – 1858), графиня, писательница. С 1833 г. замужем за графом А. Ф. Ростопчиным, сыном известного московского градоначальника, писателем и библиографом. Её знакомство с Лермонтовым относится к началу 1830-х гг. Ещё с 1827 г. она была знакома с А. С. Пушкиным, который ценил её дарование. В 1836 – 1837 гг. Ростопчина особенно сблизилась с А. С. Пушкиным и писателями его окружения. Она была сестрой товарища Лермонтова пансионских лет С. П. Сушкова и кузиной Е. А. Сушковой (см. коммент. к стр. 49). Юный поэт увлекался Ростопчиной и посвятил ей стихотворение «Крест на скале» (1830) и «Додо» (1831). Однако взаимное дружеское сближение их произошло уже в последний приезд Лермонтова в Петербург в начале 1841 г., когда она была уже известной поэтессой. В это время Лермонтов и Ростопчина встречались почти ежедневно у Карамзиных или у неё в доме. Уезжая, поэт подарил ей альбом, в который вписал посвящённое ей стихотворение «Я верю: под одной звездою...» ([Графине Ростопчиной], 1841). В свою очередь Ростопчина посвятила ему стихотворение «На дорогу!» (8 марта 1841 г.).
[Закрыть], считавшая себя ученицей Пушкина с тех пор, как тот одобрил стихотворные опыты восемнадцатилетней девушки. Пушкину даже пришлось утихомиривать тогда её деда Пашкова, пришедшего в негодование от неприличия самого факта: стихи дворянской девицы, его внучки, напечатаны в альманахе «Северные цветы»!
Князь Вяземский, виновник этой публикации (происшедшей, кстати, без ведома юного автора), не стал вмешиваться в дальнейший ход событий и лишь подтрунивал над чванством старика. Но Пушкин, прослышав о семейном скандале и о слезах оскорблённой Додо, поехал в дом и долго увещевал переполошённое семейство. Визит «первого поэта», а более того придворного, близкого к государю и, как считалось тогда ещё, отличаемого им, смягчил Пашкова. Пушкин сумел польстить его самолюбию, расхваливая образованность и дарование внучки, также уверяя, что стихотворство лишь прибавит ей блеска в свете. Что, кстати, вскоре и оправдалось: Додо Сушкова вышла замуж за графа Ростопчина, любившего повторять, что он и сам-де небезразличен к поэзии, поскольку его отец выпускал во дни нашествия Наполеона лубочные листовки с раёшником для населения Москвы. (Успокаивать и поднимать дух москвичей полагалось по чину старому Ростопчину как московскому генерал-губернатору той поры).
– Обыденность интонаций принижает стих, – продолжала Евдокия Петровна. – Без ритма он не может существовать. Поэт мыслит не только словами, но и мелодией. Вы согласны? – обратилась она сразу к нескольким присутствующим поэтам.
Владимир Фёдорович Одоевский кивнул со своим обычным сомнамбулическим видом. Мятлев неопределённо пожал плечами. Лермонтов задумался.
– Пожалуй, действительно нельзя по старинке только выпевать стих, – сказал он. – У стиха есть мускулы, он способен напрячься. Страсть чувства передаётся остриём рифмы. О, я положительно несчастен, когда образ, найденный в кипении, вдруг застывает и давит на меня как надгробие. Стихи могут жить только в движении, в изменчивости обличий. Люблю сжимать фразу, вбивать её в быстрые рифмы, но когда нужно для мысли, вывожу её за пределы одной-двух строк, растягиваю в ленту. Мысль должна жить и пульсировать. Вот вам моё кредо, милая Авдотья Петровна!
– Вы немыслимый вольнодумец, Мишель! Ищете свободу даже от цезуры и ямба, – отозвалась Додо, скорее одобрительно, чем порицая.
С тех пор как они с Лермонтовым вспомнили, смеясь, о своём детском знакомстве у кузин Сушковых в Москве в доме на Чистых прудах, графиня Евдокия Петровна относилась к Лермонтову с почти родственной мягкостью.
Посреди красавиц и хохотушек она была золушкой гостиных – небрежная в одежде, с отрешённым выражением лица и ломкими бровями. Стояла, задумчиво склонив голову.
Мятлев и Одоевский слушали их разговор с полным вниманием, сочувствуя Лермонтову, хотя его взгляды едва ли совпадали с архаическими поисками Одоевского или каноническим стихом Мятлева.
Пауза не ускользнула от острого внимания Софи Карамзиной.
– Вот и прекрасно! – воскликнула она, торопясь дать нужное направление возникшей заминке. – Каждый станет читать свои стихи, а мы послушаем и решим, кто более прав. Согласны?
Гости задвигались и заулыбались. Чтение стихов было обычным на этих вечерах, где редко танцевали, не играли в карты, а вином обносили лишь в исключительно торжественных случаях.
– Вы начнёте, князь?
Пётр Андреевич Вяземский слегка поклонился и поправил очки. Он произносил стихи, как слова в разговоре, сопровождая их обычной для него улыбочкой, вкладывая двойственный смысл почти в каждое выражение:
Сердца томная забота,
Безымянная печаль!
Я невольно жду чего-то,
Мне чего-то смутно жаль.
Не хочу и не умею
Я развлечь свою хандру:
Я хандру свою лелею,
Как любви своей сестру.
Стихи были старые; Петру Андреевичу писалось всё труднее и труднее с каждым годом. Но сделали вид, что слышат их в первый раз.
Мятлев читал театрально, простирая вперёд руки, играя лицом и тоном. Он по-актёрски нажимал на те слова, которые казались ему особенно трогательными. Умница, дипломат, насмешник. Свалившись из-за границы в ночь под Новый год «неожиданным пирогом», он «отчесал» Карамзиным всю свою шуточную поэму про мадам Курдюкову и уверял при этом, что настоящая мать этой поэмы Александра Осиповна Смирнова, потому что он беспрестанно думал о ней, когда сочинял. Но сейчас Мятлев прочёл совсем иное:
Как хороши, как свежи были розы
В моём саду. Как взор прельщали мой!
Как я молил весенние морозы
Не трогать их холодною рукой...
Настал черёд Лермонтова. Он произносил стихи сдержанно и отчётливо, без драматических ударений, выдерживая ритм. Его голос звучал то глуховато, то звенел. Но не тенористым высоким бубенцом, а баритональным металлическим гудением, словно издалека ударяли в трещиноватый колокол:
Люблю отчизну я, но странною любовью!..
Глаза не мигая смотрели на яркий огонь стеариновых свечей, которые горели светлее прежних восковых, но имели и что-то неуловимо неприятное, химическое в запахе.
...Но я люблю – за что, не знаю сам —
Её степей холодное молчанье.
Её лесов безбрежных колыханье.
Разливы рек её, подобные морям...
«Какое львиное трагическое лицо!» – пронеслось в уме у Одоевского, пока его уши жадно впитывали своеобразную мелодику лермонтовской речи.
«Боек не по возрасту и не по роду. В чертах что-то восточное. А вовсе не шотландское, как ему угодно вообразить!» – Князь Пётр Андреевич Вяземский тем сильнее раздражался, чем властнее брали его в плен помимо воли лермонтовские стихи.
«Ай да офицерик! Колышет строфу, как на волнах, и я качаюсь вместе... слушал бы да слушал...» – безгрешно восхищался Мятлев.
«Он называет меня Додо... Но есть ли в этом тайный знак нежности? Мы танцевали в детстве... Ах, если бы всё сложилось иначе... – В груди у графини Ростопчиной смутно и печально замирало сердце. Взгляд стал мечтательным. – Какие стихи! Сколько благоухания...»
«Конечно, он умнее их всех здесь, – думала Софи Карамзина. – Пушкин, бывало, забавлял меня и радовал, а от этого человека ознобно, как на морозе. Что готовит ему судьба? Боже! Защити и помилуй...»
Однажды Лермонтов явился к Карамзиным с толстой тетрадью под мышкой и попросил тишины.
– «У графа В., – начал он читать замогильным голосом, – был музыкальный вечер».
При этих словах все переглянулись в предвкушении неожиданного и подвинулись поближе, словно сам вертлявый граф Михаил Юрьевич Виельгорский незримо явился в красную гостиную, едва освещённую сейчас единственной лампой. Углы тонули в густом мраке, и лишь лицо Лермонтова – скуластое, смуглое, обуреваемое скрытой энергией даже в минуты покоя – чётко выступало из темноты. Когда он перешёл к описанию Лугина – приземистой нескладной фигуры с широкими плечами, – слушатели снова невольно переглянулись, словно обменявшись сравнением автора и его героя. Впрочем, это было уже последнее отвлечение; все подпали под обаяние повести. Сначала незримо находились в угловой гостиной дома Виельгорских с лепными головками в медальонах вдоль стен под потолком, а в зевающей даме явственно разглядели Смирнову (она тоже узнала себя, и это почему-то слегка смутило, даже напугало её: ничего дурного в портрете Минской не было, а ей стало не по себе, словно Лермонтов понял в ней всё, хотя сказал немногое). Затем гуськом двигались по промозглой от серо-лилового тумана улице, хлюпая калошами по снегу пополам с грязью. Картинки жалкой утренней жизни вспыхивали на мгновение и гасли в разыгравшемся воображении. В общем, гости Карамзиных находились довольно далеко от тёплого уюта затемнённой гостиной; своенравие автора выманило их к Кокушкиному мосту в поисках Столярного переулка. А шлёпанье старческих шагов таинственного Штосса глухой полночью в дальней комнате оледенило их ничуть не меньше самого Лугина, который трепетно вглядывался в полумрак распахнутой двери. Они томились вместе с героем лихорадочным нетерпением и досадой, когда Лермонтов отрывистым взволнованным голосом произнёс, почти не глядя в рукопись:
– «Надо было на что-то решиться. Он решился».
Несколько секунд он молчал, неподвижно глядя перед собою. Внезапно отбросил тетрадь и засмеялся:
– Это всё.
Слушатели ошарашенно задвигались. Софи жалобно пролепетала:
– Как – всё? Но что же случилось дальше?
– Сам не знаю, милая Софья Николаевна. Придумаю как-нибудь на досуге.
Но ещё не сразу перешли они к обычной болтовне, к шутливым упрёкам, что Лермонтов их провёл, оборвав начатый роман на интересном месте. Внесли канделябры с зажжёнными свечами, стало светло; таинственность понемногу таяла.
Лермонтов провожал графиню Ростопчину, сидя в её карете и отпустив своих лошадей. За весёлой мистификацией он скрывал понятное авторское беспокойство. Фантастическая завязка несколько смущала, и он хотел знать мненье чуткой Додо об этой едва им начатой рукописи. Осмелившись взять её захолодавшие пальчики в свои ладони, он бережно и дружески согревал их.
– Вам было очень скучно? Я сочинил несообразность? Не щадите меня. Цель была показать любовь, которая родилась от желания защитить и спасти... Это смешно?
– Милый Мишель, – сказала Додо глубоким грудным голосом, который появлялся у неё нечасто и всякий раз напоминал Лермонтову воркованье дикой горлинки в кавказских лесах. – Начало повести чудесно, как предвестье тайны. Но Боже мой! Вы всё-таки ещё ребёнок, не знающий настоящих страстей и лишь подражающий им с трудолюбием. Не знаю, по какой причине вы гримируетесь под старика... Я завидую той, которую вы наконец полюбите с пылом истинной юности... Нет, не отвечайте мне. Не портите нашей доверительности пустым комплиментом. Вот я и дома. Кучер отвезёт вас. Прощайте. – Она поцеловала его в лоб и вышла из кареты.
Дыша петербургским воздухом, Лермонтов всё чаще думал о Пушкине, примерял его судьбу к своей. И всё больше находил несовпадений.
Пушкин жил в окружении людей, близких по духу. Лицейское товарищество было важнейшей частью его жизни, тем светлым кругом от лампы, где душе казалось вольно и уютно посреди российского последекабристского мрака... Лермонтов, как и Тютчев, прошёл мимо Пушкина, ни тот, ни другой не были им замечены, находились за чертой света, хотя стихи их он читал. Возможно, у Пушкина и не было особой жадности к новым дарованиям? Он сам был переполнен до краёв. То, что он хвалил (и, наверное, искренне) стихи своих поэтов-приятелей, говорило лишь о том, что их пусто́ты и слаби́ны он безотчётно заполнял собою. Он нуждался в ласке и побратимстве. Лермонтов мог обходиться самим собою.
Пушкин не выходил из-под обаяния образа Петра. Восхищался им и противоборствовал ему, искал точной исторической оценки.
Для Лермонтова Пётр словно вовсе не существовал. Самой влекущей фигурой в истории для него стал Наполеон – почти современник (когда умер Наполеон, Лермонтову было уже одиннадцать лет). Иван Грозный был интересен не столько как личность, сколько как весь отрезок времени, придавленный тяжёлой дланью царя, – и то, как выпрямлялись люди, вырывались из-под этой длани. Мотив в высшей мере созвучный самому поэту! Но Пугачёв притягивал их обоих. Они постоянно возвращались к нему и пером и мыслью...
– Ага, любезный друг! – вскричала Софи Карамзина, слегка прихлопнув от удовольствия ладошками. – Сейчас я намерена нанести вам удар неотразимый. Вы толкуете о новшествах, а Пушкин... ведь вы обожаете Пушкина?.. видел силу и вечную юность поэзии лишь в том, что она остаётся на одном и том же месте, тогда как век может идти вперёд вместе с науками, философией и гражданственностью, куда ему вздумается.
– Я не знаю таких слов у Пушкина.
– Тем не менее он их говорил, даже читал у нас набросок. Вы убеждались не раз в точности моей памяти. Уж её-то не возьмёте под сомнение?
– Упаси Боже!
– Так же как, надеюсь, и нашу семейную привязанность к бедному Александру? Он дарил нас доверием. Мы его хорошо знали и любили.
– Видимо, мы любили двух разных Пушкиных. Его несовпадающие половинки.
– Фи, теперь вы изъясняетесь не поэтически, а анатомически, – прекращая спор весёлым каламбуром, поспешно сказала признанная остроумка.
Резкие суждения – удовольствие, в котором Лермонтов не мог себе отказать время от времени, – как сахарной облаткой, обволакивались им салонной болтовнёй.
Однажды он написал в альбом Софи что-то слишком обнажённое, как часть сорванного бинта с раны – и что же? Милая вольтерьянка всполошилась, не поняла, почти обиделась. Поддавшись раздражению, он вырвал злополучный листок, изодрал на мелкие клочья и неделю не переступал карамзинского порога.
Но ему стало скучно, и, трезво разобравшись во всём, он остался решительно недоволен собою. Вольно ж ему было преувеличивать степень дружественности, на которую способны завсегдатаи салона! Он мог бы повторить слова Печорина, обращённые уже не к Грушницкому, а к себе самому: «А зачем ты надеялся?»
Зато следующий экспромт вызвал всеобщее удовольствие: демонический Лермонтов выступал в нём утихомиренным, покладистым, почти приручённым.
Любил и я в былые годы...
Софи смотрела из-за его спины, слегка опираясь рукой на его плечо. Продолжая любезно улыбаться, Лермонтов не совладал с собою. Как когда-то барышне в Середникове, он написал в осточертевшем альбомчике прямую дерзость («Три грации считались в древнем мире. Родились вы... их три, а не четыре»), так и тут в последней строфе пустил во всю компанию этакую небольшую и лишь чуть-чуть жалящую, но всё-таки стрелу!
Он неосязаемо отделял себя ею от приятного общества. Но делал это неприметно, зашифрованно. Лермонтов привык к шифрам ещё с тех юных лет, когда, рисуя облик постаревшего, худо побритого отца, неотличимого от множества других разбросанных в беспорядке на листе профилей и анфасов, вписал в штриховку отцовского халата ломаными буквами «Лермант». Или поместил заветные инициалы на плаще Наташи Ивановой – впрочем, имеющей для него уже тогда в нахмуренном облике драматические черты, что подтверждалось и видом облетевшего, сиротливо обнажённого дерева на рисунке рядом с нею... Теперешний шифр был добродушнее и ловчее:
Люблю я парадоксы ваши,
И ха-ха-ха, и хи-хи-хи,
Смирновой штучку, фарсы Саши
И Ишки Мятлева стихи.
Понял ЛИ кто-нибудь? Бог весть. Все весело смеялись. Лишь к одной посетительнице салона Лермонтов не мог относиться даже с малейшей дозой притворства – это была вдова Пушкина. Он предпочитал обходить её, кланяясь с безукоризненным светским почтением, но издали и молча.
Никому бы не пришло в голову, что лермонтовское отношение к женщинам – а следовательно, и к Наталье Николаевне – было не влечением к красоте, а, напротив, настойчивым стремлением преодолеть преграду этой красоты.
Когда Лермонтов говорил о Марии Щербатовой, что её «ни в сказке описать», то тайный драматизм натуры, способность к сильным безотчётным поступкам он имел в виду гораздо в большей степени, чем сливовый румянец и синие глаза милой княгини.
Прекрасный цветок – Софья Виельгорская – не могла не увянуть в браке с Соллогубом; зрение графа не стремилось проникнуть дальше внешних черт, а они способны примелькаться.
То, что целиком поглощало и тешило поверхностное внимание, для Лермонтова оставалось лишь наружной тоненькой оболочкой, радужной корочкой, под которой то ли вулканический огонь, то ли мёртвый пепел. Его взор проникал в глубины другого существа – и это пугало, отталкивало многих. Лишь очень смелые или очень чистые души предавались ему без боязни. Как Наталья Николаевна Пушкина. В ней не было ничего скрытного. Она не выставляла себя напоказ по застенчивому складу натуры, но отнюдь не была притворщицей и не пыталась казаться лучше, чем она создана.
Девочка на Кавказе стала первым воплощением той странности всей лермонтовской жизни, той умозрительной впадины, куда хлынули бурные воды его полумладенческих чувств. И все его последующие Любови, многие страстные увлечения были лишь неудержимым стремлением заполнить собою представившийся сосуд. До любви равного к равной он так и не успел дожить. Да и могла ли она быть у него? Кто ему был равен? Может быть, всё та же бессмертная Наталья Гончарова? Чистейший образец чистейшей прелести в глазах обожаемого Пушкина? Возвеличенная и оставшаяся в веках не такой, какою она была, а какою поэт её увидел?
И Лермонтов, как ни был мрачно предубеждён против неё – но это издали, отвлечённо, понаслышке, – оказавшись вблизи, заговорив с нею, тотчас подпал под очарование пушкинского вымысла о ней. С изумлённой умилённостью поверил, почти убедился: Пушкин не лгал. Чистейшая прелесть. Образец её.
Наталья Николаевна, давно отвыкшая от того особого мира поэзии, который полон невесомых дуновений, втянувшаяся в докучный вдовий быт с болезнями детей и необходимостью экономить на шпильках, вдруг под чёрными глазами странного поручика начала освобождаться из невидимых пелён, дышать глубже и вольнее. Она просыпалась, хорошела на глазах, всё её существо, как встарь, излучало простодушную прелесть – на неё смотрел поэт!
– Вы ещё будете счастливы, – сказала она ему благодарно.
Он покачал головой.
– Человек счастлив, если поступает, как ему хочется. Я никогда этого не мог.
– Почему? – Её большие близорукие глаза смотрели с ласковой укоризной.
– Моя жизнь слишком тесно связана с другими. Сделать по-своему – значило бы оскорбить, причинить боль любящим меня, неповинным.
Она пролепетала потупившись:
– Неповинным?..
Он ответил не слову, а тоске её сердца:
– Все неповинны, вот в чём трудности. Некому мстить, и с кого взыскивать?
– Многое начинаешь понимать и ценить, только потеряв, – сказала она, поборов близкие слёзы. – Это ужасно.
– Нет, это благодетельно! Душа растёт страданьем и разлукой! Счастливые дни бесплодны. Вернее, они начальный посев. Но подняться ростку помогает лишь наше позднее понимание.
– Я богата этим пониманием, месье Лермонтов. Но что с того? Он об этом никогда не узнает!
Лермонтов близко заглянул в её глаза с влажным блеском.
– А если он знал всегда? Если его доверие было безгранично, как и любовь к вам?
Они долго молчали, близко нагнувшись друг к другу.
– Бог воздаст вам за утешение, – сказала наконец она, откидываясь с глубоким вздохом. И вдруг прибавила непоследовательно, с живой ясной улыбкой:– Я очень люблю вашего «Демона». Почему-то ощущаю себя рядом с ним, а не с Тамарой. Особенно когда он так вольно, так радостно парит над миром. Я никогда не видала Кавказа... Всегда завидовала Александру, что он так много путешествует.
Движение её мысли сделало новый поворот. Черты стали строже, словно тень юности окончательно покинула эту женщину – вдову и мать.
– Смолоду мы все безрассудны: полагаем смысл жизни в поисках счастья.
– А в чём этот смысл? – спросил Лермонтов с напряжённым вниманием.
Казалось, от её слов зависит, упрочится или оборвётся возникшая между ними связь. Она была чрезвычайно важна для обоих и не таила ничего, что обычно влечёт мужчину к женщине, а женщину к мужчине. Хотя Наталья Николаевна была самой прелестной женщиной, а Лермонтов – мужчиной, способным покорять и добиваться. Она смотрела в его глаза, как в омут совести. Словно только он, поэт, мог судить и разрешать. Она же для него олицетворяла частицу пушкинского небосклона: отражённое небо, в котором пульсировали свет и блеск пушкинской мысли.
– Думаю... нет, знаю! Назначение в том, чтобы наилучшим образом исполнить свой долг.
– В чём же, в чём он? – добивался Лермонтов, не замечая, что сжимает её руку. Не для себя он ждал ответа. Да, пожалуй, и не для неё. Неужели для мёртвого Пушкина? Чтобы разрешить вечную загадку поэта? Понять предназначение поэта?
Тень беспомощности промелькнула по гладкому лбу Натали. Она не могла объяснить.
– Это знает о себе каждый, – сказала она просто.
– Вы правы, – отозвался Лермонтов спустя несколько секунд, словно смерив мысленным взглядом безмерные глубины и возвращаясь из них. – Главное, не отступать от самого себя. Довериться течению своей судьбы.
– И Божьей милости, – добавила она.
На этом кончился их разговор. Он подал ей руку братским движением. Она поднялась с кресел и возвратилась к остальному обществу.
Весь конец вечера Лермонтов был спокоен и умиротворён. Вдова Пушкина оставила в нём чувство прекрасного и безнадёжного.






