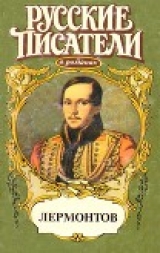
Текст книги "Лермонтов"
Автор книги: Лидия Обухова
Соавторы: Александр Титов
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 38 страниц)
– Почему же откажусь? – живо отозвался Лермонтов, проворно откладывая перо и намереваясь скинуть домашний архалук.
– А как же кучи мусора? – лукаво ввернул Соллогуб, уже радуясь, что они проведут вместе несколько часов.
– Чего не сделаешь ради единственного жемчужного зерна? – в тон ему отозвался Лермонтов.
«Конечно, он о Софье, – мелькнуло у Соллогуба. – Шалишь, друг. Здесь победа будет моя!»
И пока Лермонтов одевался в спальной, он, по обыкновению, перебирал исписанные листки, скомканные и ещё не перебелённые поэтом.
Не встретит ответа
Средь шума мирского
Из пламя и света
Рождённое слово...
На листке были зачёркнуты слова и целые строфы:
Как полны их звуки
Безумством желанья!
В них слёзы разлуки,
В них трепет свиданья...
А зачёркнуто вот что:
Надежды в них дышут
И жизнь в них играет...
Их многие слышут,
Один понимает.
Соллогуб достаточно разбирал руку Лермонтова, чтобы пробиться сквозь помарки. Он задумчиво разглаживал пальцем смятый листок. Это было о Софье, сомнений не оставалось. Только её голос звучит так притягательно и не похоже на других. Она несколько растягивает слова, словно на иностранный лад, а сам тембр излучает тепло и доверчивость. Соллогуб прикрыл глаза от внезапного волнения. Ему захотелось не мешкать, сразу запереться в свой кабинет и при свечах, брызгая и спотыкаясь пером, найти для неё слова столь же светоносные, как эти стихи. Ведь любит Софью он, а вовсе не Лермонтов! Тот только наблюдает и любуется ею отстранённо, будто картиной.
Есть речи – значенье
Темно иль ничтожно...
Где же здесь чувство к живой женщине? Её речи ничтожны для него. Ах, Лермонтов...
– Ну, я готов, – сказал Мишель, распахивая дверь.
Они отправились к Виельгорским.
Бес, который сидел в Лермонтове и подзуживал его дразнить ближних, не мог оставить в покое и Владимира Соллогуба. Тот был собран, как мозаичное изображение из множества кусочков, и Лермонтов отлично видел их все, словно специально исследовал с увеличительным стеклом. Слишком светский жуир, чтобы стать настоящим писателем, Соллогуб не был в то же время и законченным фатом, именно потому, что отдавался писательству. Салонный волокита в Софью Виельгорскую влюбился искренне и готов был её добиваться с несвойственным ему энтузиазмом.
Лермонтов отдавал себе отчёт, что бес, который по временам вселялся в него самого, отнюдь не гордый Демон, а нечто из разряда мелкоты, и не очень был доволен собою, когда подмечал на лице Соллогуба смесь тревоги и тайного страданья, чему виной были оживлённые беседы его, Лермонтова, со средней дочерью Михаила Юрьевича Виельгорского – Софьей. На старшую, Аполлинарию, подругу детства великой княжны Марии Николаевны, вдыхавшую придворные миазмы чуть не с пелёнок, он не обращал никакого внимания, хотя она была красива без надменности и, пожалуй, даже умна. Младшая, ещё подросток, лёгкая и нежная, как утреннее облачко, обещала с годами удаться во вторую сестру. Он издали следил за нею с удовольствием.
Но Софья была уже не бутоном, а приоткрывшимся цветком. Лермонтов не мог противиться её простодушному обаянию, хотя вовсе не был влюблён. Но ему всегда была необходима женская дружба, полная необидного милосердия и деликатного понимания. Возле Сашеньки Верещагиной или Марии Лопухиной он предавался душевному отдыху. Личины спадали с него одна за другой; не надобно было следить за собою, придавать себе тот или иной облик. Его словно омывала тёплая безгрешная волна. В ледяном Петербурге он отчаивался встретить такое существо, пока однажды в модном музыкальном салоне братьев Виельгорских не наткнулся взглядом на нечто, выпадающее из светского шаблона. Сначала он услышал её голос, полный непередаваемых интонаций, похожий на безыскусственную речь ребёнка, ломкий и певучий одновременно, сходный со щебетанием птицы или струением воды.
Он подошёл к ней. Его представили.
Первые слова, с которыми она обратилась к нему, самые банальные и обыденные, зазвучали родственной приветливостью. Он их даже не понял, а отозвался на голос. Поднял глаза и встретил взгляд голубой, распахнутый, хотя лицо выражало застенчивость, а локотки несколько пугливо прижаты к бокам. Он отошёл с ощущением нечаянной радости, маленького подарка.
Софья третий год выезжала в свет, но он находил её всегда в сторонке. Она не смеялась громко, улыбалась как бы про себя, от чего-то внутреннего.
Лермонтов ненадолго присаживался возле неё и успокаивался. Он видел, что его остроты соскальзывают с неё, и переставал острить. Если начинал рассуждать о чём-нибудь глубокомысленном, она отвечала почти не задумываясь. Это было не то чтобы умно, но до того простосердечно, будто сквозь слова просвечивает донышко самой её души.
Лермонтов ездил и ездил к Виельгорским – это было уже замечено, – а дома, холодея от прихлынувшего вдохновения, писал посвящённые ей стихи[47]47
...писал посвящённые ей стихи... — В воспоминаниях о Лермонтове С. М. Соллогуб (урожд. Вильегорская) ошибочно утверждала, что ей посвящено стихотворение «Нет, не тебя так пылко я люблю...». Существуют также предположения, что с её именем связаны стихотворения «Есть речи – значенье...», «Слышу ли голос твой...», «Она поёт – и звуки тают...» и «Как небеса твой взор блистает...», однако на этот счёт существуют разные мнения. Так, например, первый вариант стихотворения «Есть речи – значенье...» 4 сентября 1839 г. записан в альбом Марии Арсеньевны Бартеневой (1816 – 1870), фрейлины, сестры П. А. Бартеневой. Или стихотворение «Слышу ли голос твой...» (1837 или 1838): некоторые исследователи связывают его с известной певицей и красавицей П. А. Бартеневой, а другие – с именем Е. А. Чавчавадзе, дочери грузинского поэта А. Г. Чавчавадзе, сестры Н. А. Грибоедовой, – как и стихотворение «Она поёт – и звуки тают...» и «Как небеса твой взор блистает...».
[Закрыть], полные благодарной нежности и лишённые всякой страсти...
– Неужели вы ни чуточки не верите в счастье? – спросила Софья, слегка морща гладкий лоб и глядя на него с выражением, близким к мольбе; пусть наконец этот странный человек скажет что-нибудь успокоительное!
Лермонтов внимательно, не без жалости следил за игрой разнородных чувств на девичьем лице. «Если бы я даже любил её, тем меньше оснований щадить, – мелькнуло в уме. – О, этот кукольный мир высшего света, оранжерея для слабых никчёмных душ!»
– Почему же? Конечно, верю. Коль скоро замечаю его отсутствие, – отозвался он рассеянно. – Однако мы можем разойтись в понимании счастья. Я почитаю его напряжением всех душевных сил.
– И только? – с сомнением протянула Софья.
– Чего же вам ещё? Голубое небо прекрасно вперемежку с тучами. От вечных сладостей непременно потянет к солёному огурцу.
– Фи, – протянула барышня, по привычке отметая грубое сравнение. Она слушала, чуть склонив голову. Русый локон, легко и невесомо, подобно одуванчику, колыхался над обнажённой шеей.
«Как хороша и как ещё беззащитна перед светом, – подумал Лермонтов. – Однако, – желчно одёрнул он себя, – не пройдёт и десяти лет, возможно, станет его свирепой законодательницей. Разноцветная бабочка и прожорливый червяк гусеницы суть одно и то же. Вот в чём парадокс человеческой натуры! А, вот и верный мотылёк спешит на выручку».
Лермонтов видел, как от дверей, за спиною Софьи, сквозь толпу гостей пробирался изящный, улыбающийся граф Соллогуб.
«Губы ты кусаешь в большой досаде, приятель. Сейчас я освобожу поле боя. Но напоследок ещё одну стрелу».
Вслух он сказал:
– Знаете, как должны были бы кончаться чувствительные романы, если бы их сочинители имели хоть каплю здравого смысла? Соединяя героев на последней странице, следовало добавлять: они полюбили друг друга и были оттого очень несчастливы!
Лермонтов слегка поклонился и отошёл, смиренно уступая место возле Софьи Соллогубу. Та едва взглянула на своего верного поклонника. Её смятенный взгляд против воли следовал за широкой сутуловатой спиной Лермонтова.
– Он вас обидел или рассердил? – поспешно спросил Соллогуб.
– О нет, нет... – Софья встрепенулась, заученная улыбка порхнула по её губам. – Месье Лермонтов очень необычный человек, – прибавила она по-французски, прогоняя, как наваждение, вихрь взбудораженных мыслей.
– Он злой позёр, – с ревнивым раздражением вырвалось у Соллогуба. – Рисуется под лорда Байрона не только в стихах, но и в жизни. Не может простить, что не принадлежит к квинтэссенции света.
– Это недостойно вас, месье Вольдемар, – серьёзно оборвала Софья, сдвигая брови.
Соллогуб опомнился.
– Простите. Я... я обожаю вас. И поэтому, возможно, несправедлив.
Они помолчали.
– Скажите, Вольдемар, – спросила Софья, всё ещё в плену неотвязной мысли, – если вам случится писать какую-нибудь повесть, где под конец соединяются влюблённые, какими словами вы окончите эту историю?
Соллогуб приосанился; интерес Софьи к его литературным занятиям льстил.
– Закончу так, как подскажет собственное сердце, – несколько театрально ответил он.
– И что же оно вам подскажет? – упрямо добивалась Софья.
– Ну... предположим, что они прошли жизненный путь рука об руку и были бесконечно счастливы!
– Ха-ха-ха! – звонко рассмеялась Виельгорская, к полному недоумению кавалера.
– Мишель, – торжественно провозгласил Монго, принимая вид старшего. – Нам необходимо объясниться, и я прошу тебя быть вполне откровенным.
– Мой милый, вполне откровенен я только с женщинами. А знаешь почему? Они ни за что не поверят в мою откровенность.
На лоб Алексея Аркадьевича, обитель спокойствия, налетело облачко.
– Оставь парадоксы, они становятся скучны. Я намерен говорить о серьёзных вещах.
– Что ты считаешь серьёзным?
– Неудовольствие государя и честь женщины.
Лермонтов слегка присвистнул.
– Начинай с последнего. Маленькая Виельгорская?
– Да.
Они помолчали.
– Тебя что-нибудь шокирует в моём поведении? – самолюбиво спросил Лермонтов.
– Нет. Но... твои намерения?
– Намерения? Никаких.
– Так ты не собираешься искать её руки?
– Нимало. Как это могло взбрести тебе в голову?
– Но, помилуй, ты летишь со всех ног, едва завидишь её в бальной зале!
– Разве я виноват, что мне нравится её смех?
– А если она станет смеяться над тобою?
– На здоровье. Посмеёмся вместе. Но пока её потешает надутая мина влюблённого Соллогуба.
– Что за страсть наживать врагов!
– Успокойся, милый Монго, – сердечно сказал Лермонтов. – С графом мы не поссоримся. Он слишком привык перелистывать мои черновики. Ей-богу, это толковый малый, и если бы он выбрал наконец что-нибудь одно – свет или бумагомарание, – в обоих случаях из него вышло бы нечто порядочное.
– Не увиливай в сторону. – Столыпин начинал сердиться и, как всегда при волнении, заикаться и пришепётывать. – Ты знаешь, что Виельгорские – родня царствующему дому, а государь любит повторять, что он прежде всего дворянин Романов?
– При чём здесь я? – ввернул Лермонтов. – Я ведь не собираюсь родниться с его величеством.
– Твоё поведение с мадемуазель Софи государь может посчитать намеренной дерзостью!
– Да что же это за каземат наша жизнь! – воскликнул Лермонтов. – Даже на то, чтобы любезничать с барышней, нужно разрешение с гербовой печатью!
– Сделай милость, побереги вольнолюбивые тирады к вечеру, когда соберутся наши приятели, все «шестнадцать»[48]48
...когда соберутся наши приятели, все «шестнадцать»...» – «Кружок шестнадцати» («16») – петербургский оппозиционный кружок аристократической молодёжи (1838—1840), участником которого был и Лермонтов. В него входили также: К. В. Браницкий-Корчак, П. А. Валуев, И. С. Гагарин, Б. Д. Голицын, А. Н. Долгорукий (Долгоруков), С. В. Долгорукий, Н. А. Жерве, Ф. И. Паскевич, А. А. Столыпин (Монго), Д. П. Фредерикс, А. П. Шувалов и др. О кружке мало что известно с достоверностью, и проявленная осторожность наводит на мысль о его конспиративном характере. Первое упоминание об этом кружке встречается в книге Браницкого-Корчака «Славянские нации» (Париж, 1879, на французском языке), пронизанной ненавистью к самодержавию и Николаю I и написанной в форме писем к одному из «шестнадцати» – Ивану Гагарину, принявшему католичество и покинувшему Россию в 1843 г. Больше прямых указаний на «Кружок шестнадцати» в литературе не обнаружено. На базе косвенных материалов делаются предположения, что этот кружок вырос на почве оппозиционных настроений старинной родовой знати и подвергся воздействию религиозных и исторических идей П. Я. Чаадаева. Однако, может быть, такое предположение слишком прямолинейно.
[Закрыть]. – Последнее Столыпин произнёс по-французски «ле сэз». – Я тебя предупредил по долгу родственника, а поступай, как знаешь.
– Ты, Монго, добродетелен, потому что тебе лень стать злодеем, – сказал Мишель с досадой.
Тот усмехнулся ясной зеркальной улыбкой. Будто в ней отражались другие, но не он сам.
– А в тебе кипит желчь, – ответил, растягивая слова. – Пожалуй, соус за обедом был слишком жирен. Люблю здоровую домашнюю пишу, как у бабушки. Кстати, когда навестим старушку?
– Ты не задумывался, что силы зла требуют большей энергии, чем добродетель? Добродетель – это отстранение от действия. Уклонение от участия в жизни, а, Монго? Да перестань ты полировать ногти! Великий злодей может быть гениален, как Грозный, как Наполеон. А где великие праведники? Ну, Христос, ну, Франциск Ассизский...
– Никола-угодник, спаситель на водах, – вставил Монго, перестав улыбаться, но не изменяя безмятежного выражения лица. – Подумай, как страшно тонуть... брр... холодно, одиноко.
Лермонтов секунду смотрел на него, привычно попадая под власть этих совершенных черт, где всё соразмерно и прекрасно. Он был привязан к Алексею Столыпину, немного завидовал ему и временами тяготился неразлучностью с ним.
– Я умру скоро, а ты, наверно, никогда, – проговорил задумчиво. – В тебе есть что-то бессмертное. Как в траве.
Алексей Аркадьевич неожиданно обиделся:
– Ну что у тебя за язык? Вечно какие-то гадкие сравнения. Ей-богу, пожалуюсь бабушке и съеду с квартиры.
Мишель уставился на него с детской растерянностью. Глаза стали пугающе черны, переполнились разнородными пронзительными чувствами и – застыли. Будто дно под прозрачным льдом. Монго передёрнуло.
– Бог с тобой. Я не сержусь, – сказал он совсем как бабушка, примиряюще и сварливо. – Ну, сравнил бы с птицей, с ретивым конём, на худой конец... Так поедем? Посидим за самоваром, у тёплой печки...
Мишель вырвался из оцепененья. Отозвался покорно:
– Как скажешь. Поедем.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Лермонтовские поступки диктовались не рассеянностью и легкомыслием, как казалось столыпинской родне. Он поступал себе во вред, что со стороны было видно каждому. Но не ему самому. Ведь то, что он внутренне считал для себя неприемлемым, он и не мог разглядеть в жизненных возможностях, равнодушно отворачивался. Это противоречило доводам здравого рассудка, но вполне согласовалось с его собственным мерилом.
И всё-таки он с неохотой вспоминал тот январский маскарад, когда, поддавшись злому озорству, отозвался на заигрывание немолодой, от души веселящейся дамы. Он без труда узнал царицу Александру Фёдоровну[49]49
Он без труда узнал царицу Александру Фёдоровну... – Александра Фёдоровна (1796 – 1860), российская императрица, жена Николая I (с 1817 г.), дочь прусского короля Фридриха Вильгельма III. Под влиянием П. А. Плетнёва, который обучал царских детей, Александра Фёдоровна после смерти Пушкина начала интересоваться русской литературой, в частности – Лермонтовым. С 1839 г. Лермонтов стал известен при дворе; в январе он присутствовал во дворце на свадьбе своего родственника А. Г. Столыпина с княгиней М. В. Трубецкой, одной из любимейших фрейлин императрицы. В г. на бале-маскараде произошло столкновение Лермонтова с двумя масками в голубом и розовом домино. Некоторые исследователи считали, что это были дочери Николая I. Более убедительно предположение, что под одной из масок скрывалась императрица, любившая посещать маскарады.
[Закрыть], хотя она была плотно закутана в тёмное домино; вблизи роились ряженые, сопровождая и оберегая её.
– Господин поэт, – прошептала она по-французски, меняя голос и давясь от хихиканья, – удостойте меня парой благозвучных рифм! – Она дёрнула его за рукав, довольно неловко и робко, как ранее подходила и к Монго, интригуя его.
Лермонтов вместо того, чтобы отозваться учтиво, в духе светского флирта, вдруг крепко ухватил её под локоть, увлёк за колонну и, отгибая перчатку на пухлой белой руке, сильно, почти грубо поцеловал выше запястья.
– Лучшая из рифм, милая маска, это сочетание влюблённых губ!
Она негромко вскрикнула, то ли сконфузясь, то ли очарованная. И ещё несколько секунд оставалась за колонной уже одна, привалившись спиной к холодному мрамору.
Неизвестно откуда возник граф Бенкендорф, молча предложил ей руку, боковым ходом вывел к карете. Императрица в лёгком домино под снегом и ветром дрожала, но не промолвила ни слова. Она боялась этого человека. Он неусыпно следил за нею; его зловещая тень нависла над всеми её маленькими запретными удовольствиями на Елагином острове, куда она ездила тесной компанией, чтобы забыться от скучного величия. Это он разлучил её с милым Бархатом – Александром Трубецким, и тот, отдалившись от царицы, предался ныне страсти к балетным танцовщицам. Бенкендорф держал в руках все тайны недалёкой, суетной, сентиментальной женщины, опасаясь её влияния на царя. Ведь когда-то смолоду тот был влюблён в свою жену, устраивал в её честь турниры и, победив, преподносил на кончике шпаги белую розу... Александра Фёдоровна постоянно просила мужа за какого-нибудь провинившегося молодого человека, а это могло нарушить собственные планы Бенкендорфа.
«Мальчик Лермонтов», за которого он хлопотал два года назад, ныне тоже мог стать ему опасным...
Маскарадная шалость втягивала Лермонтова в придворные водовороты.
Двор погрязал в мелочах. Предавался им с упоением, со страстью, с хитроумием и энергией, которых, верно, хватило бы на целую военную кампанию. После встряски 1825 года уют и затишье наступивших лет особенно ценились царской семьёй, а следовательно, и всем высшим светом, который исполнял вокруг царя и его присных роль кафедрального эха: нюанс настроения, уроненное вполголоса словцо, любая солдафонская острота Николая подхватывались, разносились, множились, будто в ряду зеркал, и возвращались, верноподданнически обкатанные и неизменно приятные ему.
Свет тянул Лермонтова не потому, что нравился, – напротив, вражда к нему укоренялась с каждым выездом всё больше и осознанней, – но то была арена, схожая с цирковой! Он входил в очередной салон, подобравшись, одинаково готовый к нападению и к обороне, взбудораженный, обострив чувства до предела. Нет, он не задирался нарочито, не фрондировал, но мускулы его были напряжены. Он оставался постоянно настороже, словно в самом деле входил в клетку с дикими зверями.
Кипела молодая страсть к действию, желание понять самого себя и окружающий мир. А мир представал то в отвратительной наготе крепостничества, то хороводами масок.
Впрочем, вскоре, не без юмора, он подметил в высшем свете черты схожести с Тарханами. Пензенская усадьба жила прозрачной для взоров жизнью. Люди там занимали от рождения до смерти определённые места, и всё, что происходило с ними, дурное или трогательное, давало пищу пересудам. Нечто подобное он наблюдал и в большом свете, который жил замкнутой, мельтешащей, но внутренне драматической жизнью. Только младенчество было скрыто завесой домашнего быта. Едва ребёнок подрастал, начиналось его общение с предначертанным кругом сначала на детских праздниках, потом в закрытых пансионах, в юнкерских школах, где тот с естественностью усваивал бесспорную разделённость людей по родовитости, богатству, а особенно по «придворной фортуне» (последнее таило в себе заманчивый налёт дерзости и приключения). Любовные свидания, свадьбы, тайные интрижки, повышение в чинах, внезапная милость – всё это составляло постоянно пульсирующий нерв высшего света, причудливо переплеталось с личной жизнью каждого и государственной политикой в целом.
Понятие России съёживалось до ежедневного лицезрения нескольких сотен семей, давно перероднившихся и азартно враждующих между собою... Злословье, смертельные удары исподтишка, предательство и наговоры, редкие вспышки искренности – всё, всё, как в Тарханах! Где даже деспотическая барыня, обладая властью над судьбой и имуществом крепостных, не вольна была изменить их чувства и мечты.
Лица тарханских дворовых – как и столичных придворных! – носили множество разнородных масок, одинаково далёких от прямых понятий добра и зла. В свете не выносили ни малейшего намёка на угнетённость духа. Фрейлинам, подобно сенным девушкам, не позволялось уставать или чувствовать нездоровье. Только улыбаться, порхать! Злословье сдабривалось ангельскими голосами.
Общепринятое мнение имеет чрезмерную власть над людьми определённого круга. Даже если их собственные наблюдения не совпадают с ним. Лермонтов – этот дерзкий пролаза в высший свет, неуклюжий офицерик с неприятным выражением лица и злым языком – в одночасье превратился в знаменитость, остроты его повторялись почти благоговейно, гостиные распахивались с льстивой поспешностью, а в наружности его явственно обозначилось уже нечто львиное, манящее, почти прекрасное...
Свет, конечно, и раньше знал Лермонтова; гусар с хорошей роднёй, но без собственного громкого «имени». Стихи создали ему это «имя». Словно с ним только что познакомились! Стали наконец видеть, а не обегать взглядом.
И не просто замечать – нет, за ним уже тянулись искательные взоры, словно шлейф пыли за промчавшимся экипажем. Он сделался в моде.
– Как мила графиня Эмилия, не правда ли? – жеманно пропищала дама между двумя фигурами мазурки.
– Истинная правда, – смиренно отозвался Лермонтов, потупляя глаза с опасным блеском, полным иронии. – Я не знаю талии более гибкой и влекущей.
– Фи, я имею в виду душу. Графиня так благовоспитанна, так скромна...
– То есть не имеет ни пороков, ни добродетелей и, скорее всего, страдает несварением желудка?
– В вас нет доброты, месье Лермонтов!
– Вы правы, я не родился легковерным или способным к всепрощению.
– Лучше быть убитой на месте, чем стать мишенью вашего злословья!
– Что вы, я вовсе не кровожаден. Моя стрельба по мишеням абсолютно безвредна.
И так час за часом, вечер за вечером. Он мрачно веселился и вдыхал отравленный воздух гостиных, напитывал им, как желчью, своё перо.
Толкаясь в свете, ловя на себе многие любопытные взгляды, Лермонтов понимал, что, воплощаясь, мечты не всегда сбываются. Просто потому, что человек меняется сам, и то, чего он жаждал прежде, теперь не ищет нимало. Он стал другим. Свет не притягивал его больше ни вероломством политических интриг, лежащих на дне, ни постоянно меняющейся зыбкой мишурой поверхности.
«Бэла» была уже написана. В дерзкие выходки Печорина он вложил раздражение от бездеятельности своих салонных друзей и тоску посреди мелководья. Обогащённый опытом Кавказа, здесь, в Петербурге, он видел, что общество решительно не хочет взрослеть! Даже приятели по «кружку шестнадцати» не составляли исключения.
Не политическое единство, но юношеское стремление к товариществу (так ненавидимое царём в гусарских полках!) собирало их ежевечерне на квартире Лермонтова и Монго, чтобы за поздним ужином и сигарой потолковать о последних придворных сплетнях, о ржавом механизме империи, который давал постоянные сбои то в дипломатии, то в войне (многие из них были офицерами, другие начинали служить по гражданским ведомствам).
Все «ле сэз» были хорошо образованны, искренне порывались к деятельности, но с первых шагов споткнулись о тупой деспотизм николаевской империи. В глазах царя нетерпеливость и знания одинаково вызывали подозрительность.
В них не было печоринской горечи, но печоринским неприятием действительности они обладали и готовы были найти выход хотя бы в пылких речах замкнутого кружка.
Истоки недовольства были пестры. Кто-то, воспитанный гувернёром-французом, ратовал за безусловное равенство сословий. Другой, презирая Европу, мечтал о дикой Америке, представляя её весьма туманно и приблизительно. Третий не мог простить обиду, нанесённую «Рюриковичам», и корил царя, в сущности, лишь за то, что тот «людей хороших фамилий» заменял тёмными личностями, готовыми служить ему по-лакейски. При этом и вся русская история представала искажённой: в противовес нынешнему самодержавию ставилось доброе старое время удельных князей. Пятый (варшавянин по рождению, из богатейшей семьи, которая ловко нажилась на политических смутах) ратовал за свободу Польши, нимало не помышляя при этом о самих поляках.
Сын могущественного председателя Государственного совета князь Ксандр, как его прозвал обожавший клички Лермонтов, молодой Александр Васильчиков[50]50
...молодой Александр Васильчиков... – Васильчиков Александр Илларионович (1818 – 1881), князь, мемуарист. С 1840 г. член комиссии барона П. В. Гака по введению новых административных порядков на Кавказе. Существует предположение, что он состоял в «Кружке шестнадцати». С Лермонтовым познакомился ещё в Петербурге. Сблизились они в Ставрополе в 1840 г. Общение их продолжалось летом 1841 г. в Пятигорске. Был свидетелем ссоры Лермонтова с Мартыновым в доме Верзилиных 13 июля 1841 г., а потом – секундантом на их дуэли. Некоторые исследователи высказывают предположение, что Васильчиков был «тайный враг» Лермонтова, – однако это подлежит дальнейшему изучению.
[Закрыть] славился в среде студентов вольнолюбивыми рацеями. Морщась, когда ему напоминали о высоком положении отца, он тем не менее чувствовал себя безопасно под защитой родительского крыла. Небрежно бросал приятелям, что гнев великого князя Михаила Павловича на «разбойное гнездо» для них не опасен, не станет тот-де ссориться с любимцем императора! Князь Ксандр преподносил это, разумеется, с долей иронии на длинном лице с пухлыми, по-петербургски бледными щеками. Но не без тайного тщеславия всеми своими повадками он походил на избалованного мальчика, который отродясь не пробовал розог.
Податливый на влияния Андрей Шувалов поначалу и языка-то родного не знал, вырос за границей. Иван Гагарин готов был ухватиться за любую химерическую идею, лишь бы заполнить пустоту окружающего. Миша Лобанов-Ростовский, хотя и обуреваемый желанием приносить отечеству пользу, решительно не знал, как за это взяться. Самый старший из них, меланхолический Николай Жерве или отменно храбрый под кавказскими пулями Дмитрий Фредерикс – все они являли в своём облике нечто схожее, незавершённое: готовы были посвятить свои жизни – но чему? Маета безвременья вела их к ранней смерти. (Что и сбылось впоследствии почти с каждым из них).
Как бы горячо ни окунался Лермонтов в вечерние беседы за стаканами, в табачном дыму, после театра или бала, незримая дистанция между ним и другими оставалась.
– Франция словно подземный очаг, который вечно подогревается и вулканизирует Европу, – увлечённо восклицал Васильчиков. – Она не приемлет тирана даже в облике Наполеона! А у нас где сознание гражданственности?
Лермонтов встрепенулся. В Наполеона он был влюблён с детства. Очарован его одиночеством на Святой Елене. Один против всех. Это роднило опального императора с изгнанником Демоном. Побеждённый Наполеон, перестав быть врагом России, стал мифом человечества. Мишелю виделся его образ в страстном сострадании. Властителя Наполеона он ненавидел; гонимого, обречённого корсиканца – обожал. Он ответил, кривя губы:
– Мы произрастаем в тишине и немоте. Всю Россию можно проехать как какой-то пустырь, где неусыпные глаза следят, чтобы не проявилась в чём-нибудь новизна. Наши мнения – лишь отголоски того, что говорится там. – Лермонтов неопределённо указал кверху. – Если я сегодня не сталкиваюсь с голубым мундиром нос к носу, то уж наверняка где-то поблизости маячит его двойник в виде пашпортника, фискала или тайного визитёра чужих карманов и писем... – Спохватившись, что страстность его выходит за рамки «бабильяжа» (от французского слова «болтовня», как они сами окрестили свои разговоры), он без всякого перехода сделал неожиданное заключение: – Что нам французы? Молчаливость – лучшее условие, чтобы предаться созерцанию своего пупа, не отвлекаясь пустыми толками. – И отрывисто засмеялся, увидев полное ошеломление на лицах любезных друзей.
Был ли Лермонтов на этих сборищах до конца открыт? Ждал ли от его участников чего-нибудь по-настоящему дельного? Едва ли. Но из мозаики их характеров складывался портрет Печорина. Да и собственные взгляды Лермонтова под влиянием непринуждённых споров принимали более чёткий, законченный вид. Их общий взгляд на декабристов как на «благороднейших детей» Лермонтов отчасти разделял. Ему ещё так живо помнились встречи в тесном обиталище доктора Майера!
...Богаты мы, едва из колыбели,
Ошибками отцов и поздним их умом...
И всё-таки какая-то натяжка, душевная несостоятельность в снисходительном суждении «ле сэз» ощущались им всё явственнее. Разве пристало младшему Васильчикову, без заслуг вытянутому наверх, как малокровное растение, лишь прихотью злого случая (отец графский титул выслужил на Сенатской площади, а княжеский не имел ещё от роду и года!), судить о таком человеке, как Саша Одоевский?!
Старший годами, с ранней сединой и плешивинкой, Одоевский был обезоруживающе молод, намного моложе, наивнее и воодушевлённее многих сверстников Мишеля. Саша не утратил пылкости идеалов, которых следующее поколение уже не знало вовсе.
Одоевский тоже стал подспорьем Печорину, только наоборот: всё, что звучало в Одоевском, было недоступно внутреннему слуху Печорина. Грустный камертон! Страдальческий путь Одоевского был всё-таки дорогой вперёд. Жизнь Печорина, как ни любил его Лермонтов, упиралась в тупик. Саша восхищал и щемил сердце Мишеля. Печорин надрывал его.
Вопреки укоренившейся легенде о мизантропии и одиночестве Лермонтова, он всегда очень тесно и плотно был окружён людьми. Родственники, приятели, однокашники, сослуживцы, знакомые женщины... Часы одиночества выпадали ему как редкий дар, он научился писать на людях. Вероятно, это требовало огромной сосредоточенности, силы мысли и молниеносности воображения, которые не под силу даже очень недюжинным людям. Но Лермонтов был не из дюжины, не из сотни, даже не один на миллион. В век, богатый талантами, аналогов ему всё-таки не отыскать.
Лермонтов почти ничего не выдумывал. Не успевал. Чужая строка, мимоходный рассказ, зрительное впечатление – всё освещалось мгновенной вспышкой, начинало двигаться, дышать. И становилось уже не чужим, а своим, лермонтовским. Ещё мальчиком, переписывая пушкинские стихи, он незаметно отталкивался от них, будто веслом от берега, почти не почувствовав поначалу, как выходит в открытое море...
«Бэла» и «Фаталист», появившиеся в мартовской и ноябрьской книжках «Отечественных записок» 1839 года, вобрали в себя самые разнородные впечатления. Память воскресила и девочку-горянку в усадьбе Хастатовых – она хоронилась за углы, трогательно прикрывая подбородок и губы широким рукавом, – и недавнее знакомство с Катенькой Нечволодовой, тоже найдёнышем на горных дорогах, обворожительной юной женой подполковника Нечволодова в Царских Колодцах. Вся офицерская молодёжь перебывала у них в доме, любуясь прекрасной Сатанаисой (её черкесское имя), заслушиваясь рассказами бывалого Григория Ивановича Нечволодова, много раз разжалованного, благородного, независимого во мнениях (Григорий Печорин отчасти повторил его послужной список). Существовал реальный прототип Вулича. А историю с пьяным казаком рассказал Лермонтову не кто иной, как его дядюшка Ажим Акимович Хастатов, отчаянный храбрец.
Упоение, которое охватывало Лермонтова всякий раз, когда он погружался в свою рукопись, было ни с чем не сравнимо. В сочинительстве он следовал необоримой потребности любить; мир расширялся, перо населяло его многими людьми, которые жили, страдали, предавались несбыточным мечтам – и он их всех любил! Не только мятущегося Печорина или умного Вернера, но и ничтожного Грушницкого. С надеждой следил за борением его чувств и, не сумев предотвратить конца, всё-таки не был спокоен, описывая последние минуты жизни Грушницкого. В том словно вспыхивают напоследок погубленные душевные силы, и, видя этот мигнувший бесплодно отсвет, Лермонтов в тоске и бессилии задерживает перо. Лишь собравшись с духом, он пишет: «Когда дым рассеялся, Грушницкого на площадке не было. Только прах лёгким столбом ещё вился на краю обрыва».
Если свет, особенно его женская часть, просто не желали делать различия между Лермонтовым и его Печориным, остро любопытствуя, жеманно сторонясь странного поручика (которого проще было считать безнравственным и демонически ужасным, чем искать более глубокие причины его отличия от них самих), то и сам Мишель иногда терял внутреннюю дистанцию – как это часто, впрочем, происходит с автором и его персонажем! С одной лишь поправкой: обыкновенно не герой воплощает собою автоpa, но автор пытается вчувствоваться в своего героя. Почти до физического тождества. Так и Лермонтов, подчиняясь общему закону сочинительства, в какие-то мгновения ощущал словно за двоих – за себя и за Печорина. Это были «добрые» минуты Печорина: те, когда полно, счастливо он впивал природу или излучал энергию всем существом, скача ли на коне, влюбляясь ли безрассудно в Бэлу, испытывая ли в последний раз перед поединком Грушницкого... Близок до тождества был Лермонтову и Печорин размышляющий, доискивающийся до первопричины своих чувств.
Но – странно! Повторяя на Печорине свои дурные склонности – неистребимый эгоизм, приступы чёрствости и злого озорства, то, что как раз совпадало у них биографически, – тут-то автор становился далёк своему герою. Видел его беспощадно и со стороны. Подчиняясь феномену сочинительства, который не только сокровенно выражает пишущего, но и очищает, облагораживает его.
Действие героя на автора удивительное: это и увеличительное стекло, и разлагающая призма, направленная на самого себя. Создав Демона, Михаил Юрьевич как бы оставил позади юность с её туманными поисками, с энергией, готовой растратить себя на космические порывы – такие бесполезные для земного создания!






