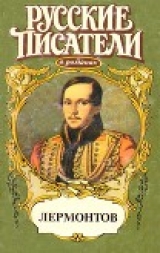
Текст книги "Лермонтов"
Автор книги: Лидия Обухова
Соавторы: Александр Титов
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 38 страниц)
В поэтичный мир Лермонтова вторглись большие вопросы современности, думы о судьбе целого поколения, о трагичном одиночестве свободолюбивого человека, о нравственном состоянии общества. В зрелых своих творениях он явился поэтом-трибуном, не только гневным обличителем «света», но сознательным противником дворянско-крепостнического общества. В «Смерти поэта» он бесстрашно обличил верхушку государственного аппарата николаевской империи; в «Думе» (1838) осудил бездействие своих сверстников, равнодушных «к добру и злу»; в стихотворении «Как часто, пёстрою толпою окружён» (1840) поэт бросил в лицо аристократической черни свой «железный стих, облитый горечью и злостью». В стихотворении «Поэт» (1838) Лермонтов провозгласил высокие идеалы гражданской поэзии, которая должна воспламенять «бойца для битвы», а в стихотворении «Журналист, читатель и писатель» (1840) утверждал необходимость для литературы обрести «язык простой и страсти голос благородный».
В лермонтовской лирике тесно переплелись общественно-гражданские, философские и субъективные, глубоко личные мотивы. Лермонтов ввёл в русскую поэзию интонации «железного стиха», отмеченного героическим звучанием, небывалой прежде энергией выражения мысли, что характерно не только для ораторского пафоса «Смерти поэта», но и для элегических строк «Думы», и для страстных монологов героя поэмы «Мцыри». О стихе этой поэмы Белинский писал: «Этот четырёхстопный ямб с одними мужскими окончаниями... звучит и отрывисто падает, как удар меча, поражающего свою жертву. Упругость, энергия и звучное однообразное падение его удивительно гармонируют с сосредоточенным чувством, несокрушимою силою могучей натуры...» (Полн. собр. соч., т. 4, 1954, с. 543).
Лермонтовский протест был нередко окрашен в мрачные, безнадёжные тона. Но его отрицание современной жизни было порождено великой жаждой свободы и справедливости. Недаром проницательный Белинский в личном общении с поэтом сумел разглядеть в его озлобленном и охлаждённом взгляде на жизнь «семена глубокой веры» в достоинство человека, веры в будущее. Эта вера и поддерживала пафос лермонтовского обличения, внушала ему страстность поэта-гуманиста и певца свободы. Лермонтов никогда не был проповедником смирения. Скорбь и безотрадность в его стихах – следствие горьких раздумий о страданиях личности в мире рабства и угнетения. Но рядом с этой безотрадностью у Лермонтова с огромной силой выражены мечты человека о счастье, стремление преодолеть одиночество, найти пути к народу. Ему в высокой мере была присуща «вера гордая в людей и жизнь иную» (стихотворение «Памяти А. И. Одоевского», 1839).
Торжеством лермонтовского реализма явился роман «Герой нашего времени», насыщенный глубоким общественным и психологическим содержанием и сыгравший выдающуюся роль в развитии русской прозы. Развивая идейный замысел «Думы», Лермонтов изобразил типическую фигуру своего современника, дал «портрет, составленный из пороков всего нашего поколения в полном их развитии» (из предисловия). Печорин, показанный на фоне жизни современного общества, наделён деятельным характером, острым умом, стремлением приложить свои «силы необъятные» к живому делу. Но эпоха безвременья наложила на него неизгладимую печать. Писатель безжалостно обнажает в своём герое «противоречие между глубокостию натуры и жалкостию действий» (Белинский), показывает, как бесплодно растрачиваются его силы. Лермонтов осуждает Печорина (как прежде Арбенина, героя драмы «Маскарад») за равнодушие к людям, за холодный эгоцентризм, которому в романе противостоят человечность и простодушие Максима Максимыча, чистая любовь Бэлы, искреннее чувство Мери. Художник-реалист подверг глубокой критике жизненную философию своего героя и окружил сочувствием жертв печоринского эгоизма. В этом сказалась идейная зрелость Лермонтова, открывшего новый этап в развитии русской литературы. Она сказалась и в художественном новаторстве романа, в совершенстве и своеобразии его композиции, в тонком психологическом рисунке характеров, и несравненном по своей точности и чистоте языке, которым восхищались крупнейшие русские писатели, считавшие Лермонтова своим учителем. Творчество Лермонтова, обращённое к будущему, проникнутое мечтой о свободном человеке, подготавливало новый расцвет отечественной литературы. Лермонтовская муза отвечала насущным потребностям русской духовной жизни и освободительного движения, она вдохновляла многие поколения русских деятелей и литературу последующих десятилетий. У Лермонтова учились поэты-петрашевцы, участники кружка 40-х гг., от Лермонтова прямые нити тянутся к народно-патриотической лирике Н. А. Некрасова. Преклоняясь перед Лермонтовым и Гоголем, молодой Чернышёвский писал в своём дневнике, что за них он «готов отдать жизнь и честь». Мужественной и героической лермонтовской поэзии многим был обязан в своём развитии и Добролюбов. Влияние Лермонтова отчётливо прослеживается в творчестве И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, а также советских поэтов, в том числе А. А. Блока и В. В. Маяковского. Наследие Лермонтова нашло многообразную интерпретацию в работах многих художников, композиторов, деятелей театра и кинематографа. Его драматургия сыграла значительную роль в развитии русского театрального искусства. Сама жизнь поэта послужила материалом для бесчисленных романов, поэм, драм, кинофильмов.
Изучение жизни и творческой деятельности Лермонтова привело к созданию целой отрасли современного литературоведения – лермонтоведения. Опираясь на суждения и оценки Белинского, учитывая опыт первых биографов Лермонтова (прежде всего П. А. Висковатова), современные учёные проделали огромную текстологическую и комментаторскую работу, впервые установив наиболее точные редакции произведений Лермонтова; много сделали для изучения сложной идейно-художественной проблематики лермонтовского наследия и отдельных его произведений; привлекли множество историко-архивных и других материалов, недоступных прежним исследователям, и на этой основе сумели почти заново воссоздать биографию поэта, историю его короткой и трагической жизни.

Лидия Обухова
ИЗБРАННИК
ГЛАВА ПЕРВАЯ
 а красной вечерней заре распевали птицы. Ребёнок поднял от подушки голову – круглый тяжёлый плод на слабеньком стебельке. Он уже понимал, когда его окликают: Миша. Но больше не знал о себе ничего. Даже то, что он – Лермонтов.
а красной вечерней заре распевали птицы. Ребёнок поднял от подушки голову – круглый тяжёлый плод на слабеньком стебельке. Он уже понимал, когда его окликают: Миша. Но больше не знал о себе ничего. Даже то, что он – Лермонтов.
Мамушка Лукерья услыхала натужное шевеление в колыбели (холопские уши сторожки), живо отпрянула от окна, куда высунулась глотнуть свежего воздуха; в арсеньевском доме топили жарко до Троицы. Из белых пелён на неё уставились два тёмных широких, как у совы, глаза.
– Ай, Мишенька, ай, батюшка, глянь на ясный месяц: конь скакал, подкову потерял.
Подхватила, прижала к тёплой груди. Поспешно затворила окошко.
– Баюшки, распрекрасный младенчик. Баю-бай!
Он всхлипнул, лишившись пенья зяблика: заливистая трель с кудрявой завитушкой на конце притягивала. Но покорно сомкнул веки. Ему полтора года. Он в Тарханах. Его мать ещё жива.
Ребёнок рос в мире догадок. Знания у него ещё не было. Круг интуиции всегда шире достоверных сведений.
То, что он узнает потом о своих родителях, навсегда останется отрывочно и искажённо: семейная драма разверзлась перед ним в юности, но тень её витала сызмала.
В 1811 году, по пути из Москвы в Тарханы, пензенская помещица, вдова гвардии поручика Елизавета Алексеевна Арсеньева, урождённая Столыпина, сделала крюк: заехала погостить к тульским родственникам мужа.
Её дочь Машеньку, которую по слабости здоровья мать поспешила забрать из пансиона благородных девиц и везла теперь домой, на деревенский свежий воздух, арсеньевская родня любила и баловала. Это была застенчивая угловатая барышня едва шестнадцати лет, черноволосая, с бледным ртом, во всём покорная матери. Когда Елизавета Алексеевна в кругу золовок вспоминала своё замужество как время счастливое и беспечальное, дочь смотрела в пол. Не было тайной, что в последние годы её отец влюбился без памяти в соседку по имению. Когда та наотрез отказалась приехать к Арсеньевым на домашний новогодний спектакль, Михайла Васильевич в отчаянии принял яд. В семье об этом не вспоминали. Всякий Новый год вдова встречала в глубоком трауре и о покойном отзывалась как о примерном отце и супруге.
– Всё-то он твердил, голубчик, перед смертью: жаль покидать Лизаньку да Машеньку...
Дом Василия Васильевича и Анфимьи Никитишны Арсеньевых в сельце Васильевском близ Тулы был хлебосольный, уютный, деревянный. Прислонён к рощице. Гости наезжали всякий день. Слуги по праздникам щеголяли в холщовых кафтанах с синими стоячими воротниками. Толчея и гам – во всех комнатах! Дворовые смело разговаривали со своими господами, прислуживая им во время обеда. В течение дня на столах и подоконниках выставлялись простодушные лакомства: брусника, мочёные яблоки. Каждый проходящий запускал руку. Соседские барышни Лермонтовы, пять сестёр, жеманясь, не позволяли себе привозить в гости рукоделье, сидели праздно с арсеньевскими девицами и болтали о нарядах. Мужчины важно обсуждали начало осенней поры, чтобы по чернотропу азартно гоняться за зайцами. Вечерами горничные девки плясали и пели перед гостями. Неслись нестройные звуки домашнего оркестра. Беспрестанно кипел сменяемый самовар.
Хоровод деревенских удовольствий неожиданно закружил диковатую Машу Арсеньеву. Пока старшие проводили вечера за карточным столом, разыгрывая пассажи старинной игры лентюрлю, молодёжь каталась на тройках, затевала маскарады и танцевала, танцевала до упаду! Фортепьяно вовсе охрипло от лендлеров, вальсов и галопов, и клавиши в нём западали.
Елизавета Алексеевна, тасуя колоду, лишь мельком взглядывала на разрумянившуюся дочь, на то, как ловко вёл её в паре молодой Юрий Лермонтов, называемый в дружеском кругу Юшей. Она находила в нём столичный шик: он не носил ярких жилетов, а фрак с бархатными отворотами был от петербургского портного Руча.
То, что Юрий Петрович в двадцать четыре года, дослужившись в Кексгольмском пехотном полку до капитанского чина, подал в отставку, не вызывало недоумений: дворяне шли в армию не для службы, а для приобретения лоска и полезных знакомств. Малородовитому Лермонтову конечно же лучше заняться родительским имением и приумножить трудом своё достояние. Елизавета Алексеевна смотрела на приятного молодого человека благожелательно, никак не предвидя, что между ним – каким-то захудалым Лермонтовым! – и её дочерью, отпрыском столыпинского рода, может возникнуть не просто мимолётная симпатия, а влюблённость. Как же она корила себя потом: проглядела начало опасного романа!
Что неопытную Машеньку очарует русоволосый красавец, представший перед нею в ореоле кумира всех её кузин, можно было догадаться, и не обладая материнской проницательностью. Неожиданным скорее стало ответное чувство Юрия Петровича. Чем его-то успела пленить маленькая Арсеньева?
Искушённый в волокитстве, он ещё так недавно любил повторять в кругу полковых сердцеедов, что, разумеется, приятно понравиться женщине, но вызвать в ней страсть хлопотно и скучно. Теперь он сам потерял голову. Стоило мелькнуть в просвете дверей стройному девичьему силуэту с тонкими руками в пышных рукавах, едва он слышал ломкий шелест её платья из персидской тафты – сердце начинало замирать и колотиться. Она поразила его воображение!
Болезненность делала несмелый взгляд Маши мягким и глубоким, непохожим на лукавые взоры знакомых барышень, которые громко прыскали от смеха и много ели, хотя и пытались порой напускать на себя мечтательность. В те времена меланхолия была в моде. Но в Марье Михайловне она не казалась насильственной. Любое её движение выражало трогательную естественность, пробуждало доверие к её чувствам.
Когда молодая пара во всеуслышание объявила о взаимной склонности, Елизавета Алексеевна попробовала было возмутиться, но хор родни дружно принял сторону влюблённых, и Маша Арсеньева покинула Васильевское помолвленной невестой. Оттягивать неизбежную свадьбу не имело смысла: любое огорчение могло надорвать слабый организм девушки.
Ненависть к навязанному зятю уже никогда не покидала самовластную Арсеньеву...
Однако Юрий Петрович вовсе не был тем «худым человеком», как позже отозвался о нём с неодобрением пензенский губернатор Сперанский. Мнение покоилось на пристрастной почве многолетней дружбы Сперанского с Аркадием Столыпиным, братом лермонтовской бабки, на пересудах сплочённого столыпинского семейства. Вот и готов был опальный канцлер, некогда умнейшая голова Российской империи[1]1
...отозвался о нём с неодобрением пензенский губернатор Сперанский [...] опальный канцлер, некогда умнейшая голова Российской империи... – Сперанский Михаил Михайлович (1772—1839), государственный деятель, юрист, дипломат; с 1808 г. ближайшее доверенное лицо императора Александра I; член Государственного совета по департаменту законов, действительный тайный советник. Автор проекта конституционного ограничения монархии. В 1812 г. впал в немилость, отстранён от дел и сослан. С 1816 г. пензенский губернатор, с 1819-го – губернатор Сибири. Друг Аркадия Алексеевича Столыпина, который не изменял их дружбе и во время опалы Сперанского. М. М. Сперанский неоднократно писал А. А. Столыпину из Пензы письма, в которых откликался на распрю Е. А. Арсеньевой с Ю. П. Лермонтовым, принимая сторону первой как друг семьи Столыпиных. Он 13 июня 1817 г. вместе с пензенским предводителем дворянства засвидетельствовал завещание Е. А. Арсеньевой, разлучавшее отца с сыном до совершеннолетия последнего.
[Закрыть], посчитать дурным и «странным» всякого, «кто Елизавете Алексеевне, воплощению кротости и терпения, решится делать оскорбления».
«Оскорбление» заключалось в желании отца самому воспитывать сына. Да и не была вовсе бабушка ни кроткой, ни терпеливой! Родня трактовала дарственное письмо зятю на двадцать пять тысяч рублей как «отступное», чуть ли не как выкуп за внука. А то было законное приданое Марьи Михайловны, из капиталов её отца Михайлы Васильевича Арсеньева.
В горчайшей печали после ранней кончины дочери Елизавета Алексеевна могла, конечно, посчитать, что зачахла несчастная Маша от небрежения мужа. Юрий Петрович подал тому повод безрассудствами. Но не корыстолюбием, не холодным преднамеренным расчётом! Будь иначе, что мешало ему, двадцатидевятилетнему вдовцу – и при деньгах к тому же! – сделать новую выгодную партию? А он прожил свои годы в глуши, затворником, рано умер. Взятые деньги почти полностью – за вычетом расходов по обветшалой усадьбе в родовом Кропотове – вернулись сыну.
Да, был Юрий Петрович самолюбив, запальчив, непостоянен сердцем. Но виноват ли, что родился и вырос в среде, где собственное удовольствие ставилось превыше всего? Он жадно тянулся к этой – как он был уверен – всеобщей мечте: блеск, самоуверенность, богатство... Однако и странным назвал его Сперанский не случайно, хотя вкладывал в это иной смысл. Была-таки у Юрия Петровича неудобная для карьеры черта: в нём не оказалось искательства. Он органически не мог пресмыкаться и льстить. Так же как внутренняя гордость, которой он наделил по наследству сына, не позволяла ему замахиваться на слабейшего. Он был положительно непригоден для преуспевания в обществе, в котором родился и жил. Хотя так и не осознал этого за неприкаянностью судьбы, за мелочами усадебного быта. Не разгадал собственную натуру.
– Губитель! Дочь погубил! – нёсся истошный вопль тёщи, пока Юрий Петрович, хлопая дверями, в ярости мчался к выходу.
В просторных сенях, еле освещённых парой сальных свечей («скупая ведьма!»), он остановился, отдышался, подставил плечи под тяжёлую шубу, которую с видимым облегчением поспешно поднёс ему из полутьмы свой кропотовский лакей, отрывисто спросил, отворачивая от него пламенеющее пятнами лицо:
– Возок заложен?
– С обеда ужо, – с нескрываемым сочувствием отозвался кропотовский. – Мигом умчим, батюшка Юрий Петрович.
Лермонтов глубоко вздохнул и шумно выдохнул, словно собираясь с мыслями. Спустился уже с крыльца, но остановился. Красивое гневное лицо передёрнулось гримаской нежности и страданья. Не снимая шубы, он обернулся и вновь поднялся по ступеням, теперь уже твёрдо и властно. Прошёл, не глядя, мимо окаменевшей Елизаветы Алексеевны, которая без кровинки на обвисших щеках лежала в креслах, запрокинув голову, но при виде вернувшегося зятя дёрнулась, как под действием гальванического тока, открыла рот, не издав при этом ни звука. Он миновал её, оставляя позади пахучую струю ненавистного ей запаха табака, французской душистой воды, морозного меха, отогревшегося в передней, и прошёл, беззастенчиво стуча сапогами, в детскую. Там никого не было, кроме мамушки Лукерьи, на которой всегда невольно отдыхал его взгляд – так опрятна, статна, розовощёка была молодица! – да няньки Христины Осиповны Ремер с овечьим добро-плаксивым лицом.
Юрий Петрович подошёл к беленькой кроватке, а вернее, колыбели любезного сынка, которого у него отнимали, нагнулся, неловко поднял его к себе, видя на всём личике лишь рвущиеся ему навстречу широкие тёмные глаза, будто две мокрые сливы, поцеловал смуглые веки сына, почувствовал под губами беспомощное родное трепетанье – и коротко отчаянно всхлипнул. Отрывая от себя ребёнка, он словно бы кидал его в неизвестность, в темноту, а на самом деле просто передал на торопливо подхватившие Мишеньку руки Лукерьи.
– Береги, – сквозь стиснутые зубы пробормотал Юрий Петрович.
– Не печалуйтесь, барин, – скорым шёпотом отозвалась та, – Пуще глаза... Да что же, Мишенька, батюшка, – громко нараспев добавила она, – Подайте папеньке ручку: прощайте, мол, папенька. Ворочайтесь с гостинцами. А мы вас ввек не позабудем. Богу за вас молить станем, чтобы дорожка перед вами скатертью, чтоб ясный месяц фонариком, чтоб лошадки...
Юрий Петрович вышел, уже ничего не слыша.
Через минуту малиновый звон его колокольчиков растаял в метельном раннем вечере.
Шла первая половина марта 1817 года.
Жизнь в тархановском барском доме вернулась на обычную колею. Елизавета Алексеевна велела накапать себе гофманских капель, переменила парадный чепец с рюшами на домашний, благословила на ночь внука, ни словом не обмолвившись о коротком вторжении «капитанишки», выговорила Лукерье, что, мол, масло в лампадке на исходе – хватит ли до утра? Лукерья с безмолвной готовностью поклонилась в пояс, – и ночь бы прошла ровно, безмятежно, не затревожься перед сном Мишенька. Он заёрзал головой по подушке, негромко позвал отца. Потом словно успокоился, затих, задремал. И вдруг среди ночи громко вскрикнул, горько зарыдал:
– Па-пень-ка... Где мой папенька?!
Лукерья подхватила его на руки, забормотала успокоительно. Так её и застала встревоженная бабушка: Лушка ходит взад и вперёд по комнате, бубнит что-то, косясь испуганно на барыню, не смея сказать единственное, что могло бы утешить ребёнка: что отец его отлучился ненадолго, вернётся поутру и всё станет в доме по-хорошему.
К утру Миша уже горел в лихорадке. Ко лбу то и дело прикладывали платки, вымоченные в разведённом уксусе. Ребёнок метался, не желая мириться с недугом, к которому у него не было покорной привычки взрослых. Он страдал от раздражения ничуть не меньше, чем от самой боли, яростно расчёсывал золотушную сыпь и отдирал с болезненным стоном прилипшую к мокрому телу рубашонку. Потом наступали часы бессилья. Он лежал неподвижно, смежив веки. Христина Осиповна облегчённо принималась за бесконечный чулочек, позвякивая спицами. Лукерья задрёмывала в уголке. Она жалела хилого питомца, которого к тому же обещалась беречь барину, – такому доброму, красивому, писаная картина, да и только! Но было у неё и своих забот множество, которых суровая барыня не желала брать в расчёт: изба, запустелая без хозяйки, неприсмотренный муж-кузнец Иван Васильевич, заброшенные дети. От новорождённой Танюшки её оторвали чуть не силой, увезли в Москву, где молодая барыня ждала разрешения от бремени. Что Лукерье были те обновы – сарафаны, платки, душегрейки, – когда всякая короткая дремота возвращала её под родной кров, к брошенной люльке! Её уверяли, что должна радоваться, Бога благодарить: сам управляющий Абрам Филиппович Соколов привёл на их двор пятнистую рыжую корову, барынин дар, да ещё деньгами дал рубля три, в счёт будущей службы. А дура Лушка выла, валялась в ногах, просила ослобонить... Вернувшись через полгода из Москвы в Тарханы, она и здесь была в себе не вольна: сидела неотлучно в детской, домой забегала от случая к случаю, ненадолго. Раздавала детям Мишенькины обноски (ведь их четверо, мал мала меньше!), совала каждому ломоть сладкого пирожка, а уж чтоб прибраться, поскоблить липовые лавки, обмести паутину в углах – до этого руки не доходили. Даже повыть над могилой Танюшки не дали вволю: без неё померла, без неё схоронили. Через год родила Васятку, но и он рос мимо её рук. Лукерья жила затаясь. Про себя каялась, что, верно, невзлюбила бы барское дитя, будь оно ладное, с налитым белым тельцем, звонкоголосое. Но у неё на руках лежал сиротка заморыш, обиженный судьбой с первых дней жизни. И Лушина душа поневоле полнилась сердобольем. Не по барской воле, по своей. Она ловила с беспокойством признаки выздоровления, научилась распознавать их раньше других не по отхлынувшему жару, не по зажившим болячкам, а по тому приливу радости, который вдруг воскресал в ребёнке. Он рано начал говорить, а вот слабые ножки не держали лет до четырёх.
Луша удивлялась, как он ничего не забывал: не забывал и тех ночей, когда его била лихорадка, а защитой, облегчением оказывались лишь её руки. Он тянулся к ним с благодарностью, потому что ничем иным не мог побороть своего смятения и ужаса.
Луша, укутав питомца в одеяло, подносила его к окну, усеянному звёздами. Так они оба и стояли, вперившись в безмолвие ночи, без единого слова.
Когда Лукерью посчитали лишней при Мишеньке, доверили его заботам бонны Христины Осиповны, которая говорила с ним по-немецки, и приставленному Андрюхе Соколову – его для важности называли дядькой, хотя был он всего белозубый застенчивый парень, оторванный властной рукой родича-управляющего от привычных деревенских занятий и, должно быть, от сердечной тайной зазнобы, – душевная связь подрастающего барича с крепостной мамкой отнюдь не оборвалась.
Новый барский дом – Елизавета Алексеевна выстроила его на месте прежнего, чтобы стереть саму память о прежних бедах: самоубийстве мужа и кончине дочери, – отделялся от деревни тремя прудами, обойти их можно было лишь с версту крюком. Но избы под побуревшей соломенной кровлей вдоль запруженной реки Милорайки зорким глазам ребёнка казались совсем близкими.
Миша просил нести себя по одичавшему саду-лесниге на зелёную поляну, сначала полную жёлтых одуванчиков, а потом белых ромашек, и, никому не сказываясь, отыскивал глазами избу Шубениных, где жила его мамушка. Нет, он ничего не забывал.
Выйдя из младенчества, впервые посаженный в шарабанчик смирнейшей из кобыл, охраняемый сбоку дядькой, он мог уже своенравно отдаться любопытству к деревенской жизни – близко соседствующей и настолько отграниченной от его собственной! – наведываться в избу Шубениных чаще, когда ему вздумается, если не было, конечно, прямого запрета ревнивой бабушки.
Попервоначалу тархановские мужики и бабы – все эти Вертюковы, Летаренковы, Соколовы да Куртины – казались ему одноликими, с общим выражением приниженности и смирения, с упорным желанием спрятать взгляд в поясном поклоне. Они были готовы вообще не разгибаться, пока маленький барич не минует их. Лишь затем с облегчением шли своим путём, выкинув нежелательную встречу из головы.
Более чем всякий другой ребёнок его возраста, Миша был чуток на фальшь. Он не поверил туповатым маскам, которые поспешно натягивали на себя тарханцы (само это слово означало хитрость и предприимчивость: тарханить – скупать задешево, перепродавать с выгодой, втридорога), но упорно доискивался до истинных лиц, прибегая к изворотливым, хотя и вполне невинным уловкам.
Сначала он примелькался в семье Шубениных. И так как не всякий раз являлся к ним с гостинцами, то есть благодетелем-дарителем, то и показная почтительность многочисленных Лукерьиных отпрысков, включая Васятку, которого мамушка упорно называла молочным братцем Михайлы Юрьевича, понемногу сменилась более естественным отношением детей, без страха и угодливости.
Лукерья сохраняла к вскормленному ею питомцу жалостливую нежность, могла ему сунуть, забывшись, ржаную горбушку – а он охотно грыз её, будто с утра не евши. Уравнявшись в таких малостях с крестьянскими детишками, Миша добился-таки своего: его перестали обегать и опасаться. Он видел, как при нём спины мужиков выпрямлялись, лица принимали свойственное им обычное выражение: у одних меланхолическое и задумчивое, у других плутовское, у третьих угрюмое или даже отталкивающе сварливое. Словом, это были люди такие же, как бабушка, бабушкины сановитые братья, бабушкины тульские золовки – незамужние сёстры деда Михайлы Арсеньева, которых бабушка и привечала за внешнее сходство с умершим мужем, но и не уставала корить, что не в добрый час сосватали Машеньку с соседским сыном Юшкой Лермонтовым. (Бабушке само имя зятя было ненавистно! Однажды она даже записала внука не Юрьевичем, а Евтихиевичем, вычитав в святцах, что будто бы Юрий-Георгий и Евтихий имеют одного ангела-хранителя.) Примелькавшись и деревне, Миша молча дивился про себя, почему эти люди, которые болеют, ссорятся между собою, сострадают беде ближнего и ничем, ну ничем, кроме бедности, не отличаются от его семейства, почему они его рабы, а он – их барин?
Многие совестливые дворянские мальчики безотчётно томились в детстве тем же жгучим недоумением. Но с годами принимали незаслуженные дары уже с охотой и без раскаянья, позабыв о прошлом смятении. Миша Лермонтов не забывал. Таким уж он уродился. Елизавета Алексеевна, слепая ко всем и всему, полная барственного пренебрежения не только к малым сим, но частенько и к ровням, над Мишенькой парила горчайшим ястребом, видя и замечая всё, что до него касалось.
Бывало, она с беспокойством следила, как ещё неуверенно ковыляющий ребёнок, обрадовавшись первому весеннему цветку на бледной мохнатой ножке, дотрагивался пальчиками до сырых комьев нагретой земли.
– Что ты, Мишынька? – спрашивала бабка, уловив в огромных глазах неожиданную муку, так не соответствующую первому радостному движению к проклюнувшейся травинке. – Чему испугался, голубчик?
– Холодно и тепло... Почему? – невнятно лепетал ребёнок.
– Унесите с солнышка, – приказывала Елизавета Алексеевна нянькам. – Головку напекло.
А на самом деле его впервые поразил контраст ожившего и ещё мёртвого, тянувшегося к солнцу и недвижимого.
Бабушка не умела относиться к детским страхам Мишеньки с лёгкой успокаивающей улыбкой. Она или придавала им слишком много значения, искала в напугавшей ребёнка мимолётной тени птичьего крыла зловещее предзнаменование, или отмахивалась, обижая и ожесточая его. Внутренняя память невольно путала в её восприятии большеголового неуклюжего внука, его легко застывающий сосредоточенный взгляд, с образом грациозной девочки, податливой на ласку, чьи тёмные глазки, увеличившись в размере и погрустнев, теперь снова жили на лице её сына...
«Господи, прости меня, грешную», – суеверно шептала бабушка, отгоняя наваждение и любя внука ещё более отчаянно и самоотречённо.
Привычное раздражение от бабушкиного деспотизма (деспотизма обожания, покорности ему!) рано пробудило в нём необходимость независимого взгляда вокруг. Как полагаться на других, если одни лгут из любви, а другие потворствуют из страха? И то и другое становилось одинаково мерзко Мише, едва он выбрался из младенческих платьиц.
Мир без авторитетов – опасная обстановка детства!
Отец был любим им, но чужд во всём, до мелочей. При редких встречах сын упрямо проявлял к нему пылкую нежность, что становилось вызовом и оружием против бабушки, благородным притворством, но никак не истинной привязанностью и любовью.
Слово «любовь» было в тарханском обиходе постоянным, навязчиво-вымогающим.
Волнуемая впечатлениями душа Миши тоже алкала любви, но любить ему было некого; он только оборонялся.
Ранним утром он нетерпеливо откидывал занавеску, распахивал окно, чтобы в сонную комнатку хлынул майский холод черёмухи, блеск ещё не греющего солнца, звук далёкого кукования. Шумел ветер по вершинам деревьев тарханского парка. Утро было независимо и тем прекрасно. Ничья воля над ним не властвовала, оно существовало вне человека.
Миша не умел поверхностно любоваться природой. Он кидался в любое впечатление как в водоворот, когда пловец и пучина становятся равными. Но, вбирая, он не растворялся в увиденном, а как бы становился им: становился зеленеющим под ярким солнцем дубом, таинственно-тёмным шатром ели, прудом, с мелко бегущею рябью под ветром; травой, вздыхающей под торопливыми шагами. Он был счастлив до боли. Не придавлен полнотой ощущений, а как бы освобождён: тайная дверца в нём отмыкалась – и это были уже стихи!
Вот он кружит по саду, длинной аллеей забредает в одичавшую леснигу, откуда рукой подать до настоящего леса, и всё твердит, повторяет на несколько ладов одни и те же слова, чтобы вместить в них обилие пробудившихся чувств.
Любая малость волнует его. Впечатление от мерцающей реки или от ореховой ветки, насквозь просвеченной солнцем, сродни откровению. Ему необходимо выразить это вслух; он изнемогает от немоты – свистит, кричит и, как за якорь спасения, ухватывается за чьи-то строчки, твердит их, окружая простенький куплет радужной оболочкой. Произнесённое слово ещё не полностью воплощено. Он смутно понимает это и спешит в мезонинчик, отмахивается от вопросов Христины Осиповны, раскрывает тетрадь, чтобы записать стихи, которые, так кстати вспомнившись, пришли ему на выручку... Пишет, пишет, не замечая, что уже вырывается из чужого текста, переиначивает его по-своему. Он сочиняет, почти не ведая того.
Христина Осиповна, не зная, как отнестись к внезапному прилежанию питомца, то и дело заглядывает через порог, шумно вздыхает, даже произносит вполголоса по-немецки, чтобы успокоить самое себя, что-то вроде благочестивой сентенции: прилежание украшает доброго мальчика.
Всё напрасно. Миша не оборачивается. Он пишет.
Наконец по лестнице подымается бабушка. Она несколько часов подряд не видела внука. Слава Богу, вот он, за столиком. Круглая темноволосая голова и светлый клок надо лбом.
– Мишынька...
– Бабушка! Послушайте, что я написал.
Он читает вслух, торопясь, захлёбываясь и уже хмурясь: только что эти же рифмы звучали в нём, как целый оркестр, а сейчас сникают и гаснут. На глазах у него слёзы, лицо обиженное и несчастное.
– Ах, да что же ты, голубчик мой? Право, переписано красиво, ровно... О чём ты?
– Ах, ах, – вторит немка, хлопая по бокам ладонями, как всполошённая курица.
А мальчик плачет всё горше, не умея ничего объяснить. Про себя он думает в ожесточении, что никогда больше не станет читать и списывать этих гадких стихов. Он полон к ним вражды, недоверья. Но проходит минута, другая... утешенный ложкой варенья, он ласкается к бабушке и просит привезти ему новые книги, в смутной надежде отыскать в них то, чего недоставало в прежних.
– Будь по-твоему, дружок, – соглашается бабушка. – На будущей неделе пошлю Абрамку Соколова в Москву для хозяйственных надобностей. Пусть сходит на Поварскую к братцу Дмитрию Алексеевичу[2]2
...Пусть сходит на Поварскую к братцу Дмитрию Алексеевичу. – Столыпин Дмитрий Алексеевич (1785—1826), брат Е. А. Арсеньевой; офицер с 1803 г. В качестве артиллериста участвовал в кампании 1805 – 1807 гг., отличился под Аустерлицем. Генерал-майор, позднее – военный теоретик. Служил в Южной армии, где командовал корпусом. Был близок с П. И. Пестелем, и его, как человека просвещённого и передового, декабристы прочили – наряду с его братом Аркадием Алексеевичем, а также с М. М. Сперанским и И. С. Мордвиновым – в состав Временного правительства.
[Закрыть]. Дам письмо. Ужо отыщут тебе на Кузнецком мосту самые лучшие стихи с картинками!






