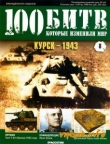Текст книги "Дикий мед"
Автор книги: Леонид Первомайский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 34 страниц)
Казалось, что это короткая передышка перед новым движением вперед. Но прошли апрель и май, дороги высохли, а затишье на всем фронте продолжалось.
Стало известно, что немцы стягивают огромные резервы и готовят неслыханное по размаху наступление, чтобы взять реванш за разгром под Сталинградом и паническое отступление по всему фронту. Окончательные намерения фашистского командования не были ясны и самому Гитлеру. Он знал только, что должен наступать, что только грандиозным наступлением можно предупредить окончательный упадок боевого духа и разложения немецкой армии. Самым удобным местом была Курская дуга. Конфигурация фронта давала возможность одновременного наступления с севера и юга с целью окружения советских войск, расположенных внутри Курской дуги. На случай успеха можно было думать, как развить его дальше, вплоть до далеко идущего броска на северо-восток, в обход Москвы, что снова поставило бы советскую столицу под угрозу падения.
Дивизия генерала Костецкого держала оборону на главном направлении намеченного немцами удара, и Костецкий, как опытный генерал, не мог этого не знать. Против него стояла дивизия прославленных гитлеровских головорезов, для устрашения названная громким именем; она была только одной из многих пехотных, танковых и моторизованных дивизий, составляющих группу армий «Юг», которая должна была осуществлять замысел гитлеровского командования севернее Харькова.
Генерал Костецкий из своей землянки хорошо видел глазами дивизионных разведчиков, как готовит своих солдат к наступлению командир гитлеровской дивизии, стоявшей против него, видел, не терял времени и неутомимо руководил подготовкой своих бойцов к обороне.
Как то, что делал командир гитлеровской дивизии, было только частью гитлеровского плана, так и то, что делал Костецкий, было только частью мер советского командования, рассчитанных на выматывание, обескровливание, перемалывание и в дальнейшем, в ходе решающего движения вперед, окончательное уничтожение гитлеровских сил.
Меры Костецкого были не только мерами его дивизии, они были частью общей обороны армии, в которую входила его дивизия, и фронта, в который входила его армия, и, наконец, обоих фронтов, противостоявших гитлеровцам на Курской дуге, а также третьего резервного фронта, что сформировался у них в тылу и мог быть использован как для обороны, так и для наступления: для обороны в том случае, если бы фронты не выстояли и вынуждены были бы отступить, и для наступления, если бы гитлеровцы в ходе своего удара исчерпались, на что рассчитывало наше командование и в чем в конечном счете не ошиблось.
Хоть генерал Костецкий редко выходил из своей землянки, хоть он больше лежал на нарах, укрывшись до подбородка белым тулупом, он до мельчайших подробностей знал полосу обороны, порученную его дивизии.
Костецкий знал также, что, если его дивизия не выстоит на главном рубеже, если она пошатнется или отойдет, враг не сможет вырваться на оперативный простор, он натолкнется на армейскую полосу обороны, лежащую за ним в тылу, прикрывая пути к фронтовым рубежам обороны, которые имеют общую глубину до семидесяти пяти километров… Но и это еще не все – за рубежами двух фронтов, которые должны принять на себя удар гитлеровского наступления, лежит рубеж обороны резервного фронта, название которого в дивизии произносят шепотом, а еще дальше за ним – на расстоянии трехсот километров от переднего края – государственный стратегический рубеж, простирающийся от района Лебедяни на юг по течению Дона.
Костецкий давно примирился с мыслью, что он должен выстоять на своем рубеже и только потом двигаться вперед. Для него дело теперь заключалось в том, чтобы дождаться той минуты, когда все начнется: здесь и теперь все должно решиться.
Не Костецкого вина была в том, что он отступил от государственной границы в июне сорок первого года, не его вина была и в том, что остатки его дивизии легли на Трубежском болоте, как остатки многих других дивизий во многих других местах, но он не мог не брать и на себя части большой общей вины, на ком бы она ни лежала и какими бы причинами ни была вызвана… Тогда он видел много, теперь он знал уже все, и это знание придавало ему сил и уверенности, что не только он выстоит, но и никто не поколеблется: пусть грянет первый выстрел, для врага он будет началом конца.
Костецкий давно уже выпил свой чай и теперь снова лежал под тулупом на нарах. Свирепая кошка снова тронула его бархатной лапкой, поласкала, поиграла и вгрызлась со всем неистовством в поясницу.
– Вызывай Лажечникова, – проскрипел Костецкий, выгибаясь колесом от боли. Только перед Ваней Костецкий не скрывал своего состояния: он знал, что Ваня его не выдаст.
Знакомый голос Лажечникова возник в трубке сразу же, словно командир полка стоял где-то рядом, совсем близко, и говорил тихо и осторожно, глядя на искаженное болью лицо командира дивизии.
– Я слушаю, – сказал Лажечников.
– Что у тебя там слышно? – едва выдавил из себя Костецкий, сразу поняв, что Лажечникову тяжело с ним говорить.
– Ничего не слышно, – ответил Лажечников, – тихо, как на печи.
Голос Лажечникова звучал успокаивающе, почти ласково, но в этой успокаивающей ласковости Костецкий слышал лишь то, что хотел слышать, что ему подсказывали его боль и усталость.
«Зачем вам волноваться, – слышал Костецкий в голосе Лажечникова, – лежите себе в своей землянке и пейте чай, мы и сами знаем, что надо делать и когда тихо и когда гремит… Вы ведь давно уже не командуете дивизией, она сама собой командует – начальник штаба командует, и командиры полков командуют… Вам надо в госпиталь, мы тут как-нибудь без вас обойдемся…»
На деле же Лажечников думал совсем о другом. В кармане у него лежало письмо от сына, и он думал, что надо наконец улучить минуту и прочесть письмо, а тут все время мешают – то начинается обстрел, то приводят какую-то женщину-фотокорреспондента и надо с ней разговаривать, то звонит командир дивизии, а с ним надо быть особенно внимательным и деликатным: больной человек легко обижается.
Костецкий не мог обижаться на Лажечникова. Если он приписывал ему свои мысли, то только потому, что знал, с каким уважением относится к нему бывший лектор, случайно очутившийся в его дивизии в день, когда началась война… Трудно было тогда предполагать, что Лажечников так быстро превратится в боевого командира… И на границе хорошо показал себя, когда все спуталось, и на Трубеже… Костецкий вспомнил колыхание носилок над черным ночным болотом, освещенное вспышкой ракеты большое лицо Лажечникова, шедшего рядом.
Растроганный внезапно нахлынувшими воспоминаниями, Костецкий спросил, с трудом сдерживая волнение, которое совершенно не относилось к словам, что он произносил:
– Она уже у тебя?
Голос его прозвучал в трубке нетерпеливо и резко, Лажечников не знал, что думает в это время командир дивизии, и ответил коротко:
– Давно прибыла. Вот сидит рядом со мной.
Костецкому ответ Лажечникова показался небрежным, но отчитывать командира полка Костецкий не стал: разговор с Савичевым, боль и ненужные воспоминания утомили его… Трубка ускользала. Костецкий прижал ее щекой к подушке и заставил себя говорить.
Скрежетание голоса Костецкого полетело по проводу к Лажечникову, и из этого скрежетания, искаженного разными помехами на пути, вынырнули, как поплавки, одно за другим слова:
– Сверху интересуются… Лично обеспечь своевременное выполнение. Понятно? Ждут сегодня… У меня, все… У тебя есть что-нибудь?
– Ничего нет, – ответил Лажечников. – Будет выполнено.
– Выполняй, – всплеснулся голос Костецкого в трубке. – Понимаешь?
Больше ничего Костецкий не сказал, но и этого было довольно, чтобы Лажечников понял, что у командира дивизии есть причины так интересоваться корреспондентом, прибывшим фотографировать подбитый «тигр». Мысль Лажечникова сразу заработала в том же направлении, что и мысль Костецкого во время разговора с Савичевым, и он подумал теми же словами, что и Костецкий: «Значит, уже скоро…»
– Все понимаю, – сказал Лажечников, не отнимая трубки от уха (может, командир дивизии еще что-нибудь скажет), но в трубке только что-то потрескивало и слышалось обычное гудение, как всегда на линии. Лажечников подержал трубку еще немного возле уха и отдал телефонисту.
Обеспечить своевременное выполнение задания – приказ был недвусмысленный. Лажечников хорошо понимал всю важность задания, возложенного на фотокорреспондента Варвару Княжич, которая сидела рядом с ним в траншее, но, несмотря на это, ничего не мог сделать, чтобы обеспечить так необходимую «наверху» своевременность. Солнце уже поворачивало на запад – ничего не выйдет из этого фотографирования, он хорошо знает, где стоит танк; если фотокорреспондент доберется к нему, все равно солнце будет ослеплять глаза, напрасные хлопоты – лучше отложить все это на утро.
– А разве он не на этом берегу?
– Если бы капитан Жук пустил его на этот берег, мы с вами не сидели бы тут.
– Что же мне делать?
Стоило ли сидеть под огнем в блиндаже телефонистов, чтобы узнать, что по дороге к немецкому тапку надо еще форсировать реку! Неужели там, в штабе, не знают ничего? Или, может, их неверно информируют? Нет ничего легче – написать, что реку форсировали, танк подбили… Недаром же у этого полковника такой вид, словно он в чем-то виноват перед нею. Написал, что подбили, а теперь вывертывайся!
Она буквально поняла Лажечникова.
– Я же не могу вернуться к Савичеву без снимков, – с отчаянием в голосе сказала Варвара.
Лажечников закуривал папиросу, по привычке низко наклонившись в окопе. Воротник расстегнутой гимнастерки встопорщился хомутом, и Варвара увидела у Лажечникова на шее россыпь больших, неправильной формы рыжеватых веснушек.
Варвара невольно отвела взгляд. «Боже мой, у Саши были такие же веснушки на шее и на плечах… Что же это такое? Зачем эти напоминания в такую минуту и в таком месте? Зачем все сходится так, словно нарочно: и встреча с майором Сербиным, и эти веснушки на шее у полковника, который посылает неправильные сводки в штаб, а теперь не знает, что со мной делать».
Лажечников все еще раскуривал свою папиросу: в его сгорбленной фигуре было что-то беспомощное, и Варвара чувствовала к нему жалость, но жалость эта была смешана с неуловимой враждебностью и раздражением, которого она не могла объяснить. Еще больше раздражаясь от непонятности всего, что происходит с нею и в ней, Варвара сказала чужим, холодным голосом:
– Ну как вы хотите, а я должна выполнить приказ Савичева.
Лажечников поднял голову, затянулся глубоко и, пряча папиросу в кулаке, как сделал бы это ночью, посмотрел на Варвару полным понимания, доброжелательным взглядом.
– А вот стемнеет, переправим вас за реку, дождетесь там рассвета и сфотографируете. Все будет в ажуре.
Впечатление беспомощности, которое производил Лажечников, когда сидел согнувшись над папиросой, сразу исчезло. У Лажечникова был спокойный вид уверенного в себе человека. На нее глядело большое чистое лицо с симпатичным толстым носом и добрыми глазами, над которыми нависали кустистые брови, золотистые, с выгоревшими на солнце, совсем белыми волосками.
Лажечников старательно застегнул воротник, сидя оправил гимнастерку, в последний раз приложил глаз к окуляру стереотрубы и проговорил, как показалось Варваре, голосом специально для нее бодрым:
– А теперь мы пойдем обедать… Вы, я думаю, тоже проголодались? Артиллерийский обстрел всегда нагоняет на меня аппетит.
– Да, – ответила Варвара, которая давно уже чувствовала голод, – я с утра ничего не ела.
А Лажечников говорил уже деловым, начальническим голосом, обращаясь к кому-то третьему:
– Я на вас полагаюсь, Кахеладзе. Если что – сразу же связывайтесь со мной.
Тут только Варвара заметила, что в траншее кроме Лажечникова и телефониста был еще аккуратный лейтенант. Лицо ого с синими от бритья щеками, под широким зеленым шлемом, похожим на панцирь черепахи, казалось маленьким, как кулачок.
– Гору Тетнульд в Сванетии знаете, товарищ полковник? – ответил приятным голосом Кахеладзе, готовясь занять место у стереотрубы. – Полагайтесь на меня, как на ту гору.
Лажечников молча улыбнулся, глядя, как лейтенант с независимым видом уже устраивается на его месте.
– Давайте потихоньку за мной, – наклонился к Варваре Лажечников, – и делайте все, как я… Понятно?
– Понятно, – почему-то прошептала Варвара, наполняясь доверием к спокойному и уверенному в своей силе полковнику.
Лажечников поднялся и, напрягшись, вылез из окопа. Через минуту Варвара, низко пригибаясь и временами совсем припадая к земле, уже бежала за ним зигзагами по искалеченному недавним обстрелом кукурузному полю.
Они уже пробежали мимо блиндажа телефонистов, когда вдруг в тишине, что, казалось, надолго воцарилась вокруг, послышался орудийный выстрел. Снаряд разорвался у них за спиной – очень близко. Варвара невольно оглянулась и увидела столб земли и дыма над местом, где только что был блиндаж. Из этого столба падали в кукурузу обломки бревен, комья земли и еще какие-то темные, почему-то страшные куски. Потом дым рассеялся, и над местом взрыва в воздухе закружился белый, с рыжеватыми перьями на крыльях, одинокий голубь.
БЕС ПРАЗДНОЙ БОЛТОВНИ И ХОЛОДНОГО ЛЮБОПЫТСТВА живет в углу редакционного коридора, в затканном паутиной старом шкафу, между пустыми бутылками из-под чернил, рваными скоросшивателями, пузырьками с окаменевшим конторским клеем и картонными коробочками от кнопок и скрепок. Если б не он, этот старый распущенный бес, в редакции царила бы приличная сдержанность, свойственная любому другому учреждению, потому что вне редакции все ее сотрудники используют отпущенную им на день норму человеческих слов с определенными промежутками для отдыха языка и мысли, – а тут стоит им только сесть за свои столы, как беспокойный бес начинает дергать их за ниточки или щекотать под языком (не знаю уж, как это там у него устроено); вот и вспыхивает та болтовня, от которой вспухает голова даже у тети Насти, что сидит неподвижно, как скифский идол, у редакционного лифта и перемалывает языком десять тонн устарелых новостей и свежих сплетен в течение своего рабочего дня.
Спросите у тети Насти, что будет в воскресенье на обед у Дмитрия Лукича Пасекова, главного редактора, и какие подарки привез он жене из Гаваны, – спросите и получите исчерпывающие сведения, которые не нуждаются в проверке. Осведомленности тети Насти мог бы позавидовать любой отдел кадров, но и она была поражена, увидев перед редакционным лифтом красивую молодую женщину, следом за которой с убитым видом шел неопределенного возраста небритый юноша без фуражки, в рыжем свитере и стоптанных башмаках. Они не были зарегистрированы в феноменальной памяти тети Насти ни как штатные сотрудники, ни как безнадежные авторы, ни как случайные посетители редакции.
– Как пройти в отдел фото? – спросила Галя Княжич, пропуская в кабину своего спутника.
– Под самое небо, – пропела тетя Настя, – да коридором в конец направо, да по лестнице вниз на два этажа, как раз там оно и будет… Читать умеете? На дверях надпись, надо стучать… А что они там делают, в темноте, при красном фонаре, я уж вам и не скажу.
Дверь хлопнула, лифт пошел вверх; казалось бы, и делу конец, но бес уже дернул тетю Настю за язык – мельница пошла крутиться, теперь только подбрасывай мелево.
– Пришло их двое наниматься в фотокорреспонденты, – сказала тетя Настя художнице из отдела оформления, когда та, опаздывая по своему обыкновению, быстро простучала высокими каблуками по коридору и нетерпеливо остановилась у лифта. – Как раз вот полетели на небо… Она из себя ничего, в французской вязаной кофточке, и такая на кого-то похожая, такая на кого-то похожая, ну просто не вспомню, где я ее видела, а он такое ничто, такое уж ничто – свитерок на шее растянут, словно он с крюка сорвался… Возьмут их, как ты думаешь?
Лифт пришел вниз, и художница открыла дверь.
– А разве там есть свободные места, в отделе фото?
Тетя Настя задумалась.
– Вот и я думаю: а есть у нас места в том отделе? Ее можно бы взять, а его я бы не взяла…
В это время Галя Княжич и ее спутник уже стояли перед дверями фотолаборатории.
– Слушай, Белая Галка, – сказал юноша, – она нас не туда послала…
– Все-таки давай спросим, – ответила Галя и нерешительно постучалась.
Женский голос из-за дверей крикнул, что им неизвестно, где сейчас Варвара Княжич, а мужской добавил, чтоб не мешали работать, – справку можно получить в секретариате.
Галя Княжич и ее спутник, разыскивая секретариат, попали в машбюро. Шесть женщин разного возраста одновременно прекратили работу (это выглядело так, словно на поле боя замолкло сразу шесть тяжелых пулеметов), шесть женщин, держа пальцы над клавишами, сказали, что только ответственный секретарь может знать, где Варвара Княжич.
Художница из отдела оформления стояла в коридоре с практиканткой из отдела писем, когда Галя со своим юношей прошли к ответственному секретарю.
– Это они, – сказала художница. – Такая красавица и такой крокодил…
– Может, он талантливый, – подумала вслух практикантка.
Секретарь редакции глянул на Галю поверх толстых выпуклых стекол очков.
– А разве она еще не вернулась?
– Не вернулась, – вздохнула Галя, теребя полосатую сумочку. – Уже месяц, как от мамы ничего нет. Бабушка волнуется. Мама моей мамы, понимаете?
Она чувствовала себя в редакции, как Красная Шапочка в лесу.
– Стойте, стойте! – закричал Серый Волк за столом секретаря редакции. – А куда она поехала? Напомните, пожалуйста, это просто невероятно, но я забыл, куда мы ей выписывали командировку.
Трах-тах-тах-таратах, – сделали в это время шесть пулеметов в машбюро, и поверх этой отчаянной очереди прозвучал голос одной пулеметчицы:
– Я ее сразу узнала: это дочка Варвары Княжич – необычайное сходство.
– А этот, с нею, ее муж? – отозвалась другая машинистка: трах-тарарах-тах-тах!
– Что ты, что ты?! – ударили сразу все шесть пулеметов одной длинной очередью: тарах-тарах-тарах-тах-тах-тах!
– А почему бы и нет? У красивых женщин мужья всегда уроды.
– Трах-тах-тах-тарарах, – выстрелили пулеметы, словно подводя итог обмену мыслями, – тарарах-тах-тах!
– Она поехала с геологической экспедицией в Восточные Саяны, – удивилась Галя Княжич. – Как вы можете этого не знать?
– Совершенно верно, – пропустил мимо ушей Галино удивление секретарь. – Она всегда выбирает всякие медвежьи углы. Что же вы хотите? Это очень далеко, но волноваться нет оснований: слетала же она на полюс! Ну вот видите. Мы выясним, а вы позвоните.
Они вышли в коридор. Галя остановилась, чтобы поправить волосы, она в эту минуту была очень похожа на мать.
– Сева, – сказала Галя, – мне уже пора в мастерскую… Ты обещал побриться. Сходишь в парикмахерскую?
– Возможно, – ответил небритый Сева, – но я забыл накрыть глину мокрой тряпкой… Может, я потом схожу?
– Я боюсь, что твою «Счастливую женщину» не поймут и не примут.
– Почему?
– Слишком преувеличенные формы, и потом представь себе ее на пьедестале! Я не спорю, замысел чудесный… Но подумай сам… Нога у нее будет неприлично задрана.
Сева уткнулся подбородком в растянутый воротник свитера.
– Ее надо выполнить в мраморе и положить в парке на освещенную солнцем поляну, прямо в зеленую траву… Тогда все поймут и примут, – упрямо сказал он и пошел вперед по коридору.
– И потом, у нее нет лица, – сказала вслед ему Галя, пряча зеркальце в сумочку.
– Так я вижу, – услышала она издалека голос Севы.
– Подожди, – догнала его Галя, – раз уж мы тут, почему бы тебе не показать им «Счастливую женщину»?
Сева угрюмо молчал.
– Боишься? Я так и знала, что ты побоишься.
Скульптор сунул руку за растянутый воротник своего свитера и достал из кармана рубашки пачку фотографических снимков.
– Ни черта я не боюсь, Белая Галка, пойдем, если хочешь.
Секретарь редакции сделал вид, что не удивлен их возвращением. Он как раз беседовал с практиканткой из отдела писем. Обеспокоенная тем, что в отдел фото пришли наниматься корреспонденты, она тоже прибежала позондировать почву относительно перехода в штат.
– С чего вы взяли, что у нас есть места в штате? – лениво говорил секретарь. – Это приходила дочка Варвары Княжич спрашивать про мамочку. Бабушка волнуется… На сколько писем вы сегодня ответили?
Галя, держа в руке пачку снимков, остановилась у секретарского стола. Сева стоял у нее за спиной, сунув руки в карманы и угрюмо сверкая глазами.
– А, это опять вы! – Секретарь только теперь поднял голову, хотя давно уже видел их. – Что у вас там еще?
Галя молча протянула ему снимки.
– Вы тоже фотографируете?
– Нет, это совсем другое…
Секретарь с профессиональной быстротой просматривал снимки. Практикантка через стол заглянула в снимки и с независимым видом медленно вышла. В коридоре ритм ее шагов изменился, она пулей влетела в отдел оформления, словно за ней кто-то гнался.
– Слушай, – крикнула практикантка художнице, – он скульптор, ты что-то напутала насчет отдела фото!.. Пойди погляди!
Секретарь редакции уже второй раз просматривал снимки.
Большая женщина лежала на спине, закинув ногу за ногу, и смотрела на младенца, которого держала на раскрытой ладони поднятой вверх руки. Глиняные волосы заплывали ей под затылок, лицо было еле намечено, в глаза бросались преувеличенные формы – громадные груди, руки, бедра, особенно же ноги, будто изуродованные слоновой болезнью… Только младенец был простой, человеческий, он жмурился от солнца и казался здоровым и счастливым.
– Здорово, – сказал секретарь, безошибочно упираясь глазами в Севу и словно подтягивая его своим взглядом к столу, – только это не для нас, молодой человек.
Сева по привычке сунул подбородок в воротник свитера, словно стараясь схватить его зубами.
– Почему?
– Слишком смело, слишком откровенно… Вы знаете, какой у нас тираж? В Сыктывкаре не поймут… Ногу вы ей нарочно задрали? И в Змееве не поймут… А в Гурьеве, вы думаете, поймут?
– Вы считаете, там дураки живут? – двинулся к столу Сева, но Галя локтем преградила ему дорогу.
Секретарь обиделся. Художница из отдела оформления пришла вовремя, он небрежно протянул ей снимки:
– Как вы думаете, это можно у нас напечатать?
Художница глядела то на снимки, то на Галю, – Галя прямо похолодела от ее взгляда, – художница угадывала в преувеличенных формах глиняной счастливой женщины мягкие линии Галиной фигуры и мысленно возмущалась тем, что модель водит за собою скульптора по редакциям.
– Нет, – резко сказала художница, бросая на стол снимки, – у нас это не может быть напечатано!
Секретарь аккуратно сложил снимки и отдал пачку Гале.
Подозрения художницы были безосновательны: Галя не позировала для «Счастливой женщины», одна мысль об этом испугала бы ее. Да скульптору и не нужна была натурщица: скульптор Сева был влюблен в Белую Галку – глина выдавала его тайну.
– Почему она так смотрела на меня? – спросила Галя, когда они снова очутились в коридоре.
– Дуреха, – пробурчал Сева, – дуреха колоссальным тиражом…
У лифта стояли очень красивая сотрудница отдела литературы и известный поэт, который приходил в редакцию выяснить, почему задерживается печатание его стихов. Когда кабина подошла, они пропустили Галю и Севу – им надо было закончить разговор.
– Он, должно быть, дефективный, – сказала красивая сотрудница, имея в виду Севу, и заглянула поэту в глаза снизу вверх: он был очень высокий и худой, ходил с толстой палкой и не знал, куда ее девать. – Зачем ей было за такого выходить?
– А кто она?
Поэт переложил палку из правой в левую руку.
– Не знаю.
Поэт перебросил палку из левой руки в правую с такой быстротой, словно собирался стукнуть собеседницу по голове.
– Откуда же вы знаете, что это ее муж?
Сотрудница повела головой с видом победоносного всепонимания.
– Разве не видно?
– Мне абсолютно ничего не видно, – сказал поэт, и его худое лицо покрылось белыми пятнами. – Когда будет корректура, вы мне позвоните?
– Позвоню, только обязательно подумайте о последней строфе. Надо прояснить мысль… У нас колоссальный тираж!
Она снова заглянула поэту в глаза снизу вверх, не понимая, что смертельно обидела его: поэт был не только худ и высок, но и удивительно уродлив, он напоминал ножницы для разрезания бумаги, одетые в модный костюм.
«И такая вот дурища решает судьбу наших стихов!» – с тоской подумал поэт, мило сделал ручкой сотруднице и, не дожидаясь лифта, пошел вниз по лестнице, простукивая ступеньки своей толстой палкой, как слепой.
Потрясающая новость о том, что дочка Варвары Княжич водит за собой по редакциям скульптора, который слепил ее обнаженной из глины, в одно мгновение облетела все этажи редакции. Вот уж было работы старому распущенному бесу из редакционного шкафа! Он дергал за свои ниточки, множество языков толкло, молотило и перемалывало сенсацию на все лады, множество равнодушных голов выдумывало всякие нелепости и сразу же начинало в них верить. Сенсационная новость катилась вниз по лестнице и взлетала вверх в кабине лифта, пока тетя Настя не подвела итоги волнующей дискуссии со свойственным ей глубокомыслием и авторитетом.
– Вон какая молодежь теперь пошла! – сказала сама себе тетя Настя. – Ни стыда, ни совести. Хранцузы. – Правда, она тут же пожалела Варвару Андреевну Княжич, которую очень уважала и считала во всей этой истории безвинно пострадавшей: – За какие же это грехи ей бог такого зятька послал? Да и дочка тоже… Я ее сразу узнала, как только они подошли к лифту, – ну в точности Варвара Андреевна, вылитая мама, только характер не тот… Не тот, не тот характер!
На этом редакционный бес свернул в клубочек ниточки в своем углу, укрылся растрепанным скоросшивателем и заснул. Задремала и тетя Настя, почувствовав блаженное облегчение под языком, который хорошо наработался сегодня: лифт непрерывно ходил вверх и вниз, и всем надо было рассказать о несчастье, которое постигло такую хорошую, вежливую и добрую женщину, как разъездной фотокорреспондент редакции Варвара Андреевна Княжич, которая и на войне была, и на льдину летала, и всюду ей везло, а вот не повезло в собственной семье, – ну что вы на это скажете, граждане?
А Варвара Княжич в это время лежала с высокой температурой в палатке на берегу горного ручья и не знала о том, что у ее Гали уже есть муж, как не знала об этом и сама Галя, как не знал об этом и скульптор Сева, который называл дочку Варвары Княжич Белою Галкой, должно быть за белокурые тонкие волосы, что совсем не подходили, по его мнению, к ее имени.