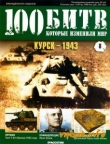Текст книги "Дикий мед"
Автор книги: Леонид Первомайский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 34 страниц)
Самолеты уже грозно трубили над обрывом.
– Они успеют отбомбиться, пока вы туда доберетесь, – сказал Лажечников и, кивнув Варваре, пошел к лодке, на которой все в той же напряженной позе сидел Костецкий, окруженный офицерами и телефонистами.
Проходя мимо лодки, Варвара услышала у себя за спиной:
– Вот так тетя! Ничего не боится,
– Должно быть, не понимает.
– Тут трудно не понимать!
Варвара не оглянулась.
Конечно же Варвара многого не понимала из того, что творилось вокруг нее. Не понимала она и того, каким образом генерал Костецкий, полковник Лажечников и все офицеры, которых она видела, очутились тут, под обрывом, в двух шагах от поля, куда двигались сейчас немецкие танки. Проще даже – она не думала об этом. Раз Костецкий и Лажечников тут, значит, им надо тут быть, понимала Варвара, и этого понимания ей вполне хватало.
10
Ночь становилась все тяжелее для генерала Костецкого. Острая боль, охватившая его во время одевания, новый приход военврача Ковальчука с медсестрой Ненашко и новое впрыскивание, а главное – то, что при этом были Повх и Курлов, вконец обессилили его. Костецкий лежал под своим тулупом почерневший как уголь, боясь пошевелиться, чтобы не вызвать новых спазмов, и в его мозгу медленно, как пульс умирающего, билась неотвязная мысль: «Пусть они уйдут, пусть они оставят меня в покое!» Непосильную задачу взял он на себя. Враг, с которым ему приходится бороться, сильнее его. Этого врага он не перехитрит, будь он хитрее во сто крат. Против его, Костецкого, хитрости у того врага есть своя смертельная хитрость, и хотя он, Костецкий, всегда наготове, всегда держит сухим свой порох, тот враг умеет нападать на него так неожиданно, так коварно, что вся готовность Костецкого идет прахом, ничего от нее не остается, кроме бессильного желания, чтобы все скорее кончилось – кончилось раз и навсегда. «Пусть они уйдут, пусть они оставят меня в покое!» Но Повх и Курлов не уходят из его блиндажа; военврач Ковальчук и Оля Ненашко сделали свое дело и сразу же ушли, а Повх и Курлов сидят у стола и молчат. Их молчание не обещает ничего хорошего; наверное, они знают что-то, чего Костецкий еще не знает, и потому не уходят, что должны сказать ему, с чем пришли в блиндаж, когда он упал на свои нары и не смог больше подняться. Ваня побежал за Ковальчуком, а они стояли над ним и видели, как он корчится от боли, слушали его стоны, наклонялись над ним, молча переглядывались, думая, что ему уже пришел конец… Нет, это еще не конец, но уже скоро, очень скоро. Может, нужно им сказать, что он знает, с чем они пришли? Или не сдаваться до последней минуты, притворяться, что он ничего не знает? Они не посмеют ему сказать, и он уйдет из этого блиндажа, из этого заболоченного леса, с этого последнего в его жизни рубежа командиром дивизии, а не уволенным за непригодностью к делу, умирающим генералом. Нет, нужно взять себя в руки, нужно собрать все силы и но сдаваться, как не сдается солдат, даже зная, что смерть неизбежна! «Пусть они уйдут!» Сколько раз он видел, как, вынужденные биться с врагом, во много раз более сильным, бойцы не только не терялись, не только не думали об отступлении, а становились еще злее и бились до последнего патрона, до последней гранаты, которую берегли для себя… Видел он и таких, что отступали – по приказу командования или по собственной воле, все равно, – потом они уже нигде не могли скрыться от суда собственной совести, если у них оставалась совесть, если ее не убивал страх. «Пусть они оставят меня в покое!» Костецкий делает отчаянное усилие, осторожно открывает глаза – веки такие тяжелые и так медленно раскрываются, словно они из железа, – он открывает глаза и встречается взглядом с глазами Повха и Курлова. Они смотрят на него озабоченные и суровые: он не ошибся, что-то случилось, но, кажется, совсем не то, что он думал. Повх толстыми пальцами берется за дужку своих очков, снимает их. Костецкий видит мелкие добрые морщинки у его глаз. Курлов тоже улыбается как может; оба откровенно рады тому, что он хоть на короткое время победил своего врага.
– Ну, как дела, Родион Павлович? – говорит, улыбаясь морщинками возле добрых глаз, начальник штаба Повх. – Прошло?
– Прошло, – пробует улыбнуться ему в ответ Костецкий. – Прошло, будь оно проклято!
– Ну вот и хорошо, – быстро бросает себе за уши дужки очков полковник Повх. – Не время ему поддаваться… Перебежчик с очень важными сведениями.
Легко, совсем не чувствуя боли, почти без усилий, генерал садится на нарах. Белый тулуп сползает на доски пола, Костецкий бросает взгляд на Ваню. Ваня сразу же подходит с кителем, генерал, не подымаясь, всовывает руки в рукава и застегивается на все пуговицы.
– Допрашивали?
– Отказывается отвечать, – пожимает плечами Курлов. – Заявляет, что скажет только генералу.
– Разрешите, товарищ генерал? – говорит Повх голосом, в котором слышится: «Вы сумеете?» – и добавляет: – Командир разведроты ожидает с ним тут.
– Давайте его сюда.
Ваня выходит. В блиндаж, на ходу сбрасывая плащ-палатку, спускается командир разведроты капитан Мурашко, за ним два автоматчика вводят промокшего до нитки немца в грязном мундире. Он без пилотки, волосы слиплись у него на сером лбу, глаза воспаленно блуждают. Увидев в блиндаже генерала, перебежчик словно спотыкается и, окаменев, останавливается у входа. Руки его прилипают к штанам, из рукавов течет вода и по серым, грязным пальцам перекатывается на штаны. Командир разведроты делает знак автоматчикам, они тоже выходят.
Костецкий долго смотрит на немца. Он их немало уже видел за два года войны, начиная с первого дня, даже раньше: первого он увидел еще до начала… Тот перебежчик так же навытяжку стоял перед ним с помертвевшим, серым лицом, и так же бегали у него глаза. Командир пограничного отряда позвонил Костецкому по телефону, и он выехал на заставу ночью, набросив на плечи кожаный реглан. Тот перебежчик стоял у стены в хате, и если бы не плакат с пограничниками и собаками у него за спиной, лица его нельзя было бы отличить от белой стены. Тот перебежчик был очень молодой, высокий парень, из рукавов короткого и узкого для него мундирчика выглядывали большие красные руки с черными полосками земли под кривыми ногтями. Что заставило его перебежать к нам? Ему угрожал расстрел, он был пьян и ударил офицера – разве этого мало? Военно-полевой суд действует быстро и неумолимо. К тому же он всегда сочувствовал русским, его отец был коммунистом – неужели это тоже не имеет значения? Больше всего тот перебежчик боялся, что русские его расстреляют; сначала он не думал об этом, теперь он был убежден, что его так или иначе расстреляют. С часу на час начнется война, врагов большевики не милуют. К тому, что говорил перебежчик, стоило прислушаться, командир пограничного отряда не напрасно вызвал Костецкого ночью.
Белесые волосы наползали тому перебежчику на глаза, сведенные судорогой губы дрожали, когда он сказал:
– Двадцать второго июня в четыре часа утра гитлеровские войска перейдут в наступление по всей советско-германской границе.
Костецкий смотрел на него таким неподвижным взглядом, что тот перебежчик, бледнея еще больше и с еще большим дрожанием большого трусливого рта, произнес, наверное, заранее обдуманные слова:
– Господин генерал может меня расстрелять двадцать второго июня в пять часов утра, если окажется, что я лгу.
Все было правдой. Костецкий с первой же минуты знал, что тот перебежчик говорил правду, его правда только подтверждала данные дивизионной разведки и наблюдения бойцов пограничного отряда, но командующий армией, которому он немедленно протелефонировал, не поверил или не захотел поверить той правде и презрительно бросил в трубку:
– Не поддавайтесь на провокации, полковник. Вы читали заявление ТАСС? У нас прекрасные отношения с кумом.
Командующий армией больше доверял куму, чем восставшему из небытия штрафному полковнику Костецкому, который случайно не сгнил за колючей проволокой и прибыл в его распоряжение с основательно потрепанными нервами. Командующий армией, сам того не зная, был больше озабочен тем, чтобы угадывать мысли своего ослепленного вымышленной непогрешимостью начальства, нежели тем, чтобы верить собственным глазам. Через несколько дней за это пришлось расплачиваться дорогой ценой и самому командующему, и полковнику Костецкому, и тем солдатам, которых не успели привести в боевую готовность, подтянуть к границе из учебных лагерей, и тем летчикам, самолеты которых горели на прифронтовых аэродромах, в то время как они по-воскресному спали в своих городских квартирах, и тем танкистам, боевые машины которых, превосходно покрашенные, но не заправленные горючим, стояли на колодках в ожидании инспекции.
Сегодняшний перебежчик был и похож и не похож на того, давнего. Этот перебежчик был такой же грязный и перепуганный, но, в отличие от того, этот не бил в пьяном виде своего офицера, не ссылался на то, что у него отец коммунист, – он видел собственными глазами, что готовится наступление, слышал собственными ушами, на какое время наступление назначено, и чувствовал собственной шкурой, чем должно окончиться это наступление для него самого и для гитлеровцев в целом, – вот почему этот перебежчик и стоял сейчас в блиндаже генерала Костецкого, и грязная вода перекатывалась по его пальцам на штаны; вот почему он дрожащими губами раскрывал ту тайну, которую так тщательно оберегало гитлеровское командование.
– Немедленно отправить в штаб фронта, – отчетливо выговаривая не только каждое слово, но и каждый звук каждого слова, ясным и чистым голосом, с которого словно слетела постоянная ржавчина, сказал Костецкий. – Капитан Мурашко отвечает собственной головой.
Командир разведроты подбросил руку к фуражке и застыл от радостного волнения: не каждый день приходилось ему выполнять такие ответственные задания.
– Выполняйте, – кивнул ему Костецкий.
Капитан Мурашко посмотрел на перебежчика, и тот, поняв его взгляд, медленно повернулся к выходу из блиндажа. Он втянул голову в плечи, как будто ожидая выстрела в затылок. Там, где он стоял, на полу осталась лужа грязной воды. В блиндаж вернулся Ваня и сразу же стал подтирать доски куском старой, рваной шинели.
Неуверенность, к этому времени уже парализовавшая действия немецкого командования, спускаясь сверху по ступенькам армейской субординации все ниже и ниже, от штаба к штабу, от высших генералов к полевым командирам и к солдатам, превращалась внизу в отсутствие веры в возможность победы для фашистского вермахта, – отсутствие веры и привело этого перебежчика в блиндаж Костецкого.
Костецкий знал, что перебежчик говорит правду. Знал он также и то, что теперь уже не могут, не смеют не поверить ему ни в штабе армии, ни в штабе фронта, – два года тяжкой науки войны научили учитывать и предвидеть все, уже нельзя было платить большой кровью за просчеты и ошибки, за раздутые самолюбия и боязнь правды.
Полковник Повх и полковой комиссар Курлов ушли выполнять приказания командира дивизии. Костецкий, чувствуя себя почти совсем здоровым и бодрым, вышел из блиндажа. Медленно светало. Он не сдался, не отступил перед своим внутренним врагом, не отступит и перед новым гитлеровским наступлением. Пусть начинают, его дивизия готова, готов и он сам. Фактора неожиданности, которым удобно оправдывать ошибки и просчеты, не было и нет. Есть фактор желания видеть правду, считаться только с ней и стоять до конца.
Дождь перестал. Костецкий, в накинутой на плечи шинели, сидел у своего блиндажа на чурбане, на котором Ваня обычно колол дрова. Генеральская фуражка лежала козырьком вверх у ног Костецкого на траве, в фуражке белел большой скомканный платок. Иногда, осторожно наклоняясь, Костецкий брал двумя пальцами платок и вытирал холодный пот, проступавший у него на лбу. Ваня стоял рядом с равнодушным видом, но весь напряженный, готовый броситься в огонь и в воду по первому слову своего генерала.
Офицер связи, разбрызгивая скатами «виллиса» лужи на поляне, подъехал к блиндажу. Он не успел доложить о цели своего прибытия – Костецкий, упираясь руками в колени, тяжело поднялся, выпрямился и резко сказал:
– Привезли? Машину можете оставить тут, если пойдете со мной. Ну как? Решайте.
Офицер связи положил в руки генералу завернутые в газету орденские знаки и удостоверения к ним и только потом, приложив руку к фуражке, отчеканил:
– Имею приказ срочно быть у вашего соседа, полковника Лаптева. Со мной корреспондент, просит разрешения присутствовать при вручении наград.
– Где ж он, ваш корреспондент?
Костецкий продолжал говорить резко, короткими, рублеными фразами.
– Я здесь, товарищ генерал.
Из «виллиса» начал вылезать капитан в жестяном плаще и кирзовых сапогах с очень широкими голенищами. Плащ зацепился за что-то в машине, капитан прыгал на одной ноге, стараясь отцепиться. Костецкий расхохотался. Наконец капитан отцепился от машины и стал с независимым видом прилаживать на голове основательно помятую новую фуражку.
– Вы до войны в цирке служили? – крикнул Костецкий, наливаясь гневом. – Смирно! Извольте представиться по форме!
Капитан загрохотал плащом, становясь смирно. Лицо его удивленно окаменело. Он раскрывал рот, как рыба на сухом берегу, и не мог выговорить ни слова. Офицер связи, тоже капитан, не отрывая правой руки от козырька, локтем левой толкнул его в бок. Корреспондент глянул на него, догадался и приложил руку к фуражке. Движение это было беспомощное и нерешительное, оно сразу выдало в капитане закоренелого штатского, гнев Костецкого как рукой сняло, и он миролюбиво проговорил:
– Что ж вы молчите? Кто вы такой?
– Военный корреспондент, капитан Уповайченков, прибыл… прибыл…
Лицо Костецкого окаменело: разбуженная смехом боль опять начала подниматься от поясницы вверх по спине.
– Вижу, что прибыли… – сквозь зубы проскрежетал он. – Уповать прибыли? Или чтоб я на вас уповал?
– Разрешите присутствовать при вручении орденов награжденным бронебойщикам, товарищ генерал, – наконец пробормотал Уповайченков.
– Вы впервые на фронте?
– Впервые, товарищ генерал.
– А что вы делали до сих нор?
– Исполнял свои обязанности.
– Это хорошо…
Костецкий усмехнулся, подумав, что ему везет на встречи с корреспондентами. Сначала та женщина, похожая па домашнюю хозяйку, теперь этот чудак в жестяном плаще… Светало, и Костецкий все яснее видел беспомощное лицо Уповайченкова. Ну что ж, два года исполнял свои обязанности, пускай теперь посмотрит, как исполняют свои обязанности другие.
– Пойдете со мной, – бросил он кратко, повернулся и пошел по тропинке в лес.
Ваня двинулся следом за ним. Офицер связи только теперь оторвал руку от фуражки и повернул лицо к Уповайченкову.
– Что ж вы стоите, капитан? – сочувственно и насмешливо улыбаясь, сказал офицер связи. – Отстанете и заблудитесь в лесу… Желаю успеха!
Он вскочил в «виллис», шофер нажал на газ, и машина, раздавливая скатами воду в лужах, исчезла за деревьями.
Уповайченков, ошеломленный всем, что случилось, постоял недолго на месте, потом мотнул упрямо головою и двинулся за генералом. Вскоре он догнал его на узкой тропинке под лесными деревьями. Ваня загородил спиною дорогу Уповайченкову. Капитан безнадежно поплелся сзади. Крупные капли воды, падая с деревьев, громко барабанили по плащу Уповайченкова, он не обращал на это внимания, впервые, возможно, задумавшись над сложностью фронтовой, еще не известной ему жизни.
Уповайченков очень высоко ценил себя, и не столько за свои достоинства, сколько за положение, которое в силу случайного стечения обстоятельств занимал последние годы. Он работал в аппарате центральной газеты и авторитет этой газеты распространял на себя, требуя и к себе того уважения, каким пользовалась его газета.
Уповайченков думал, что стоит только ему назвать свою газету, и каждый должен благоговейно затрепетать перед ним, ее полномочным корреспондентом. Так оно, собственно, и было в довоенные годы, когда Уповайченкову приходилось выезжать на места. Он называл свою газету, даже не называл, а молча показывал редакционное удостоверение, и перед ним открывались все двери, его водили, поддерживая за локоть, как знатного гостя, от которого много зависит, возили на машине, кормили в ответственных столовых, показывали разные сводки и предупредительно знакомили с разными людьми… Он чувствовал себя если не богом, то одним из первых его заместителей на земле и с сознанием своей высокой миссии прибыл на фронт. Он решил любой ценой поговорить начистоту с Костецким и все порывался опередить Ваню, но Ваня преграждал ему дорогу без всякой задней мысли, потому что считал своим долгом быть как можно ближе к генералу.
«Ничего, придем на место, я тебе все скажу! – успокаивал себя Уповайченков, из-за Ваниной спины приглядываясь к Костецкому и чувствуя в душе с каждым шагом все более острую обиду и все большую враждебность к нему. – Я на своем месте, может, больше генерал, чем ты, и никому не позволю…»
Костецкий совсем забыл об Уповайченкове, шел медленно и прямо, заложив руки под шинель и сжатыми кулаками упершись в поясницу.
Ваня ни на шаг не отставал от генерала. Он все видел и все понимал. Переполненный жалостью к своему необыкновенному генералу, суровому и даже злому по внешним впечатлениям посторонних людей, но в глубине души доброму и даже нежному, восхищаясь Костецким, любя и боясь его, как иной раз любят и боятся родного отца, Ваня не решался ни слова сказать Костецкому и только время от времени громко вздыхал.
«Пустил бы он меня вперед, – думал Ваня. – Так нет, идет впереди, а тут и деревья, и кусты, и корни перепутались, мало ли что может случиться… И когда уже начальство решит что-нибудь насчет него? Все ведь знают, какой он больной, а никто не берет на себя решения. Да был бы я командующим армией или фронтом, разве стал бы я ждать, пока он тут погибнет от боли? Я все взял бы на себя, он бы у меня и опомниться не успел, как очутился бы в Москве, в самом лучшем госпитале! Конечно, я понимаю, как ему должно быть тяжело оставлять дивизию. Но войне еще не конец, останется и для него работа. Эх, нет моей силы да воли в этом вопросе!»
Они как раз проходили мимо гнилых пней, и Костецкий на минуту остановился, чтоб посмотреть фосфорическое свечение сгнившей древесины, о котором он знал, как и все люди его дивизии. Но рассвет уже вступал в свои права, и пни стояли в будничной своей обычности, ничем не напоминая о той сказке, которая творилась тут каждую ночь. Генерал вздохнул и двинулся дальше.
«Я их всех перехитрил, – думал генерал Костецкий, ступая по тропинке и глядя не под ноги, а высоко вверх, почти в самое небо, уже проступавшее серо-синими пятнами между кронами деревьев. – И Савичева, старого друга, перехитрил, и командующего тоже… Еще немного – и будет мой верх. Теперь я уже знаю это. Пусть оно грызет меня, пускай и совсем загрызет – только бы знать, что у Гитлера затрещало по всем швам. Собрал против нас все, что смог наскрести в своей империи, и думает, что мы снова покажем ему спину… Нет, брат, теперь из этого ничего уже выйти не может. Выстоим, и не только выстоим, но и ударим так, что покатишься, как с горы пустая бочка!»
Они вышли из лесу. Ваня побежал вперед к речке, чтобы вызвать лодку. Костецкий остановился возле ольхи, словно отбежавшей от леса и остановившейся в одиночестве почти у самого берега. Уповайченков, запыхавшись от непривычки к долгой ходьбе, подошел к генералу.
«Вот чучело, прости господи! – посмотрел на него Костецкий и снова углубился в свои мысли. – Перехитрил! Их я перехитрил, а себя… Себя, конечно, не перехитришь, знаю, чем все это окончится… Все знаю».
Ваня вернулся и увидел, что его генерал стоит, прислонившись к дереву плечом.
В одной руке Костецкий держал фуражку, зажав в другой платок, он утирал со лба пот. Он смотрел вниз и гнулся почему-то не назад, как привык видеть Ваня, а вперед. Воротник его свежего генеральского кителя был расстегнут, на темной шее билась наполненная кровью, узловатая жилка.
Уповайченков растерянно топтался возле Костецкого, наклонялся, стараясь заглянуть ему в лицо снизу, и бормотал испуганным голосом:
– Да что это с вами, товарищ генерал? Да вы, кажется, очень больны? А, товарищ генерал?
– Лодка ждет, – тихо сказал Ваня, отстраняя рукой Уповайченкова.
– Убери от меня этого жестяного капитана, Ваня.
Костецкий тяжело отклонился от дерева, положил платок в фуражку и, неся ее перед собой, пошел за Ваней к берегу.
Уповайченков рысцой побежал за ними.
Данильченко переправил генерала через реку. Костецкий, широко расставив ноги для равновесия, стоял в лодке. Когда лодка толкнулась носом в песок, Костецкий пошатнулся. Ваня подхватил его под локоть и вывел на берег. Уповайченков остался на левом берегу.
11
Оставив Варвару в окопе бронебойщиков, Лажечников и Жук вернулись на берег. Тут у Жука был вырыт в отвесном обрыве не то чтобы блиндаж, а довольно просторная ниша, вход в которую прикрывался плащ-палаткой.
– Будете переправляться? – спросил Жук у Лажечникова, который молчал всю дорогу.
– Останусь у тебя до рассвета, – отозвался Лажечников, остановившись над водой и делая руками энергичные движения, чтоб размять утомленное целодневным напряжением тело.
– Тогда идемте в блиндаж, там у меня уютно… И поужинать найдется.
Жук тоже принялся размахивать руками и приседать, подражая командиру полка. В темноте не было видно, как это смешно у него выходит, как топорщатся его колючие усы и с непривычки останавливаются круглые пронзительные глаза,
– Не пойду я в блиндаж, Жук, – сказал Лажечников, – успею под землей належаться… Есть у тебя лишняя плащ-палатка? Подремлю немного на песке – ночь теплая.
Голос Лажечникова прозвучал неожиданно печально. Жук обратил на это внимание, отметил мысленно: «Что это так допекло нашего полковника?» – и исчез в блиндаже.
Жук вынес из своей норы плащ-палатку и аккуратно расстелил ее на песке под самым обрывом. Потом он снова исчез ненадолго и вернулся с надувной резиновой подушечкой в руках.
– Соедини меня со штабом полка, – сказал Лажечников.
– Рябцев, – крикнул Жук, – вызови штаб полка!
Над окопчиком поднялась голова телефониста, которого Лажечников раньше не заметил.
Пока Жук пыхтел, надувая подушечку через короткую каучуковую трубку, как футбольный мяч, Лажечников переговорил со своим штабом и отдал необходимые распоряжения.
– Что ты там сопишь? – спросил он Жука, устраиваясь на плащ-палатке.
– Да вот надуваю эту трофейную бестию… Все же не на кулаке будете спать.
– Выбрось ты ее к чертовой бабушке… Что это у вас за привычка хватать всякое немецкое дерьмо?
– Солдаты принесли. Я сам, вы знаете, как к этому отношусь…
В голосе Жука слышалась обида: он искренне хотел, чтобы командир полка удобно выспался, и никак не мог думать, что трофейная подушечка, которую ему действительно принесли солдаты еще под Острогожском, может так рассердить Лажечникова. Ужинать Лажечников отказался. Жук лег рядом с полковником на шинели и лежал молча, так же, как Лажечников, заложив руки под голову, Подушечку он не решился подложить, отбросил ее в сторону, теперь из нее с шипением выходил воздух… Над лесом поднялась луна; река, влажно дышавшая неподалеку от их ног, блеснула полосой непрозрачного стекла. Темные вершины лесных деревьев за рекой резко отделились от проясневшего, почти белого неба.
– А что я вам скажу, товарищ полковник, – заговорил Жук. – Дальше нам сидеть в обороне не годится… Ждем, чтоб немец первый ударил?
– Не от нас зависит, Жук, – глядя на луну, которая почему-то очень быстро, словно торопясь, поднималась в небо, ответил командир полка. – Должно быть, так надо.
– Выдохлись мы, что ли?
– За нами в резерве целый фронт стоит, ты это знаешь.
– Вот и ударить бы по Гитлеру так, чтобы щепки полетели!
– Ударим, когда будет приказ.
– Или он по нас ударит, пока мы будем канителиться,
Лажечников устало засмеялся.
– Все возможно, капитан Жук. Одно только могу тебе сказать: как только получу приказ наступать, сразу же поставлю боевое задание твоему батальону, ни минутки не задержу.
Лажечников покачал головой, которая, как в колыбели, лежала в подложенных под нее ладонях. Жук понял, что командир полка не склонен больше разговаривать, и тоже замолк.
Но капитана Жука беспокоило слишком много важных мыслей и неотложных вопросов, чтоб он мог спокойно спать. Часть этих мыслей и вопросов была его собственной, личной, а часть принадлежала не только ему, но и солдатам его батальона, и, ища на них ответа, он искал его не только для себя… Жук беспокойно зашевелился на своей шинели.
– Вы спите, товарищ командир полка?
– Заснешь с тобою, как же! – неохотно отозвался Лажечников. – Что тебе?
– Я вас вот о чем спросить хочу…
Жук замолчал, словно не решаясь задать полковнику тот вопрос, на который ему обязательно нужно было получить ответ, а потом все же преодолел свою нерешительность и начал издалека:
– Война, она ведь все же окончится когда-нибудь… не век будем воевать…
– А ты что, устал?
– Я не о том!
Командир батальона будто отмахнулся от неуместного вопроса, и Лажечников понял, что действительно Жук, если бы и устал, не завел бы об этом разговора.
– После войны обязательно мир будет, – не очень удачно формулируя свои мысли, горячо зашептал Жук, – вот я о чем… Сможем мы с немцами в мире жить?
Лажечников не ждал этого вопроса. Хоть в мыслях его всегда за войною как главная цель всех усилий армии и народа стоял мир, он никогда не наполнял понятие мира тем особым содержанием, которым наполнил его сейчас капитан Жук.
Лажечников слишком общо думал о вопросах войны и мира, он никогда не пытался представить себе послевоенные отношения с немцами во всей их конкретности. В том, что их непременно уже теперь надо представлять, убедил его вопрос Жука – неожиданный вопрос, который, можно было в этом не сомневаться, волновал не только командира батальона.
– Слишком много горя причинил нам немец, – снова зашептал, приближая к нему лицо, Жук, – слишком много горя, чтоб я с ним мирные чаи распивал!
Глаза капитана блестели в темноте, он то совсем близко наклонялся лицом к Лажечникову, то снова ложился на свою шинель и тяжело молчал, ожидая ответа.
Лажечников знал, что у Жука погибла вся семья во время отступления от границы в первые дни войны, знал, что Жук тяжко переживает свое горе, но никогда не ожидал, что это горе может с такой силой воплотиться в простой вопрос и требовать ответа. Разве мог Жук удовлетвориться словесным ответом на свой вопрос? Найди Лажечников самые убедительные слова, вряд ли мог бы он исчерпать ими то мучительное ожидание окончательной – навеки – расплаты, что жило в сердце капитана.
– Немцы разные есть, – сказал Лажечников, словно вслух думая над каждым своим словом, – не все они фашисты… С хорошими немцами почему бы и чаю не выпить.
– Нет хороших немцев! – крикнул капитан Жук, как пружиной подброшенный на шинели. – Вы Сталинград помните? Я в августе видел на переправе, как хорошие немцы из самолета обстреливали паром, которым переправляли детей через Волгу… Только панамки поплыли по воде… Белые такие, пикейные…
Жук промолчал о своих близнецах – девочке и мальчике, которые погибли под бомбами на шоссе Перемышль – Львов. Он не любил об этом говорить, его дети были живыми для него, молчанием он словно оберегал их от новой гибели – в своей памяти.
– У немцев не только Гитлер есть, – продолжал думать вслух Лажечников, – был у них и Либкнехт, и Роза Люксембург была…
– Когда все это было! – Жук снова оперся о локоть. – Вы думаете, я не знаю? И Кильское восстание было, и баррикады в Гамбурге… И Тельман! Только когда это было, говорю! Если есть хорошие немцы, как они допустили, чтоб Гитлер их превратил в фашистов?
– Сильных уничтожили, а кто послабей, поплыл по течению. Придется нам еще и руку им подавать, выводить на берег.
– А по-моему, полковник, пускай тонут. Разлили море крови, пускай и тонут в нем…
Жук лег на грудь, уткнулся лицом в сгиб руки и замолчал. Он тяжело дышал, словно выполнил тяжелую физическую работу и устал от нее, но постепенно его дыхание становилось спокойней и ровней – Жук заснул или притворился спящим, чтобы не слушать спокойных, рассудительных слов командира полка.
Война тоже спала в этот час. Луна уже высоко стояла в небе и рассеивала свой призрачный свет, словно подсиненной известкой заливала берег, молчаливую воду, высокий камыш и вершины деревьев за рекою.
Только Лажечников не мог заснуть. Разговор с Жуком взволновал его, он не знал теперь, кто из них прав. Оказалось, что все вопросы, решение которых откладывалось на будущее, надо было решать уже сейчас. Избежать их нельзя было никак, потому что они возникали не по прихоти равнодушно любопытствующего ума, а из обремененного горем и скорбью живого сердца. Жук, ставя перед ним свой вопрос, уже имел на него ответ, поэтому и не захотел слушать его проповеди – притворился, что спит…
С виду Лажечников был спокойным и уравновешенным, его выдержке в самых тяжелых обстоятельствах все завидовали, его умение принимать решения в сложнейшей обстановке командир дивизии ставил в пример другим командирам. Лажечников умел держать себя в руках, умел не распускаться, но сегодня… сегодня он сам не понимал, почему остался ночевать на плацдарме. Прямой необходимости в этом не было. Хотя Лажечников говорил капитану Жуку правду, что его тревожит поведение немцев, но в глубине души он знал, что это не вся правда: у него были и другие причины для тревоги.
В кармане Лажечникова лежало наконец-то прочитанное письмо Юры. Неровными большими буквами на темной бумаге из тетради в три косых Юра тупым химическим карандашом писал, что ему очень хорошо живется в детском доме, что теперь у них уже весна, снег растаял, но на улицу не пускают, потому что у него каждый день повышенная температура.
Письмо было, как от взрослого, без всяких жалоб, и Лажечников мысленно удивлялся недетской суровости своего Юры. Но когда же писалось это письмо, если в Камышлове только стаял снег? Правда, весна там должна начинаться позже.
Как он, должно быть, вырос, его мальчик! Можно подумать, что не он писал письмо, а кто-то водил по бумаге его рукой, подсказывал ему эти законченные фразы, эти почти взрослые мысли. Ни одной жалобы, ни одного детского слова, только в конце большими буквами: «Папа, разбей фашистов и возьми меня отсюда!» – и подпись: Юрий Юрьевич. Так его называли, когда он еще в колыбели лежал… Это у них в роду – старшего сына называть Юрием. Все они с деда-прадеда Юрии Юрьевичи Лажечниковы.
Юрий Юрьевич… Что он делает теперь, в эту ночь, в эту минуту, его мальчик? Спит, свернувшись калачиком под плохоньким одеялом, или только притворяется, что сон сморил его, а на самом деле лежит тихонько и думает, думает, думает свою недетскую думу – о матери, которую никогда не увидит, об отце, который должен разбить фашистов для того, чтоб забрать его из чужого, холодного Камышлова на берег теплой речки, где можно сидеть с самодельной удочкой, в одних трусиках, без рубашки, босиком и ловить плотвичек на червячка?