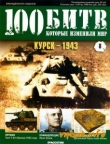Текст книги "Дикий мед"
Автор книги: Леонид Первомайский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 34 страниц)
Хотя меня и не удивляло, что Пасеков искал дружбы с Миней, все же я не мог в ту ночь, в ту бесконечно тяжелую для меня ночь после неудачного дня рождения Дубковского, не обижаться на него. Пасеков должен был уделить мне немного времени, я даже выпил бы с ним, если он не мог без этого обойтись, – но нет, я был ему не нужен, он просто избегал меня… Почему?
Я искал ответа в нашем общем прошлом, в тех днях и неделях, тяжелее которых не было в моей жизни и которые казались мне теперь легкими и счастливыми, потому что наполнены были солдатской дружбой, чувством суровым и более глубоким, чем это может показаться с первого взгляда. Не было в ней ни громких слов, ни показных поступков, все было буднично, просто и человечно… Прост и человечен был и Дмитрий Пасеков. Что же так изменило его?
В ту же ночь это мне открылось.
Два дня на глазах у немцев окруженцы строили переправу через болото.
Генерал, который, сидя на пне, принял это решение, не предвидел последствий, неминуемо возникавших из его смелого, но безрассудного плана.
Перед болотом, в лесу и на открытых местах, сбились тысячи вооруженных и безоружных людей. Тут были солдаты, отбившиеся от частой, окруженных на левом берегу, командиры без подразделений и бойцы без начальников, пехотинцы, артиллеристы и матросы днепровской флотилии, которые родились и прожили жизнь вдалеке от этих мест, и киевские служащие, железнодорожники, трамвайщики, водители автобусов, зенитчики, последними оставившие свои позиции на переправах, пограничники в зеленых фуражках, команды рабочих бронепоездов, взорванных перед отступлением, милиционеры с пустыми кобурами, остатки частей киевского ополчения, медперсонал больниц и госпиталей, сотрудники банков, сберкасс, почты и телеграфа, женщины с детьми, мужчины в военной и полувоенной форме и одетые по-граждански, с вещмешками за спиной, с чемоданчиками и баульчиками в руках, с одеялами через плечо, с чайниками и котелками на поясе.
По всему пространству леса, под деревьями и на полянах, кое-как замаскированные свежими ветвями и совсем не замаскированные, стояли грузовики и автобусы, зеленые спецмашины раций, окрашенные в огненно-красный цвет пожарные агрегаты с раздвижными лестницами и брезентовыми, намотанными на барабан шлангами, зенитные пушки и легковые автомобили разных марок… Шоферы копали глубокие щели в топкой почве, минометчики устанавливали минометы на опушке. Командиры и политработники комплектовали роты из людей, вчера еще не знавших друг друга, и занимали круговую оборону.
Немцы прижали всех этих людей и всю эту технику к длинной и широкой полосе болот, окружили громадным полукольцом, выставили артиллерию и минометы, но не стреляли.
Генерал сидел на пне. Карта лежала у него на коленях. Вокруг стояли офицеры, тут были седые полковники и безусые лейтенанты, никто из них не обмолвился и словом, когда генерал сказал:
– Технику уничтожить, чтоб не досталась фашистам. Гатить болото всеми возможными средствами. Группой прикрытия приказано командовать полковнику Костецкому. Мы перейдем с минимальными потерями: у фашистов не может быть достаточных сил, чтоб преследовать нас.
– Вы не думаете, товарищ генерал, что мы встретимся с ними по ту сторону болота?
Полковник Костецкий смотрел на генерала железными глазами. И он и батальонный комиссар Лажечников, стоявший рядом с ним, держа раненую руку на перевязи, уже знали, что остаткам их дивизии удалось прорваться в этот лес только потому, что немцы, осуществляя заранее продуманный план, пропустили их, расступились, словно открыли ворота в ловушку, а потом снова захлопнули, чтобы тем вернее уничтожить прижатых к болоту, обескровленных и бессильных, среди массы дезорганизованных отходом людей.
Безнадежность положения Костецкому была ясна. От его дивизии почти ничего не осталось, большинство офицеров штаба, командиры и комиссары полков погибли, идя вместе с бойцами в атаку. Батальонный комиссар Лажечников был при Костецком неотступно. Раненный в руку, он выполнял приказания полковника с точностью, которой трудно было ожидать от вчерашнего лектора, знавшего только свои книжки, конспекты и цитаты. Они понимали друг друга с полуслова. Поняли они и теперь, что на них возложена самая простая и самая тяжелая задача – ценой собственной жизни осуществить отчаянный план неизвестного генерала.
Сумрак сгущался над широкой полосой поросшего кустами болота, над притихшим лесом.
Костецкий оглянулся вокруг. Никто не поддержал его полувысказанного сопротивления генералу, – яснее и не нужно было говорить, все понимали, о чем идет речь, но никому не хотелось лишать себя надежды.
– Вы не думаете, товарищ генерал, – еще спокойней сказал полковник Костецкий, – что ваш план граничит с безумием?
Генерал, глядя на поясную бляху полковника, медленно выговорил:
– Я прикажу вас расстрелять, если вы будете тратить время на пререкания со мной.
Костецкий резко обернулся к Лажечникову:
– Пойдем, батальонный…
Они ушли в лес с небольшой группой офицеров своей дивизии.
Пасеков и Берестовский стояли среди офицеров и слышали приказ генерала. Непонятно, каким образом этот приказ через несколько минут стал уже известен всем. Лес ожил. В темноте люди закапывали замки орудий, портили моторы машин, рубили деревья и кусты, катили бочки с горючим к болоту, сталкивали их в топь, забрасывали срубленными ветками, настилали бревна. Узкая гать врезывалась в болото, на нее выкатывали машины, десятки людей наваливались – машины сползали в болото, топь засасывала их, поверх них снова бросали толстые ветви и бревна, сорванные борта грузовиков, столы, шкафы и сейфы, неизвестно зачем вывезенные ретивыми завхозами последних киевских учреждений; гать ползла через болото медленно, хоть тысячи людей работали, выбиваясь из сил и падая от усталости. Поздно ночью немецкие самолеты навешали фонарей над болотом, но бомб не сбросили.
Генерал сидел, как и вечером, на своем пне; он посмотрел в залитое мертвым магниевым светом небо, подумал и хрипло сказал:
– Не прекращать работу.
Фонари погасли, самолеты улетели, смолкло вдали тяжкое урчание моторов, люди снова покатили на гать машины, потащили ветки и бревна. Временами на фашистской подкове вспыхивали осветительные ракеты; рассыпаясь искрами, они гасли в черном небе.
На рассвете Берестовский и Пасеков, обессиленные, измазанные вонючей болотной тиной, с кровавыми пузырями на руках, отошли в глубь леса и упали под кустом на рыжую, покрытую росой листву. Вокруг валялись изорванные бумаги, затоптанные шинели, пустые канистры, консервные банки.
Пасеков вспорол ножом жестянку консервов. Берестовский не хотел есть. Вытянув руки вдоль тела, он лежал навзничь с закрытыми глазами.
– Вот что я вам посоветую, Берестовский, – сказал Пасеков, – выбросьте из головы все мысли, кроме одной: расплата впереди, и мы должны дожить до расплаты, а для того, чтоб дожить, надо есть, пить и не падать духом…
Берестовский молчал.
– И еще одно деловое предложение, – продолжал Пасеков. – Нужно нам найти батальонного комиссара и присоединиться к группе прикрытия… Лучше погибнуть в бою, чем утонуть в этом вонючем болоте.
Берестовский пошевелил серыми от усталости губами.
– Вы уверены, что немец даст нам перейти через болото?
– Дурак он был бы, если б не хотел нас взять живьем или перебить всех до одного. Ешьте. Это самые лучшие бычки в томате, которых я когда-либо вылавливал в консервной банке.
Берестовский сел и взял из рук у Пасекова большой кусок черствого солдатского хлеба с щедрой порцией бычков.
– Вы понимаете, что произошло?
– Не до конца.
– А генерал, он понимает?
– Если мы останемся в живых, у нас будет много времени, и мы все поймем: и генерал, и вы, и я…
– Кажется, я кое-что уже понял.
– Ну и держите свое понимание при себе. Ничто не погибнет, даже если мы с вами пропадем. Это все, что я знаю, и этого мне довольно.
Берестовский долго смотрел на взбухшие темные листья, лежавшие на земле у его ног, и наконец сказал убежденно, с усилием выговаривая каждое слово:
– Если мы не научимся говорить правду себе и всем другим…
Пасеков не дал ему договорить.
– Я должен поспать минут девяносто, – сказал он с притворным равнодушием, хоть понял все, что имел в виду Берестовский. – Поспите и вы… И запомните: все еще впереди.
Пасеков аккуратно завязал вещмешок, подложил под голову и сразу же заснул. Берестовский с завистью смотрел на него. Спать он не мог. Им владела та величайшая усталость, которая уже не оставляет места для сна, та усталость, когда вследствие крайнего возбуждения не действуют уже силы торможения, возникающие в коре большого мозга, когда каждое чувство, обостряясь, кажется, приобретает способность проникать далеко за пределы, положенные человеку.
Все в этом сентябрьском лесу рисовалось Берестовскому в преувеличенно ярком, обостренном виде, – все, начиная от земли, на которую уже упали первые листья, чтобы вскоре увлажниться дождями и превратиться из красных и золотых в однообразно коричневые, зеленовато-бурые, а потом и вовсе черные; все – и небо, просвечивавшее между вершинами деревьев, темно-синее и высокое, на фоне которого беспокойно шевелилась, словно плыла, полная предсмертного трепета осенняя листва; и стволы осин и берез в своем молчаливом порыве в высоту, владевшем ими вопреки силе корней, привязывавших их к почве, и потому исполненном гордого трагизма; и голоса людей, которые валили где-то поблизости эти деревья, обрубали сучья и на руках тащили бревна к болоту; и грохот артиллерийской пальбы, который возникал в разных направлениях, но отовсюду слышался словно из-под земли; и голоса птиц, продолжавших свою осеннюю, только им известную и нужную работу в этом искалеченном, изуродованном, оскверненном лесу, – вся эта бесконечно яркая и бесконечно печальная в красоте своей жизнь наполняла душу Павла Берестовского горечью и тревогой, и эта тревога не давала ему заснуть.
Все, чем жил Берестовский раньше, все, что раньше так трогало его, – литературные успехи и неприятности, восторги и зависть товарищей, волнения, связанные с печатанием очередной книжки и отзывами не всегда благосклонной критики, ночные просмотры заграничных фильмов, на которых можно было встретить всех прославленных звезд и непризнанных гениев, мечты о том, чтоб и самому написать сценарий, по которому поставят эпохальный шедевр, – все радости и огорчения прошлой жизни казались Берестовскому такими далекими и такими мелкими, что он отказывался верить, что так недавно еще жил этой прошлой жизнью, и не только жил, а считал ее единственно возможной… Берестовский уже знал, что этой прошлой жизни больше не будет, что, как бы ни сложилась его судьба в будущем, он никогда не сможет вернуться к своей прошлой жизни, – отныне ему открывается в жизни иной, более глубокий смысл, иная, более высокая цель, о существовании которой он раньше не знал. И чем глубже охватывала его радость от того, что он начинал познавать цену настоящей жизни, тем с большей силой чувствовал он отвращение к той жизни, которой жил раньше и которую отвергал теперь.
Берестовский не чувствовал страха смерти, опасность попасть в плен к немцам тоже не волновала его – от этого гарантировали спокойно принятое решение и надежда на ту последнюю пулю, которая разрушает все расчеты врага; он боялся только одного – заснуть и вдруг утратить способность видеть и ощущать ту красоту, которая раскрылась перед ним в эти пронизанные болью минуты… И все-таки усталость была сильнее этого чувства, незаметно для самого себя Берестовский заснул и сразу же проснулся, словно что-то толкнуло его изнутри в грудь.
Пасеков сидел рядом с ним и спокойно перематывал портянку. Над Пасековым стоял лейтенант Моргаленко, лицо у него было возбужденное, словно опаленное огнем изнутри, под покрасневшими глазами лежали синие тени усталости.
Берестовский не узнавал Моргаленко. Лейтенант был раздавлен всем, что произошло. Ворот его гимнастерки был расстегнут, грязный подворотничок свернулся потным жгутом, пистолет болтался на плохо затянутом ремне, грязные галифе на коленях были разорваны.
Впрочем, если бы Берестовский мог взглянуть на себя со стороны, вряд ли бы ему показалось, что он выглядит лучше.
– Дело верное, я вам говорю, – монотонно повторял Моргаленко. – Из этой переправы ничего не выйдет. А у нас полуторка, бензину не надо – на дровах, как самовар, газогенератор называется… И есть два спаренных пулемета…
Пасеков, прикусив нижнюю губу, молча натянул сапог.
– У немцев что? У немцев тоненькая цепочка, не может того быть, чтоб они вокруг нас бетонную стенку поставили. Мы их возьмем на испуг, наделаем такого шухера, что они и не опомнятся, как мы проскочим, обойдем это болото – и на восток!
Моргаленко скосил неспокойные глаза на Берестовского, – тот спал, когда начался разговор, неизвестно, можно ли продолжать, раз он проснулся… Помня Берестовского еще со школы, Моргаленко чувствовал себя в эту минуту школьником, неожиданно встретившим своего недавнего учителя; кто его знает, как он может отнестись к самостоятельному решению своего вчерашнего ученика!
Пасеков уже снял второй сапог, старательно протер портянкой между пальцами и начал обматывать ногу.
– Что ж вы молчите, товарищ старший политрук? Нас семнадцать человек… Да вы, да товарищ Берестовский…
Пасеков повернул голову к Берестовскому, кивнул в сторону лейтенанта и спросил:
– Вы как?
– Нет, – ответил коротко Берестовский, чувствуя стыд за Моргаленко, который так понравился ему в Голосеевском лесу.
– Не прорвемся? – Лейтенант обращался к Пасекову, ему удобней было не слышать недвусмысленного «нет» из гневно сжатых губ Берестовского, который видел его совсем другим, а теперь словно отмежевывался от него своим свирепым, полным презрения «нет».
– Может, и прорвемся… А о других ты не думаешь, лейтенант?
– Что ж другие? Никто никем не командует… Всем, значит, пропадать? Все и пропадом с таким генералом! Как только пойдем через болото, так нас немец и накроет.
– Возможно, так оно и будет.
Пасеков порывисто встал, дернул голенище за ушки, вдвигая ногу в сапог, и проговорил непримиримо:
– Ты солдат? Твое дело – побеждать и гибнуть вместе со всеми.
Из-за куста, отклоняя ветви рукою, вышла Маруся, взяла лейтенанта за рукав и тихо сказала:
– Я же тебе говорила, Гриша… Где все, там и мы. Что со всеми, то и с нами.
Лейтенант Моргаленко обернулся к Марусе, встретился взглядом с ее глазами, лицо его сразу сделалось растерянным и виноватым, он не смог ничего ей сказать, не нашел слов, – верно, все уже было сказано между ними…
Моргаленко махнул безнадежно рукою, повернулся, как незрячий, сделал несколько неуверенных шагов и исчез за деревьями.
– Гриша!.. Товарищ лейтенант! – крикнула в слезах Маруся и побежала за ним.
Два дня и две ночи тысячи людей, сменяя друг друга, строили переправу. Под вечер третьего дня, когда узкая гать уткнулась в твердый берег, немцы, словно угадав, что сейчас начнется движение, начали стягивать свою подкову и прижимать окруженных к болоту.
Пасеков и Берестовский лежали рядом на опушке в наспех вырытых окопчиках. Небольшая насыпь перед окопчиком не столько укрывала от пуль, сколько мешала видеть врага. Пятьсот – шестьсот метров отделяло окопчики от пологих холмов, за которыми стояли немцы. Днем из-за холмов изредка летели мины. Когда совсем стемнело, на холмах вдруг заревели моторы, вспыхнули фары грузовиков, тягачей и тракторов, в небо взлетели сотни ракет, и все пространство внутри подковы заколыхалось, замерцало в непрерывной смене света и тьмы. Все, кто были в лесу, бросились на переправу.
Возле узкой полоски переправы с пистолетом «ТТ» в руке стоял все тот же неизвестный генерал, который взял на себя командование и связанную с этим ответственность за судьбу поверивших ему людей. Необходимость диктовала генералу пустить вперед боеспособных, вооруженных людей, которые могли бы принять бой в том случае, если за болотом окажется враг (теперь уже и генерал считался с такой возможностью). Но женщины с детьми, легкораненые, санитары с тяжелоранеными на носилках, охваченные паникой мужчины в полувоенной одежде толпились у переправы, врывались в ряды бойцов, дети отчаянно кричали, хватаясь за матерей, раздавались стоны и рыдания, мольбы и проклятия.
Протяжный гул моторов послышался в почерневшем небе. Над переправой вспыхнули осветительные ракеты.
– Назад! – кричал генерал, поднимая вверх пистолет, но никто не слушался ни его, ни его офицеров, которые пытались навести порядок и пропустить вперед бойцов с винтовками, гранатами и пулеметами.
Завыла в воздухе первая бомба, она упала в освещенное сверху, черное, словно асфальтовым лаком залитое болото и разорвалась со страшным подводным грохотом, выбросив на поверхность громадный фонтан грязи, начиненной осколками железа, которые врезались в тела людей или снова тяжело шлепались в воду.
Неизвестный генерал, который организовал переправу и теперь пытался одновременно и наводить на ней порядок и командовать арьергардом, прикрывавшим переправу от немцев, никогда не командовал войсками, он был тыловым генералом и взял на себя командование потому, что был тут старшим по званию и считал это своей обязанностью. Он думал, что уже само присутствие на переправе человека с генеральскими звездами на петлицах должно успокаивающе подействовать на людей. «Генерал здесь, – должны были думать, по его предположениям, люди, – генерал все устроит, генерал не даст нам погибнуть». Но люди, которые подходили к переправе, напирали друг на друга, толпились на узкой гати в свете повисших в воздухе ракет и кидались вслепую в болото под минами и бомбами, думали совсем не так, как предполагал генерал. «Дело плохо, раз уж сам генерал командует переправой», – думали люди, глядя на охрипшего генерала, который ничего не мог добиться и лишь бессильно размахивал пистолетом.
Немцы двинулись с холмов на арьергард, лежавший в окопчиках на опушке.
За спинами у немцев ревели моторами грузовики и тягачи, грохотали тракторы; двигались они или стояли на месте с погашенными фарами, нельзя было понять, но грохот, которым они наполняли ночную тьму, производил впечатление непрерывного движения. Мины рвались на опушке. В темноте слышались команды, крики раненых, треск автоматных очередей, тяжелая скороговорка пулеметов, свист пуль и шипение осколков.
Пасеков переполз к Берестовскому, прижался плечом к его плечу и хрипло выдохнул из пересохшего горла:
– Ну как, задержим?
– У них там, кажется, танки…
– На испуг берут. Танки, если и есть, сюда не пойдут… Лес, болото…
Они стреляли в темноту, перезаряжали винтовки и снова стреляли.
Их охватил мальчишеский азарт, они кричали и хохотали так, словно принимали участие в увлекательной игре, в которой не было ничего опасного, – просто сошлись люди, легли в ослепляющей темноте на землю и развлекаются как могут, с грохотом, горячими вспышками огня, со смехом, похожим на стон, и стонами, что кажутся смехом.
– Не зевайте, Берестовский! – крикнул Пасеков. – Они уже совсем близко…
– Ни черта не видно, – прохрипел Берестовский.
Сзади подполз боец в распахнутой гимнастерке, его дыхание было слышно еще издалека, воздух свистел и клокотал у него в груди.
– Эй, вы кто? – крикнул он, дергая за ногу Пасекова.
– А ты кто?
– Берите гранаты, гранатами их, ежели что… Умеете гранатами?
Боец оставил около них несколько гранат и пополз куда-то в сторону.
– Я никогда не держал в руках гранаты, – сказал Берестовский.
Пасеков расхохотался:
– Что вы говорите? А я всю жизнь бросаю гранаты, честное слово!
По вспышкам впереди видно было, что немецкие автоматчики уже совсем близко, что их не останавливают ни выстрелы из винтовок, ни пулеметные очереди. Моторы за холмами ревели без умолку. Впереди с непонятными воплями поднялись черные фигуры и побежали на окопы. Пасеков схватил гранату и поднялся на локте.
– Пригнитесь, Берестовский! – крикнул Пасеков и далеко вперед выбросил правую руку.
Берестовский уткнулся лицом в землю. Черные фигуры впереди упали, слились с землей, словно их и не было.
– А, гады! – закричал Пасеков и нагнулся над Берестовским. – Вас не ранило?
– Нет, – отозвался Берестовский. – Здорово вы их!
Новый боец подполз сзади и лег рядом с ними. От бойца резко пахло потом и болотной тиной, глаза его влажно блестели в темноте.
– Отходи по одному на переправу… Генерала убило!
– Я тебе отойду, паразит! – прохрипел Пасеков, хватаясь за пистолет. – Ты кто? Паникуешь?
– Меня батальонный комиссар Лажечников послал, вот кто я, – спокойно сплюнул в темноту боец, повернулся и закричал во все горло: – Эй, Митьченко, тащи сюда! Мы станкача тут поставим, а вы отходите.
– Моряк? – радостно захлебнулся Берестовский, разглядев в темноте полосы тельняшки на груди бойца.
– С разбитого корабля, – хрипло засмеялся боец. – Уматывайте, говорю, на переправу…
Подползли еще два бойца, один тащил пулемет, другой – две цинки с лентами.
– А-а-а, рус Иван! – закричала темнота впереди, и снова поднялись черные фигуры и застрочили огнем из автоматов.
Боец в тельняшке припал к пулемету. Пулемет заплевался огнем, освещая его лицо, молодое, окаменевшее от напряжения.
– Гутен морген, гутен таг! – кричал боец, поворачивая пулемет вправо и влево, чтоб пули ложились веером. – Митьченко, готовь ленту!
Оборачиваясь и отстреливаясь, Пасеков и Берестовский отползли в лес.
Мина разорвалась в пяти шагах от генерала. Генерал упал ничком на утоптанную тысячами сапог влажную землю. Полковник Костецкий, стоявший рядом с ним, тоже упал, но вверх лицом, взмахнув руками… Через гать шли остатки какого-то медсанбата, несли на носилках тяжелораненых, ковыляли, опираясь друг на друга, легко раненные бойцы. Из рядов выбежала женщина-военврач с санитарной сумкой на боку. Военврач наклонилась над генералом, осторожно перевернула его на спину и сразу же поняла, что ее помощь здесь уже не нужна. Она подползла на коленях к полковнику, по пробитому и окровавленному кителю увидела, что он ранен в грудь. Костецкий потерял сознание, но, когда военврач начала перевязывать рану, открыл глаза и тихо сказал:
– Нет надобности… Знаю. – И добавил голосом, в котором не чувствовалось ни боли, ни жалобы: – Отправляйтесь к своим раненым.
Военврач осталась возле полковника. Батальонный комиссар Лажечников стоял над полковником Костецким с сумрачным лицом и пропускал мимо себя все новые и новые ряды бойцов, которые непрерывно выходили из лесу, возникали из тьмы, как тени, на миг останавливались и ступали на гать, расшатанную непрерывными шагами людей и в нескольких местах уже развороченную бомбами и тяжелыми минами.
Пасеков и Берестовский появились на переправе, когда Костецкого клали на носилки.
– Не задерживаться! Вперед! Вперед! – слышался голос Лажечникова в темноте.
Выстрелы раздавались уже в лесу. Бойцы выходили на гать, другие, не дожидаясь очереди, поднимали над головой винтовки и ступали прямо в трясину, раздвигая болотные кусты и острый камыш.
Берестовский с Пасековым вышли на гать. Впереди колыхались носилки с Костецким, четыре бойца несли их, сбоку шли женщина-военврач и батальонный комиссар.
Гать впереди была разбита. Движение остановилось. Бойцы, стоя по шею в воде, на руках передали носилки с Костецким на другую сторону. Пасеков и Берестовский были среди бойцов. Носилки с полковником проплыли у них над головой, по их плечам перешла военврач. Пасеков вылез из воды и вытащил за собой Берестовского. Мины ложились по всему пространству болота, убитые исчезали под водой, никто не обращал на них внимания.
Самолет затрубил в черном небе прямо над головой, развешал фонари, осветил болото, людей, которые шли через гать, брели по болоту от куста до куста, от кочки до кочки, проваливались, захлебывались, молча гибли или пробивались еще на шаг вперед.
Пасеков сорвал с плеча винтовку и в бессильной ярости выстрелил вверх. Небо бешено завыло и раскололось. Пасеков прыгнул в воду, таща за собой Берестовского. Вода накрыла их с головой. Им удалось снова выкарабкаться на гать. Носилки с полковником стояли над новой пропастью. Полковник лежал спокойно, словно спал, правая рука его свисала с носилок и упиралась скрюченными пальцами в лужицу грязи. Военврач сидела рядом, охватив руками голову. Батальонный комиссар Лажечников притронулся к ее плечу, она покачнулась и упала набок, из сумки выкатились индивидуальные пакеты и беззвучно свалились в воду.
Бойцы подняли носилки, переступили через тело женщины, их поток потащил за собой Лажечникова, Пасекова и Берестовского.
Когда наконец гать кончилась и они ступили на твердую почву, оказалось, что это только большой остров среди болота, а за болотом ждут немцы.
9
Продолжение записок Берестовского
Где выменяла Александровна свое пойло? Из чего оно было приготовлено? Голова моя гудела, как котел, в груди пылал костер. Адское питье из четвертной бутыли, перевязанной по горлышку оранжевой ленточкой, парализовало мое тело, сделало его отвратительно бессильным, отделило от сознания, продолжавшего напряженно работать, перебрасывая зыбкие мостики от прошлого к сегодняшней действительности. Что здесь было сном, что воспоминаниями, не знаю. Мозг работал с безотказной четкостью, хотя, может быть, моим мыслям и не хватало последовательности. То я думал про Аню, представлял себе, как в худеньком пальтеце бежит она по заваленной обледеневшим снегом семипалатинской улице из своего холодного угла в холодный театр на репетицию, то вспоминался мне августовский Сталинград: газетный киоск на углу, возле Дома Красной Армии, и разворот большого сквера, наполненный дымом, оборванными проводами и комьями поднятой взрывами в воздух земли… Женщина перебегала через дорогу, прижимая к груди девочку; она накрыла ребенку голову обеими руками и не видела, не чувствовала, что между пальцами у нее течет темно-вишневая кровь. Небо раскалывалось на тысячи осколков, а она все бежала, задыхаясь от усталости и ужаса; слишком большие туфли на каждом шагу хлопали, открывая босые розовые пятки. Женщина упала на зеленую скамью под седыми от пыли кустами сквера и отклонила от себя ребенка, – я увидел ее безумные глаза…,
Я не заметил, как на сене возле меня очутился Мирных.
– Вы не спите?
Мирных оперся на локоть, выдернул из сена длинный темный стебелек и зажал его тонкими губами.
– Дубковский послал меня к чертовой матери. Он прав. Я испортил ему день рождения.
– Нелепо было затевать этот праздник, – сказал я, неохотно отрываясь от своих воспоминаний. – Это все причуды Пасекова.
– А при чем тут Пасеков? Нужно и самому иметь голову на плечах. Что мне до этого фотолейтенанта и его Люды? История как тысячи подобных. Война все спишет – так, кажется, у нас говорят?
– А может, не спишет, а так глубоко врежет в душу, что потом и не вытравишь ничем? Все легко, все позволено – раз живем. Я насмотрелся на таких гедонистов под пулями. Пасеков тоже скатывается к этой нехитрой философии, вы не считаете?
Мирных пожевал свой стебелек, помолчал и сказал с ощутимым упреком в голосе:
– Вы, кажется, не любите Пасекова? А он прожужжал мне голову вами и вашими стихами… «Есть у меня друг, вам бы с ним познакомиться!» Что-то я но вижу между вами большой дружбы.
– Это как смотреть на дружбу, – начал я неуверенно и остановился на полуслове: Мирных ведь должен знать, что сдружило меня с Пасековым, его упрек справедлив – обычная неблагодарность, обычная подсознательная враждебность спасенного к своему спасителю. Кто куда скатывается? Просто ты, Берестовский, все время чувствуешь себя обязанным Пасекову за то, что он не бросил тебя под плетнем Параскиной хаты, потому и раздражаешься и отыскиваешь в нем разные несуществующие недостатки, чтобы приуменьшить благородство его поступка… Плохи твои дела, Берестовский, если уже и до этого дошло. Ни одно доброе дело не остается безнаказанным, – кто это сказал? Кто бы ни сказал, о тебе сказано.
Не знаю, что больше жгло меня – стыд или жажда. Я поднялся, с трудом преодолевая сопротивление собственного тела, которое хотело только одного – лежать неподвижно, врасти в землю, слиться с ней.
– Счастье ваше, Мирных, что вы непьющий, – сказал я небрежно. – У меня все горит в середке. Схожу хлебну водички.
Пить из ведра у колодца– мне не хотелось, может быть потому, что так пил Пасеков, – я вспомнил, как он обливал себе грудь, и невольно вздрогнул, словно это мне за рубаху лилась холодная колодезная вода. У Люды за дверью в сенях стояла небольшая кадочка с водой, там была и кружка… С какой стати я буду пить, как конь, из ведра?
Дверь была открыта, из избы в сени пробивалась тоненькая как паутинка полосочка света. Я переступил порог тихо: не хотел, чтобы Пасеков и Миня услышали и пригласили меня в свою компанию. Нет, я не боялся той большой темной бутыли, которую, прижимая к груди, нес через двор Пасеков от Александровны, я мог бы и адской смолы выпить не поморщившись.
В избе Пасеков что-то весело рассказывал Мине, Минин голос восторженно хмыкал и мурлыкал, в паузах слышалось характерное бульканье, слова процеживались, смешанные с жирным смехом.
– Ну, твое…
– Поехали!
Я зачерпнул кружкой воды и держал ее в руке, встревоженный голосами за дверью, хмыканьем и похохатыванием, в котором мне слышалось что-то враждебное.
– И вот представь себе, Миня, – хохотнул голос Пасекова, – представь себе, Миня… Я уже выздоравливаю, хожу по госпиталю, иногда даже на прогулки… А какие там прогулки? Снег, мороз, ветер – сразу же бежишь в палату! И вот представь себе, Миня… Посмотри, правда, хорошенькая? Ну, вот видишь…
Послышалось мурлыканье Мини, какие-то полуслова, полумеждометия сквозь забитые едой челюсти; я представил себе, как горят похожие на маслины глаза Мини, представил его восторженно-удивленное лицо.
– Ремесленная работа. Что, не было у нее лучшей карточки?
Голос Мини прозвучал отчетливым пренебрежением, мне даже показалось, что я вижу, как он небрежно бросает снимок на стол, – уж кто-кто, а он прекрасно разбирается в таком тонком деле, как фотопортрет.
Пасеков продолжал, словно оправдываясь перед Миней:
– Скука, понимаешь, скука! Вокруг только и слышно: где кто ранен, кто как выходил из окружения, кого наградили, кого обошли… Газеты приходят на десятый день. Из книжек – только «Батый» и «Чингис-хан»! И вдруг собирают нас, выздоравливающих, на концерт. Ты можешь себе представить, Миня? Госпиталь помещался в школе, там была и небольшая сцена – в актовом зале.
Я не мог уже ни выпить воду, ни поставить кружку. Голос Пасекова наполнял меня предчувствием непоправимой беды, космической катастрофы, в которой у меня не было надежды на спасение.