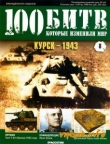Текст книги "Дикий мед"
Автор книги: Леонид Первомайский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 34 страниц)
Хоть плащ Уповайченкова уже не так шуршал, а фуражка не так топорщилась на голове, хоть и сам он, казалось, весь как-то обтерся, сделался мягче, хоть и в голосе его, несмотря на остатки самоуверенности и бессознательной спеси, чувствовались несвойственные ему мягкие поты, все же капитан Жук не смог побороть неприязни к совсем ненужному ему в эти минуты гостю, не смог и не захотел.
– Что, понравилось вам у нас? – сказал Жук холодно. – Ничего нового нет, не каждый день подбивают «тигров», не каждый день умирают генералы.
Если бы Уповайченков не был Уповайченковым, он мог бы понять, что Жук просто предлагает ему покинуть плацдарм, но он не мог не быть самим собою и поэтому, как ему казалось, по-дружески бросил Жуку:
– Ну, может, все же случится что-нибудь специально для меня.
Жук пожал плечами:
– Ничего не случится, капитан, могу поручиться и за нас и за немцев, нечего вам у нас время терять… Говорят, у соседа справа должна быть небольшая свадьба, вам бы туда передислоцироваться.
Уповайченков был Жуку сегодня ни к чему. Жук не хотел ни заботиться о нем, ни отвечать за него. Но, как назло, Уповайченков ничего не понимал и ничего не замечал вокруг себя, хотя если б он был немного опытней, то мог бы заметить, что тут что-то готовится, – не только по сдержанности капитана Жука, но и по особой сосредоточенности телефонистов, которые молча хлопотали у своей щели, и по тому, что на обрыв все время поднимались бойцы, неся ящики со снарядами для противотанковых пушек и цинки с патронами. Впрочем, это лишь удвоило бы его решимость – Уповайченкову нравилось на плацдарме, и ничто не могло бы его заставить искать какого-то соседа справа.
«Эх, и откуда ты взялся на мою голову! – думал капитан Жук, нетерпеливо переступая с ноги на ногу. Ему еще много дел предстояло сделать. – Если б ты хоть знал, что тебя тут ждет…»
– Ужинать хотите, капитан? – сказал Жук, подумав вдруг, что, усадив Уповайченкова ужинать, сможет заняться своими неотложными делами.
– Не откажусь. По правде говоря, я с утра ничего не ел.
– Так чего ж вы молчите?
Он посидел с минуту в своем блиндаже, глядя, как Уповайченков хлебает его ложкой простывший борщ из его котелка, поднялся и равнодушно сказал:
– Ну, вы располагайтесь, а мне тут кое-чем надо заняться. «Катюшу» не забудьте погасить.
Жук вышел, опустив за собой полу плащ-палатки. Уповайченков остался один в блиндаже. Он доел борщ, побросал в рот холодные вареники и только тогда огляделся. Сбитые из трех досок нары были покрыты старым, вытертым тулупом, поверх него лежала надувная полосатая подушечка. Уповайченков лег на нары, как был, в плаще, надвинул на глаза козырек фуражки и сразу же заснул, не зная, что в это время капитан Жук уже ползает в темноте от одного командира роты к другому, прислушивается, как политруки проводят беседы с бойцами в окопах, отдает приказы, вглядывается в темноту над черным бугром земли, из-за которого должно надвинуться на него завтрашнее испытание.
Уповайченков очень устал и чувствовал удовлетворение от своей усталости даже во сне. Как-никак он много успел сделать, если принять во внимание, что это первая его поездка на фронт. Корреспонденция уже в редакции, – может, ее даже дали в номер. Начальник отдела будет доволен, главный редактор тоже. Соня преисполнится гордостью за своего мужа, когда прочтет под заголовком статьи набранные курсивом слова: «От нашего специального военного корреспондента», а в конце: «Действующая армия».
И пускай не очень-то чванятся своими подвигами те корреспонденты, которые торчат на фронте уже сколько времени, а пишут бог знает что и бог знает о чем. Можно сочетать и подвиги и деловую корреспондентскую работу – надо только разумно подходить к делу.
Уповайченков сердито открыл глаза. Кто-то не очень осторожно трогал его за плечо.
– Где капитан Жук? – склонилось над Уповайченковым темное лицо. – Кто вы?
– А вы кто такой? – недовольно буркнул Уповайченков. – Капитан, должно быть, там…
Он неопределенно махнул рукой на плащ-палатку, прикрывавшую ход.
– Вы новый тут в батальоне?
– Я корреспондент, моя фамилия Уповайченков… Из Москвы.
– Очень приятно. Да вы лежите… А я майор Сербин, председатель дивизионного трибунала… У меня тут подшефные, у капитана Жука…
Не договорив, майор Сербин нырнул в темноту за плащ-палаткой. Уповайченков опять лег на нары и накрыл лицо фуражкой. Странный какой-то майор! Какие могут быть подшефные в батальоне у председателя военного трибунала? Чепуха какая-то! Бродит, людям спать не дает…
Уповайченков уже сквозь сон услыхал голос майора Сербина, немного приглушенный плащ-палаткой:
– Что ты тут делаешь, Ваня?
Другой голос ответил:
– Да вот отпросился на передовую… Генерал мой помер, куда мне еще? А комбат приказал пока что быть при нем связным.
– А где комбат?
– В ротах.
– Знаешь, как пройти к бронебойщикам?
– Конечно, знаю.
– Там есть такой Федяк…
– Недавно вы судили его.
– Он самый… Далеко до него?
– Идемте, я покажу.
Голоса затихли, удаляясь; за плащ-палаткой слышалось тяжелое топанье сапог по береговому песку, но почему-то оно не только не затихало, как полагалось бы, а все усиливалось, словно уже не две пары ног, майора Сербина и Вани, а тысячи тысяч одновременно впечатывали в берег шаги, раскачивали его и заставляли содрогаться обрыв, в который был врыт блиндаж капитана Жука.
Уповайченкову показалось, что он совсем не спал, а только смежил глаза и сразу же открыл их. Блиндаж ходил ходуном, нары под Уповайченковым раскачивались, как от землетрясения. Огонь «катюши» мигал, плащ-палатка на входе то и дело надувалась, как парус, ее вдавливало воздухом внутрь блиндажа, потом высасывало наружу, снова вдавливало в блиндаж и снова высасывало. «Катюша» мигнула и погасла. Наткнувшись в темноте на угол вкопанного в землю столика, Уповайченков добрался до выхода. Он долго боролся с плащ-палаткой, которая в эту минуту вдавливалась воздухом в блиндаж, не победил и должен был дождаться, пока ее опять высосет из блиндажа, чтоб выйти наружу.
Небо едва светлело. Из-за реки, с ближних и дальних позиций, над берегом, над обрывом, сотрясая воздух, разрывая его, со скрежетом, воем и свистом летели снаряды.
Уповайченков снял фуражку и стоял, держа ее в руке, будто сознательно обнажил голову перед трагическим грохотом железа, смысла и назначения которого все еще не мог понять. Небо за лесом на левом берегу осветилось желтовато-серой продолжительной вспышкой, из нее вырвались блестящие золотые стрелы и с электрическим шорохом пронеслись над головой Уповайченкова; на обрыве раздался грохот взрывов, после которого в тишине, казалось, стал слышен шелест деревьев на левом берегу.
– «Катюша» играет, – услышал Уповайченков голос у своих ног и только теперь увидел, что стоит над щелью, в которой сгорбился телефонист в большом шлеме.
– Где капитан? – крикнул телефонисту Уповайченков.
Телефонист показал трубкой вверх, на обрыв, и нырнул в свою щель.
Напялив фуражку на голову, Уповайченков решительно зашагал под обрывом. Телефонист высунулся по пояс из щели и что-то крикнул ему вслед, но тут снова заиграли «катюши», и Уповайченков не услышал его слов. Бойцы тащили снаряды вверх по вытоптанному широкому спуску, он пошел за ними и, когда очутился среди реденьких, будто обожженных кустов наверху, увидел, что земля впереди поднялась дыбом и падает с грохотом, наклоняясь, как подрытая темная стена, – но то была не земля, то было небо, сплошь затянутое тучей дыма, небо, наполненное поднятой взрывами почвой, песком, железом, камнями, вывороченными кустами, обломками немецких блиндажей, небо, которое стонало и выло от боли, падало и снова вставало стеной перед изумленными глазами Уповайченкова.
За грохотом артиллерии на земле не слышно было, как появились и повисли в небе над немецкими позициями десятки штурмовиков и бомбардировщиков. Они беспрепятственно строились в боевой порядок – немецкие зенитки молчали – и один за другим заходили на цель и сбрасывали бомбы. Черная стена поднималась все выше и выше, в ней проблескивал снизу темный огонь и словно раскалывал ее, но трещины тут же зарастали, будто их кто-то заклеивал дымным, непрозрачным пластырем, чтобы сразу после этого снова возникнуть со страшным грохотом на том же месте, и рядом, и справа, и слева по ограниченному высотой горизонту.
Сколько времени все это продолжалось, Уповайченков не знал. Немцы не отвечали. Кто-то дернул его за полу плаща, он поглядел вниз и увидел капитана Жука, который стоял в полуприкрытом ветками окопчике.
– Ну как, корреспондент? – крикнул Жук и хрипло засмеялся.
Жук держал возле уха трубку телефона и что-то кричал, прикрывая мембрану ладонью, усы у него топорщились, пот катился по лицу, он утирал его ладонью и опять кричал в трубку.
Теперь Уповайченков увидел, что кругом кроме капитана Жука есть еще люди, что в кустах стоят противотанковые пушки и возле них хлопочут артиллеристы, что вся земля тут перекопана щелями, блиндажами и траншеями, что у каждого блиндажа, у каждой щели и траншеи стоят не пригибаясь солдаты и офицеры и что все они смотрят вперед, на ту черную стену, которая с железным стоном вздымается от земли до неба.
«Вот как начинается наступление, – подумал Уповайченков, довольный тем, что не ошибался, говоря Жуку, что у Гитлера нет возможности наступать, что наступать будем обязательно мы. – Хорошо, что я не послушал Жука и не ушел с плацдарма… Вот так жук! – Уповайченков невольно улыбнулся неожиданному каламбуру, который сам собой сложился у него. – Хотел меня спровадить отсюда в такую минуту!»
Тишина настала внезапно, и в тот миг, когда она возникла из того грохота и грома, которому, казалось, не будет конца, Уповайченков увидел, что все живое вокруг словно провалилось под землю – офицеры и солдаты прыгнули в свои блиндажи, индивидуальные окопчики и траншеи, артиллеристы залегли в ровиках у своих орудий, притаились, в то время как, по мнению Уповайченкова, им надо было поступать иначе.
«Что ж они прячутся по своим окопам и щелям, – возмущаясь, думал Уповайченков, – что ж они, в самом деле, прячутся?! Теперь надо подниматься и идти в атаку на немецкие окопы, там ведь все вверх ногами… Неужели капитан Жук этого не понимает? Он же не кто-нибудь, а командир батальона! Как ему не стыдно – не знать таких простых вещей? Кончилась артподготовка – иди в атаку. Даже я это знаю! Надо ему сказать, что ж он, в самом деле!»
Капитан Жук снова дернул Уповайченкова за полу плаща.
– Давай сюда ко мне, корреспондент, – сказал он, – давай, давай…
Уповайченков посмотрел на него сверху вниз и прыгнул в щель.
– Что случилось? Почему мы не наступаем?
– Давай перекурим, – ответил на это капитан Жук. – Что-то у меня в горле пересохло…
– Не выучился. Не курю.
– Оно и лучше для здоровья. Проживешь до ста лет.
Оба говорили коротко, отрывисто, бросая слова друг другу сквозь стиснутые зубы – Уповайченков нервно, Жук совершенно спокойно, с каким-то презрением, которое относилось неизвестно к кому.
– Ничего не понимаю, – сказал Уповайченков, собираясь вылезть из щели.
– А вот я тебе сейчас объясню. – Капитан Жук задержал его за рукав.
Небо опять раскололось над ними – немцы опомнились и навалились на батальон капитана Жука всею силой своего огня.
3
До начала огня, который должен был сорвать немецкую артподготовку перед наступлением, полковник Лажечников, несмотря на занятость делами своего полка и на то, что на его НП находились сейчас командир дивизии полковник Повх и начальник политотдела Курлов, командиры приданных частей и артиллеристы-корректировщики, все же успел написать письмо сыну.
«Мой дорогой мальчик, – писал Лажечников, – пишу тебе в последние минуты перед началом новой великой битвы, она должна решить очень многое для нас с тобой, для всех мальчиков, которые, подобно тебе, ожидают своих отцов с войны по разным городам, в детских домах, в эвакуации с матерями или на той части нашей земли, которую нам еще предстоит освободить от фашистов.
Не знаю, поймешь ли ты меня сейчас, или пройдет много времени, пока прояснится для твоего маленького сердца смысл моей отцовской любви к тебе. Знай, мой мальчик, что все эти долгие и тяжелые дни, с первой минуты войны, душа моя полна тобой и нашей мамой. Что бы я ни делал, где бы ни был – в боях, в наступлении или отступлении, в госпитале или в дороге на фронт, – я всегда думал о той минуте, когда смогу вернуться к тебе, обнять твои худенькие плечи, подержать в ладонях твою умную головку, увидеть твои глаза и в них – мамины, которых мы уже никогда не увидим, ни я, ни ты.
Я всегда любил тебя, – когда тебя еще не было на свете, когда я еще только мечтал, что ты будешь, и когда ты появился, и мы с мамой шли из больницы, и я нес тебя на руках, завернутого в голубое одеяльце, маленького, спрятанного от осеннего ветра так, что только крохотный носик выглядывал из-под прозрачного кружева конверта, – всегда я любил тебя.
Когда, бывало, я ехал с лекцией на завод, или в клуб, или в другую какую-нибудь аудиторию, я думал, что вернусь домой, а дома у меня есть мой мальчик – он уже узнаёт меня и тянется ко мне маленькими ручонками.
Мама выносила тебя мне навстречу, поднимала на руках и говорила: «Смотри, какой хороший у нас сын, он весь – ты, и он будет такой, как ты, – добрый, открытый и честный…»
Я верю, что такой ты и будешь – прямой и несгибаемый, – лучше меня.
Странно, что судьба моя повторяется в тебе, хотя прошло много лет, и все вокруг изменилось, и время не то, и мы все теперь уже не те, что в прошлом. Мой отец – твой дед – погиб в Галиции, в первую немецкую войну… А с матерью получилось совсем плохо. Кому она была нужна, кто о ней мог позаботиться в те годы, когда голодный тиф косил людей, а вокруг разорение, хаос – ни врачей, ни лекарств, ни хлеба!
Вот и я вырос в детдоме, тогда они назывались приютами, позже – колониями; мог из меня выйти вор и наверное вышел бы вор, если бы не встретил я маму… Она ведь тоже из сирот той, первой войны. Было в ней что-то, заставлявшее меня верить, что я могу и должен быть лучше. Она была и мягче и сильнее меня. Я шел за ней в жизни, она меня сделала человеком, – помни ее всегда…
Видишь, я все время возвращаюсь мыслью к маме, так, будто она с нами и мы никогда не расставались, всегда были втроем, никогда не было ни войны, ни разлуки, ни других мыслей – только о ней и о тебе.
Конечно, ты не поймешь меня сейчас, но это не имеет значения. Надо, чтоб ты понял это потом, когда сам будешь взрослым. Я верю, что на твою долю не выпадут такие жестокие испытания, какие пришлось выдержать нам. Главное в жизни – сохранить верность: сыну, матери своего ребенка, которую любишь всей душой, Родине, от которой себя никогда не отделяешь, в конце концов – самому себе. Только тогда ходишь с высоко поднятой головой, открыто смотришь в глаза людям и спокойно идешь на смерть.
Будь смелым, честным, открытым и верным. Сейчас начинается бой».
Лажечников перечитал письмо и понял, что написал его не сыну, а самому себе.
Вопреки тому, что написал Лажечников в письме, он не мог не думать о том, о чем запретил себе думать.
Лажечников знал: чтоб быть хорошим отцом, хорошим мужем своей погибшей жены, наконец, просто хорошим человеком, ему не следует думать о Варваре Княжич, но он думал о ней и не переставал от этого чувствовать себя хорошим человеком, хорошим отцом.
«Нужно было иначе написать», – подумал Лажечников, но у него уже не было времени переписывать письмо. Лажечников сложил письмо треугольничком и сунул в нагрудный карман своей габардиновой гимнастерки.
Огонь начался минута в минуту, точно в назначенное время. Лажечников стоял в траншее своего НП на краю кукурузного поля и в окуляр стереотрубы глядел на село за рекой. Он никогда не видел такой плотности огня, хотя видел на войне многое. Снаряды, мины, бомбы всех калибров падали непрерывно. Не слышно было отдельных разрывов, все сливалось в сплошной грохот. Артиллерист-корректировщик непрерывно кричал в телефон. Он лежал локтями на бруствере и вел наблюдение невооруженным глазом, лишь время от времени поднося к глазам длинный тяжелый бинокль, висевший у него на груди.
Дым поднимался над селом за рекой.
Сначала Лажечникову было видно, как летели вверх обломки плетней, которыми были перегорожены улицы села, потом снаряды начали попадать в избы; пламя охватывало стены и крыши, вырывалось из окон, пробивалось темно-красными и золотыми языками сквозь тучи дыма и пыли, исчезало на миг, но тут же его подвижные лезвия прорезали дымную толщу, высовывались из нее, как из прорванного мошка, и снова исчезали, словно их кто-то втягивал внутрь… Провалилась темно-серая черепичная крыша колхозного коровника, дым тоже словно провалился вместе с черепицей внутрь строения, потом высоким столбом поднялся вверх и начал расплываться в небе. Теперь все село уже исчезло в дыму вместе со своими постройками и садами, только белая колокольня плыла и будто покачивалась над стеной дыма.
Лажечников подумал, что для того, чтобы выгнать врага из избы, иногда надо уничтожить саму избу; ему сделалось больно от этой мысли, но он не успел на ней сосредоточиться: снаряды начали попадать в колокольню.
– Есть! Есть! – кричал в трубку артиллерист. – Так продолжать!
Тяжелые снаряды откалывали от колокольни кусок за куском. Зеленый проржавевший купол слетел, как шапка с пьяной головы, колокольня на глазах делалась все ниже и ниже, доски, которыми были зашиты сквозные проемы ее этажей, давно уже снесло; вдруг колокольня накренилась, мгновение постояла так, словно раздумывая, падать ей или не падать, и завалилась набок, прижимая к земле дымное облако, беспокойно клубившееся внизу.
4
Танковая бригада подполковника Кустова на рассвете сосредоточилась в дубовом лесу километрах в десяти – двенадцати от переднего края.
Тупоносый грузовик, в который регулировщица Саня посадила Варвару у штабного шлагбаума, подминал под себя белую дорогу. Варвара сидела рядом с шофером, усталым солдатом, который вяло крутил баранку руля, и с острым сожалением думала, что начало событий, ради которого ее послали на этот участок фронта, по сути говоря, пропало для нее. Надо было не сидеть в корреспондентском хуторе, а сразу же закрепиться в какой-то части и терпеливо ждать, – тогда все было бы в порядке. На передовой никогда не прозеваешь. Там если теряешь, то ничего уже не остается, даже места для сожалений, а тут чувствуешь себя без вины виноватой. Но с другой стороны, как она могла знать, что свадьба начнется именно этой ночью, если все держится в тайне, особенно от болтливых корреспондентов? Варвару не утешало и то, что она успела отправить самолетом с фронтового аэродрома свои снимки в редакцию. «Тигр» там понравится, и Гулоян с противотанковым ружьем тоже произведет впечатление, но все это не то – начало она прозевала.
На обочине дороги стоял танкист в новом, блестящем кожаном шлеме с валиками, похожий на большеголового марсианина.
От дороги в лес ползли следы танковых гусениц, на молодых деревцах опушки сохли изломанные и ободранные ветки.
«Теперь уже все равно, с кем начинать, – подумала Варвара. – Пристану к танкистам, а когда они пойдут в бой, пойду с ними, и все будет в порядке».
Грузовик давно уже проскочил мимо леса и мчался теперь по открытому полю. В поле колхозницы жали серпами ячмень. Варвара сказала:
– Я тут сойду.
Шофер посмотрел на нее удивленно и молча затормозил. Варвара вышла на дорогу и услышала грохот орудийного огня впереди. Грузовик вскоре исчез за бугром. Женщины спокойно склонялись и выпрямлялись на ячменном поле, не обращая внимания ни на орудийный грохот, ни на столбы разнообразно темного дыма, выраставшие и таявшие на горизонте. Только когда над головой пролетали самолеты, они прекращали работу, выпрямлялись, смотрели из-под руки в небо, а потом снова начинали подрезать серпами ячмень.
Танкист проверил у Варвары документы. Он старался казаться суровым, хотя глаза его блестели от любопытства – не каждый день заезжали в бригаду корреспонденты.
Ветвистые дубы обступили Варвару плотной стеной, когда она вошла в лес по впечатанной в сухую, твердую землю танковой колее.
Первое, что привлекло внимание Варвары в этом сухом лесу, были не танкисты, хлопотавшие у своих больших, тяжелых машин, не пузатые заправочные цистерны, подъезжавшие то к тому, то к другому танку, не бронеавтомобили с торчащими стволами пулеметов и не грузовики, из которых выгружали и складывали аккуратными штабелями ящики со снарядами для танковых орудий, – лес встретил ее громким страстным воркованием: множество маленьких лесных горлиц гнездилось на дубах, они ворковали в ветвях, не обращая внимания ни на танкистов, ни на их машины, ни на Варвару.
Командир бригады сидел под дубом в открытом «виллисе» и ел гречневую кашу из котелка. У него были аккуратно подстриженные черные усы щеточкой и совсем седой молодой чуб, – если б не седина, ему можно было бы дать самое большее тридцать лет.
Представляясь командиру бригады, Варвара невольно смотрела на котелок с гречневой кашей: она ничего не ела со вчерашнего дня.
Командир бригады перехватил ее голодный взгляд, воткнул ложку в кашу, вытер платком рот и крикнул в кусты:
– Максим! Каши корреспонденту!
Из кустов медленно появился Максим, неся за ручку плоскую крышку от котелка с вкусно пахнущим холмиком каши.
– Извините, – сказал Максим, подавая Варваре ложку, – будет мало, я добавлю.
Командир бригады, как и все в лесу, был очень занят, но, несмотря на свою занятость, охотно, хоть и немногословно, разговаривал с Варварой. Все время подходили командиры батальонов и офицеры штаба, подполковник вежливо говорил Варваре: «Извините», отдавал распоряжения и опять поворачивал к ней молодое лицо. Он курил большую трубку с длинным тонким чубуком, придерживая ее сильными пальцами. Варвара узнала, что он кадровый, начинал войну на границе, был тяжело ранен в ноябрьской битве под Москвой, отлежался в госпитале и поспел под Сталинград.
– Научились наши доктора сшивать людей из кусков мяса, – засмеялся командир бригады, и Варвара вдруг увидела: вздутый красный рубец бежал у него из-за правого уха и исчезал под воротником чистого комбинезона.
С ним было легко, с этим бывалым и сдержанным подполковником, очень легко, как с братом или старым знакомым – скажем, школьным товарищем, которого не видишь с детства, а потом встречаешься и свободно рассказываешь всю свою жизнь. Это чувство было издавна знакомо Варваре. Однако тут оно проявлялось совсем иначе, чем, например, во время последней ее встречи с Савичевым, – и проще и сложнее. Савичева Варвара воспринимала как старшего, кроме того, он лишь на мгновение показался ей близким и способным понять ее, потом он снова стал не Савичевым-человеком, души которого коснулось горе, а Савичевым-генералом, от которого ее отделяла не только разница в летах, но и служебное положение, все те бессмысленные и обременительные условности, которые затрудняют и усложняют взаимоотношения между людьми. Кустов, в отличие от Савичева, был человеком ее поколения, она никак не зависела от него – уже это одно сближало их. Но она и теперь сдержалась, не стала рассказывать о себе, хоть знала, что ему нетрудно будет понять, проникнуться тем, что составляло ее жизнь. Что могло ей дать понимание Кустова, когда она теряла уже надежду понять сама себя?
Неспокойно было на душе у Варвары.
То ей казалось, что она сделала ошибку, запретив себе ехать в хозяйство Повха, то она оправдывала и уверяла себя, что не могла поступить иначе. Варвара говорила с командиром бригады, а в это время в ней вели свой отдельный, не слышный ни для кого разговор внутренние голоса, к которым она прислушивалась с надеждой и страхом.
«Еще не поздно, – говорил один голос, успокаивающий и готовый со всем согласиться, – ты еще можешь распрощаться с танкистами и разыскать ту дивизию».
«Нет! – сразу же отзывался другой голос, который запрещал ей соглашаться с тем, что легче легкого. – Теперь ты уже останешься тут».
«Почему же она должна оставаться? – удивлялся первый голос, и Варваре казалось даже, что воображаемый голос пожимает при этом плечами, такой он был реальный и убедительный. – Почему она должна оставаться тут, когда ей нужно быть там? Ей же тяжело!»
«А ты думаешь, что самое легкое и есть самое лучшее? – ироническим вопросом разрушал удивление первого второй голос. – Ошибаешься».
За деревьями виднелась крытая машина бригадной рации, над ней колебался, поблескивая тусклым металлом, тонкий прутик антенны. Начальник штаба быстрыми шагами подошел к Кустову и молча подал ему белый с красной полоской вверху листок шифровки. Варвара увидела, как лицо командира бригады начало медленно напрягаться, словно под кожей у него становились железными мускулы, выпирали тугими узлами и до неузнаваемости искажали его молодое, чистое лицо.
Кустов коротким движением вбросил шифровку в руку начальника штаба и легко выпрыгнул из «виллиса». Варваре показалось, что в тот же миг из-за деревьев выдвинулся квадратный полугрузовичок, к нему подбежали несколько офицеров и остановились, ожидая командира бригады. Кустов направился к ним, с полдороги вернулся и сказал Варваре, улыбаясь неожиданно мягко, словно не было еще мгновение тому назад искажено суровостью его лицо:
– Походите по лесу, познакомьтесь с людьми… У вас хватит времени.
Он сел рядом с шофером, офицеры вскочили в кузов – и полугрузовичок выехал из лесу.
– На рекогносцировку, – сказал медлительный Максим, убирая котелок и крышку с остатками каши с сиденья «виллиса». – Значит, скоро.
Максим будто нехотя поглядел в ту сторону, куда исчез полугрузовичок с командиром бригады и офицерами. Варвара поняла, что он имеет в виду: сразу же за рекогносцировкою, на которую выехал Кустов с командирами батальонов, начальником оперативного отдела и командиром разведки, бригада вступит в бой.
Варвара пошла бродить по лесу. Ее никто не останавливал: танкисты уже знали, что женщина с фотоаппаратом прибыла в бригаду на все время, и доброжелательно разговаривали с нею. Почему танкисты решили, что Варвара должна быть с ними все время, трудно сказать. Она не говорила этого командиру бригады. Просто сказала, что ей надо пофотографировать танкистов в действии, а кто-то уже сам сделал вывод из ее слов. Может, тот медлительный Максим, что накормил ее такою вкусною гречневой кашей со шкварками, пустил этот слух? Только он и мог слышать ее разговор с командиром бригады. Тем лучше, она действительно останется с этими людьми на все время, не может же она разрушить их доверия к себе, не может и не имеет права: Варвара уже чувствовала себя связанной с танкистами, это чувство помогало ей верить в то, что она правильно поступила, запретив себе ехать в дивизию Повха. Больше того, ей казалось, что танкисты, которые не знали и не могли знать, какая сложная работа происходит в ее душе, что танкисты одобряют решение, которое так тяжело давалось ей.
«Очень хорошо, что ты остаешься с нами, – читала Варвара в глазах танкистов, в глазах, которые говорили словно только о ней, а на деле рассказывали о себе. – Тут не нужна ни особая смелость, ни какие-то там исключительные качества. Просто надо быть спокойным и готовым ко всему. К куску железа в грудь. К подбитой гусенице и заклинившейся башне. К взрыву снарядов в подожженном танке. Но об этом не надо думать. Надо думать только о жизни, о тех, кто тебя ждет, шлет письма и в каждом пишет: «Береги себя!» А сберечь себя – это иногда значит отдать до конца. Вот до этого конца ты и будешь с нами! И что будет с нами, то будет и с тобою».
Варвара подумала о колхозницах, которые жали ячмень у леса. Они знали, эти колхозницы, то же, что и танкисты: надо спокойно делать свое дело. Для одних это значит идти в танке навстречу врагу, стрелять по нему из пушек и пулеметов, давить его гусеницами и таранить всей силой движения и весом брони, для других – жать ячмень и не обращать внимания на то, что грохот и столбы дыма на горизонте придвигаются все ближе и ближе; а для нее, для Варвары, это уже совсем мало – поднимать к глазу аппарат, ясно видеть кадр и мгновенным скольжением шторки отсекать его для памяти людей. Пусть идут в будущее эти танкисты, которые в последний раз перед боем осматривают свои машины в лесу, и этот полный воркования горлиц лес, прикрывающий их от самолетов врага, и ячменное поле, окруженное дымными столбами разрывов, и колхозницы, что поблескивают на нем серпами, и крутят перевясла, и вяжут снопы, и складывают их в копны.
Варвара вышла в поле и сфотографировала колхозниц. Она легла на жнивье и построила кадр так, что в него вошли и копны, и женщины с серпами, и темные фонтаны дыма на горизонте, на переднем плане сидела простоволосая девочка с кривыми ножками и сухой деревянной ложкой кормила серую тряпичную куклу, завернутую в другую, цветастую тряпочку.
Колхозницы насмешливо посматривали на Варвару, они о чем-то переговаривались. Варвара поняла, что это о ней и что-то не очень хорошее, что именно, не имело значения. Откуда им знать, этим черным от труда и горя бабам с потрескавшимися ногами и узловатыми, жилистыми руками, что она их любит, что у нее тоже не легкая жизнь, что у ее Галки такие же тоненькие, кривые ножки, как и у этой простоволосой девочки, которая кормит свою куклу, сидя на жнивье? Они думают: вот не знает женщина горя, щелкает себе аппаратом, когда вокруг такие страхи, такая беда! Бывает же у людей легкий хлеб, не то что у нас!
Она не обижается – пускай себе думают.
Когда Варвара вернулась в лес, там кипела напряженная работа. Танкисты в последний раз перед боем осматривали свои машины, заправляли баки горючим, регулировали механизмы, пополняли боекомплект; кто сменял траки, кто, лежа на земле, натягивал поплотнее гусеницы своего танка, кто озабоченно, словно это было самым важным, протирал тряпкой триплексы, а кто подрисовывал свежей белой краской боевой лозунг на броне.
Молоденькая девушка с острым, птичьим носиком, смешно толкая воздух тонкими голыми коленками, ходила среди танков с тяжелой сумкой на боку. Все знали ее, но делали вид, что не замечают: никому не хотелось раньше времени узнать, что писем для него сегодня нет. Надо было видеть, как упорно, с отсутствующим видом гремел танкист ключами, когда девушка с сумкой приближалась к танку, как уныло склонял он голову, когда она проходила, не останавливаясь, мимо… Но нужно было видеть, как быстро вытирал он руки паклей, как блестели у него глаза, когда осторожно, кончиками пальцев брал он свой треугольничек и отходил в сторону, чтобы прочесть его наедине!