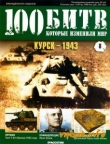Текст книги "Дикий мед"
Автор книги: Леонид Первомайский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 34 страниц)
– Не дрейфь, Мотя! – сказал Пасеков.
Мотя, прижимаясь всем телом к женщине, равнодушно посмотрела ему вслед.
Пасеков издалека увидел свою «эмку». Добраться до нее было нелегко. Он прыгал через узлы, разбросанные ящики, обходил перевернутые грузовики. По обе стороны дороги чернели свежие воронки, в поле горел зеленый фургон радиостанции, языки пламени облизывали вскинувшуюся вверх тонкую антенну. В кюветах перевязывали раненых, возле убитых стояли кучки людей, молчаливых и хмурых.
Берестовский сидел в машине. Лицо его за грязным стеклом расплывалось серым пятном. Пасеков побежал быстрее. Дверцы машины были раскрыты на обе стороны, передок перекосился, в капоте зияла большая пробоина, сквозь нее виднелись порванные провода и желтела раздробленная пластмасса трамблера. Пасеков посмотрел под крыло – скат был пропорот, барабан разбит вдребезги – и тогда только сунул голову в кабину,
– Вам повезло, – сказал Пасеков, убедившись, что Берестовский не ранен,
– Где Мотя? – спросил Берестовский. – Куда вы девали Мотю?
– Пристроил я вашу Мотю… Что вы на меня так смотрите? Удивляетесь, что я не теряю головы? Советую и вам держать себя в руках.
– Что вы предлагаете?
– Плюнуть на эту разбитую лайбу, сориентироваться в обстановке, а там… Где наш шофер?
Степа Бурачок после налета бомбардировщиков поднялся из канавы, увидел, что мотор разбит, взял свой вещмешок и сказал: «Ну, теперь я вам уже не нужен?»
– Только я его и видел, – добавил Берестовский.
Они выбросили из вещмешков все лишнее, взяли по нескольку банок консервов, по буханке хлеба и, не оглянувшись на разбитую машину, начали пробираться вперед.
Под вечер на окраине села, названия которого Берестовский так никогда и не узнал, они увидели батальонного комиссара, который пропустил их «эмку» через мост в Киеве. Это было первое знакомое лицо среди сотен чужих, мрачных, озабоченных, перепуганных или отупело-безразличных лиц, на которые им пришлось насмотреться в тот день.
Широко расставив ноги, батальонный комиссар стоял в воротах набитого бойцами и командирами двора. Он держал обе руки на форменной бляхе поясного ремня, грудь его тяжело подымалась с каждым вздохом, большое лицо было сосредоточенно, казалось, он решает какую-то важную задачу и озабочен только ею.
– Я вас знаю, – сказал батальонный комиссар, поверх голов корреспондентов глядя на дорогу и в поле, где брели вооруженные и безоружные люди, останавливались и снова шли, вливаясь со всех сторон в улицы села.
– Мы вас тоже сразу узнали, – сказал Пасеков.
– Нет, я вас не так знаю, – качнул головой батальонный комиссар. – Читал… Приходилось.
Берестовский увидел на его лице кривую усмешку, которая могла значить только одно: полушки не стоит то, что я читал, ничего общего не имеет оно с повестью, какую пишет сама жизнь, – что сделаешь, если эту повесть тяжело читать? Жизнь не считается с тем, что кому кажется легким, а что тяжелым, у нее нет ни редакторов, которым нужно потрафлять, ни цензоров, на которых, хочешь не хочешь, оглядывайся. Она пишет свою повесть по собственным законам и по собственному вкусу. Никогда не знаешь, какая неожиданность подстерегает тебя в следующей главе… Страшно тебе, тяжело тебе? Не хочешь – не читай.
Большое открытое лицо батальонного комиссара потемнело, словно налилось черной кровью, он дышал коротко и часто; казалось, этим тяжелым, неровным дыханием он помогает себе побеждать гнев, клокочущий в нем. Берестовскому показалось, что глаза его смотрят удивленно, словно он не хочет верить в то, что видит перед собой, заставляет себя верить и сразу же отказывается – таким невероятным кажется ему то зрелище, что в сумеречном свете возникает перед его глазами.
Батальонный комиссар Лажечников не раз уже за три месяца войны видел то, к чему не мог и не хотел привыкнуть. Удивление его относилось не к тому, что происходило у него перед глазами, а к чему-то более значительному, чем это село, в улицы которого вливались бойцы с винтовками и без винтовок, вползали грузовики и походные кухни, на окраине которого располагались незнакомые артиллеристы со своими орудиями и минометчики с полковыми и ротными минометами. Все это перемешивалось и создавало неорганизованную толпу окруженцев, которая могла так же неожиданно, как сейчас сбилась в кучу, расползтись и рассосаться по окружающим селам, лесам и оврагам.
Удивление батальонного комиссара Лажечникова относилось к прошлому, которое успокаивало его чем только могло, убаюкивало его разум, уверяло, что ничего похожего на то, что случилось сейчас, не может случиться. Это было особого рода горькое и отрезвляющее удивление, излечивавшее от иллюзий, от слепой веры и заставлявшее полагаться только на собственный разум, на собственную волю и верность.
– По вас вижу, что вам это в первый раз, – заговорил батальонный комиссар, потушив кривую улыбку на своем большом лице. – А мы от самой границы так… Три месяца как один день. Немцы объявят в своих сводках, что дивизии Костецкого уже не существует, одним словом, похоронят заживо, а мы и не думали умирать! Всегда есть слабое место, где можно прорваться. Мы шесть раз вырывались из окружения, хотя шесть раз слыхали по берлинскому радио, что частично уничтожены, а частично взяты в плен… Черта с два! Наша дивизия, как магнит, обладает способностью притягивать к себе железо. Мы потеряли не меньше двух комплектов личного состава, а вышли к Днепру, имея людей сверх комплекта. И теперь выйдем и выведем за собой всех, кто присоединится к нам. Разбить нас фашисты не могут, а что бесстыдное легкомыслие из головы выбили, на это жаловаться не приходится. Нужно было умнее быть… Не только нам, а еще кое-кому.
Батальонный комиссар замолчал. Нет, он не ждал, чтобы они ему отвечали. Ему безразлично было в эту минуту все, что они могли сказать, он просто думал вслух обо всем, что видел перед собой и за собой, в том числе и о них, об этих двух газетчиках, стоявших перед ним, грязных и растерзанных, с полупустыми вещмешками за спиной, сквозь тонкую ткань которых выпирали хлеб в буханках и банки консервов.
Будет им о чем писать после войны… Когда-нибудь потом, когда все уляжется, выветрится горечь; во время войны этого не напишешь, да и после войны не скоро. Снова будет кому обижаться, требовать, чтобы все было как в кино или в театре – чистенькое, подгримированное, хорошо освещенное, похожее на действительность и далекое от нее, как далек от рваной раны аккуратный беловато-розовый шрам.
– Вы знаете, что произошло? – помолчав, сказал батальонный комиссар и снова не стал ждать ответа. – Потом узнаете… Сейчас полковник Костецкий принимает решение. Советую вам от нас не отставать. Мы вас выведем, а без нас…
Лажечников неожиданно свистнул по-мальчишески так весело, что Берестовский и Пасеков сразу же поняли, что будет с ними, если они отстанут от него.
Тяжелый сумрак ложился на землю, окутывал хаты, плетни, деревья. Лажечников медленно повернулся и пошел во двор. Берестовский и Пасеков отправились за ним.
Невысокий полковник стоял, как в раме, в дверях хаты, взявшись обеими руками за косяки, и резким голосом обращался к офицерам, обступившим его широким неровным полукругом:
– Дивизия наша не разбита. Мы очутились в тяжелом положении. Не будем искать виноватых. Не время. Главное – не теряться, не допустить деморализации… Война не скоро кончится, пусть фашисты не надеются на это. Мы нужны Родино как армия, а не как стадо перепуганных баранов.
Берестовский услышал в словах полковника мысль Гриши Моргаленко, высказанную в Голосеевском лесу: «Наши головы еще нужны будут Родине», – и не удивился, когда полковник, как будто снова повторяя слова командира ополченской роты, крикнул:
– Каждого, кто сорвет знаки различия, лично расстреляю как дезертира и изменника!
Лицо полковника смутно вырисовывалось в темноте. Его резкий, словно заржавленный голос глубоко поразил Берестовского. Он вслушивался в тот голос и чувствовал за ним незаурядную силу воли, которая не ослабевает ни при каких обстоятельствах, подчиняет себе всех и ломает все преграды. Вместе с тем он слышал в голосе полковника неприкрытую боль, ненависть и презрение, – если боль можно понять и объяснить, то соединение ненависти и презрения требовало расшифровки, как сложный и запутанный код: ненависть нужно было отнести к фашистам, а презрение этого коренастого полковника с заржавленным голосом – к тем же немцам, к самому себе или, может, к кому-нибудь третьему. И кто был тот третий?
– Командиры полков и батальонов, ко мне! – закончил полковник, стоя в раме дверей.
Он повернулся и исчез в хате. Командиры начали нырять за ним в сени.
– Кто это? – спросил шепотом Берестовский у Лажечникова, рядом с которым стоял.
– Полковник Костецкий, – сделав шаг по направлению к хате, оглянулся на него Лажечников. – Мог бы командовать фронтом… С ним не пропадешь!
Лажечников раздвинул плечом стену офицерских спин и нырнул в сени. Берестовский и Пасеков остались во дворе.
Из записок Павла Берестовского
Когда я, взяв свою фляжку со спиртом, выходил из избы, у двора остановился грузовик. Варвара Княжич легко выпрыгнула из кабины. Держась за дверцу, она что-то сказала шоферу, помахала рукой и направилась в наш двор.
Я пошел ей навстречу.
У нее был усталый, но откровенно счастливый вид. Она улыбалась мне издалека. Мне показалось, что из ее глаз льются волны яркого света. Глядя в эти глаза, я не замечал ни ее короткой юбки, ни больших, тяжелых сапог с низкими голенищами, ни вконец растерзанной гимнастерки, которая делала большую фигуру моей новой знакомой такою неуклюжею.
Что с ней случилось, я не знал и не понимал, но и в походке Варвары, и в том, как она держала руку на футляре фотоаппарата, висевшем у нее через плечо, чувствовалась какая-то поразительная перемена, одна из тех решающих внутренних перемен, которые отражаются и на внешнем виде человека.
– Поздравляю, – сказал я. – По вас видно, что вы хорошо съездили.
– Прекрасно! – протянула мне широкую ладонь Варвара. – Мне сказали, что приехал фотокорреспондент из вашей газеты… Он уже, наверно, наладил лабораторию, мне надо срочно сделать отпечатки.
Я познакомил ее с Миней. Он вышел из избы, все еще в тапочках и нижней сорочке, доброжелательный и веселый. Они сразу же договорились.
– Мы это дело быстро сварганим… У вас много? – Миня оглядывал Варвару с головы до ног черными беспокойными глазами.
– Одна пленка. – Варвару смущали его быстрые, слишком бесцеремонные взгляды. – Извините, если я…
– Что вы, что вы, – уверял Миня, – рад помочь, дело общенародное!
Он взял Варвару за локоть.
– Идемте, у меня лаборатория на большой.
Из сеней вышла Люда и, бросив на Варвару подозрительный взгляд, с независимым видом, высоко неся свою красивую голову в короне светлых волос, прошла в сарайчик.
– Ох, какая красивая у вас хозяйка! – искренне вздохнула Варвара, глядя ей вслед, а Миня хмыкнул с таким видом, словно сказал: «А как вы думали? Некрасивых не держим!»
Варвара засмеялась и, пригнув голову, вошла в сени.
Когда мы за завтраком выжали из моей фляжки последние капли, Дубковский, заглянув в большую жестяную кружку, на дне которой неглубоким озерком расплылась синеватого цвета жидкость, сказал:
– А вы знаете, что завтра мой день рождения?
– Будь я проклят, если мы не обмоем новорожденного! – крикнул Пасеков. – Беру это дело на себя.
Дубковский недоверчиво на него покосился.
– Дело верное, – перехватил его взгляд Мирных. – Вы еще не знаете Пасекова…
– Но вы его узнаете! – Пасеков вылил спирт в свой широкий рот, крякнул, вытер губы ладонью и вышел из избы.
Мы тоже разошлись, каждый по своим делам.
2
Всю уже знакомую дорогу из дивизии Костецкого до корреспондентского хутора, дорогу, в сущности не такую уж и дальнюю – Васьков прогазовал ее, по его выражению, очень быстро, – Варвара не могла опомниться от той перемены, что произошла с нею и в ней, в той глубине ее сознания, которая, казалось, уже навсегда утратила способность изменяться.
Варвара сидела рядом с Васьковым в тряской кабине грузовика, и ей казалось, что она не отдаляется от леса, где произошла с ней та перемена, которой она не могла ожидать, а все еще летит навстречу неожиданному счастью, что запело в ее душе на сказочной поляне, освещенной тревожным пыланием фосфорических пней.
Дорога гудела под скатами, перелески, холмы и поля, отброшенные движением, летели назад, куда-то за плечи Варваре, за кабину грузовика. Впереди было синее небо, желтые хлеба и почти белая полоса дороги, тупой передок машины подминал ее под себя и словно глотал километр за километром.
Васьков пригибался к баранке и выворачивал шею – старался из кабины следить за воздухом. Когда машина выскочила на шоссе, в этот час пустынное и тихое, он дал полный газ и глянул внимательно на Варвару.
– Вид у вас такой, товарищ корреспондент, – сказал Васьков, – такой у вас вид, будто вы нашли тысячу рублей…
– А может, и больше, – с деланным равнодушием ответила Варвара, – почем вы знаете, Васьков?
Варвару испугало, что посторонний, совершенно чужой человек мог прочесть у нее на лице то, что, казалось, знает и должна знать только она.
В ней проснулось непонятное многим людям стремление скрыть от постороннего глаза свое счастье. Может быть, это стремление жило в ней всегда, может быть, Варвара боялась в своем возрасте, преувеличивая его значение, открыто радоваться своему сокровищу, а может быть, жизнь, которая так безжалостно разрушила ее прежнее счастье, научила ее осторожности, и она просто не хотела, чтобы кто-то – все равно кто – заметил ее новое богатство и опять ограбил ее.
Вместе с желанием скрыть свое счастье, схоронить его в себе, в той тайной глубине, где оно было бы недосягаемым для чужого недоброго взгляда, Варвара чувствовала и другое, совершенно противоположное желание – раскрыться свободно и откровенно, в полную силу души жить своим счастьем, так, чтобы каждый видел и не сомневался: она еще может быть счастливой и она счастлива, вопреки всему, что убивало в ней способность к счастью.
Эти два желания противоборствовали в ней с такой силой и это противоборство так откровенно отражалось на ее лице, что она махнула рукой на себя: «Я ничего не могу поделать с собой и со своим счастьем, пускай все видят – я ни в чем не виновата».
Варвара распрощалась с Васьковым, сказав, что под вечер он может заехать за своей карточкой.
Васьков, довольный новым знакомством, долго смотрел вслед Варваре и по тому, как легко несла она свое большое тело, как уверенно и смело, высоко поднимая голову, шла в неуклюжих своих сапогах, пришел к выводу, что конечно же не тысячу рублей нашла Варвара в хозяйстве Костецкого, а что-то значительно более важное и дорогое, чем эта никому не нужная тысяча. И хоть не с таким простодушием, как его знакомый Зубченко, Васьков так же безошибочно связал счастливый вид Варвары с присутствием у дивизионного шлагбаума полковника Лажечникова.
«Везет же людям!» – думал Васьков, разворачивая свой грузовик на узкой хуторской улице.
Васьков подумал, что его жена никогда не ходила такой откровенно влюбленной походкой, никогда не несла так высоко голову, никогда не просвечивались сквозь ее бесцветные глаза те лучи, которые он увидел в глазах Варвары.
Видно, жена никогда не любила его, потому и звала всегда Васьковым, как все зовут. Если женщина любит, не будет она кричать на тебя: «Опять, Васьков, просадил получку?» – словно она над тобой завгар или старший механик.
Васькову стало жалко себя, так жалко, что он даже головой помотал с отчаянья, хоть на самом деле жалел он себя совершенно безосновательно: жена его любила, родила ему двоих детей, и было время, когда она так же гордо ходила по земле и таким же светом согревали его не очень деликатную душу ее глаза.
А что называла она его не по имени, а Васьковым, так эту привычку переняла она от него же, ведь и он себя никогда не называл иначе: «Васьков может… Васьков сделает… полагайтесь на Васькова, как на каменную гору!»
Скорее всего это саможаление нужно было Васькову, чтобы оправдать одно грубоватое чувство, которое зашевелилось в нем, – словно кто-то подсказывал Васькову: если тебя не любят, если тобой интересуются только в связи с твоей получкой и смотрят на тебя холодными тусклыми глазами, так ты можешь и пожалеть себя, и позволить себе то, чего не позволяют себе те, кого любят, Васьков!
– Как же, нужен ты ей очень! – мотал головою Васьков, выворачивая баранку руля. – Напечатает карточку – и будь здоров!
Грузовик Васькова проскочил длинную хуторскую улицу и исчез на картофельном поле.
В погребе – лейтенант Миня, поселившись у Люды, сразу же приспособил его под лабораторию – держалась сухая прохлада. Все необходимое Миня привез с собой, только аккумулятор пришлось добывать в автобате, но и это было нетрудно: искусство фотографа открывало Мине дорогу к любому сердцу. Красный лабораторный фонарь освещал раствор проявителя и гипосульфита в черных карболитовых ванночках. Увеличитель Миня устроил на бочке из-под огурцов, прикрытой доскою, на которой Люда обычно раскатывала тесто. Миня ласково мурлыкал у Варвары за плечом.
Люда стояла в сенях, босыми крепкими ногами попирая деревянную крышку лаза, подняв которую спускались по лесенке в погреб. Как приказал Миня, она застлала крышку плотным рядном, чтоб ни один лучик света не пробился в темноту лаборатории.
Люда сплела пальцы рук и, прижавшись к ним губами, прислушалась. Из погреба слышалось мурлыканье Мини, мурлыканье, от которого у Люды начинало биться сердце и холодели ноги. О чем он мурлычет там, в темноте, и чего ей ждать от этого мурлыканья? Люда не выдержала, в сердцах стукнула круглой босой пяткой в крышку погреба и побежала через двор к своей соседке Аниське, которая одна только и могла понять ее горе.
Варвара вежливо сказала Мине:
– Товарищ лейтенант, вам не кажется, что вы мне мешаете?
Варваре надо было остаться одной: она не хотела, чтобы Миня увидел на ее пленке еще что-то, кроме нового немецкого танка.
– Я хотел вам помочь, – обиженно промурлыкал Миня. – Но если я вам мешаю… Прикройте бумагу, засветится.
В то время как Миня вылезал по лестнице из погреба, Люда сидела у Аниськи в сенях и, заламывая пальцы, громко шептала:
– Полез с нею в погреб, в потемках, горюшко мое, что я делать буду?!
Аниська, обнимая подругу за плечи, так же громко шептала:
– В погреб что? В погреб ничего… Пускай бы мой Федя с кем угодно в погреб лазил, лишь бы всегда при мне был… Скоро, говорит, мы с тобой попрощаемся, Аниська! Скоро, говорит, фронт двинется, не можем мы долго в обороне стоять… А как же я тогда? Ты думаешь, он хоть оглянется, как фронт двинется? Не оглянется, ирод!
Аниська вдруг заголосила, прижимая к себе Люду, заголосила так горько и горячо, что у Люды сердце сжалось.
– Ох, чует мое сердце, что он от Волги до моего двора детей как маку насеял… Чтоб его первая пуля не миновала, где они только берутся на нашу голову!
Аниська сильно размахнулась, но не больно ударила себя кулаком по животу, и лишь теперь Люда заметила, что живот у Аниськи выпячивается под юбкой, выдавая тайну ее слез и горького горевания. Люда бросила ладони к лицу и сама залилась; плача ее не было слышно, только плечи дрожали непрерывной мелкой дрожью, уложенные кренделем косы рассыпались, конец косы с черной шпилькой свесился и колол ей белую полную шею.
Чего бы ей плакать, Люде? В конце концов, не очень уж обидело ее, что Миня полез в погреб с той вольнонаемной, которая остановилась у Аниськи. Люда хорошо понимала природу человеческих отношений и, хоть не очень верила своему Мине, все же не могла предположить, что он на глазах у нее переметнется к другой, да еще после того, как она так открыто и решительно признала свою связь с ним перед святым Демьяном, а значит, перед всем хутором. Нет, пока что ничего, кроме карточек, меж ними нет.
Что ж она тогда так горько плачет?
Подсознательно рассчитанное движение Аниськи, то, как она не больно ударила себя по животу, бесстыдно раскрывая тайну своих жалоб на шкодливого Федю, – вот что наполнило трепетом и ужасом душу Люды. Хорошо ей, Аниське: она безмужняя вдова, еще до войны схоронила мужа, в хуторе у нее ни родителей, ни родни, – люди поговорят, да и замолчат, у каждого свои заботы, свои хлопоты, ненадолго хватает людской молвы! А что скажет она, Люда, своему Сергею, когда вернется он с войны? Какими глазами уже и сейчас смотрит на нее малолеток Кузя?
Люда вспомнила холодок страха, пронявший ее с головы до пят, когда Кузьма выскочил из ее каморки с рамкой от карточки Сергея в руках, вспомнила, как она невольно сжалась в ожидании удара, и слезы из глаз ее полились еще обильней, а плечи задрожали еще мельче и чаще.
Но, даже плача в предчувствии беды и позора, которые теперь казались ей неминуемыми, Люда не могла не помнить, что этому предчувствию предшествовала полнота самозабвения, всепоглощающей радости и безгранично далекого от всяких расчетов женского счастья. Она не могла не помнить тех ранее никогда не слышанных ею слов, которыми заколдовал ее Миня, не могла отогнать от себя наваждения его ярких глаз, которые ни с чем нельзя было сравнить, не могла забыть его способности по-юношески краснеть, его тонких черных усиков над почти детскими припухшими губами. И, со страхом понимая, что все это принадлежит ей только временно, что за временное обладание этим сокровищем она должна будет расплатиться дорогой ценой, Люда думала с отчаянной решимостью и почти с вызовом: «Ну и что ж? И расплачусь, и пускай что будет со мной, то и будет. Зато я буду знать, что это у меня было, и что бы ни случилось, это всегда останется со мной. А цена – никакой цены за это не жалко!»
И хоть Люда продолжала плакать, склонившись головою на грудь Аниськи, хоть плечи ее продолжали дрожать, а слезы не переставали литься из глаз, это были уже не горькие слезы раскаяния, горя и страха, это были сладкие, манящие слезы отчаянного счастья, которое она теряла теперь навсегда.
А виновник ее слез и счастья, ничего об этом не зная, сидел в ее хате, вытянув под столом сильные ноги в голубых носках и тапочках: белая сорочка открывала его загорелую грудь, он блаженно улыбался своим мыслям, хоть ни о чем, собственно, не думал, и с наслаждением мурлыкал над кружкой холодного молока, потому что ему было совершенно безразлично, над чем мурлыкать: над холодным молоком, над самоотверженной и влюбленной красотой Люды или над приветливой отчужденностью далекой от него Варвары.
А Варвара печатала снимки для генерала Савичева. В погребе пахло бочкой из-под соленых огурцов, проросшей картошкой, свеклой и капустой – той смесью запахов, что всегда стоит в таких погребах.
Красновато поблескивал раствор проявителя в ванночке, куда Варвара клала снятую с доски увеличителя экспонированную бумагу. И хоть она давно уже привыкла к известным ей манипуляциям, почему-то сегодня они по-новому волновали ее. Почти все снимки вышли хорошо. Варвара уже зафиксировала их, теперь оставалось только промыть и просушить. Все, что было связано с фотографированием танка, так же прочно зафиксировалось в памяти Варвары навсегда. Этого уже никакими водами не смыть, никакими кислотами не вытравить!
Окаменевшее лицо Васькова смотрело на Варвару из кабины грузовика. Хоть освещение было совсем скверное, снимок получился тоже хороший – она напечатает его потом, сейчас ей некогда, напечатает и отдаст, – Васьков будет доволен. А где искать Гулояна, чтоб отдать ему снимок? И жив ли теперь Гулоян? Может, уже и Гулоян лежит, накрытый плащ-палаткой…
Остался только один неотпечатанный снимок, последний на пленке. Варвара осторожно подвела последний кадр под луч увеличителя. Медленно проплыли отсчитанные шепотом секунды, свет снова погас. Варвара в красноватой полутьме взяла кончиками пальцев бумагу за ребро, не касаясь глянцевой поверхности, и на цыпочках перенесла ее в ванночку. Бумага утонула в растворе проявителя, края ее поднялись, сворачиваясь трубочкой. Варвара осторожно прижала их ко дну и стала покачивать ванночку, чтобы раствор поскорей подействовал на светочувствительную бумагу.
Медленно, будто преодолевая сильное сопротивление, на бумаге, покрытой раствором, начали проступать едва заметные потемнения, они сгущались, наливались чернотой, соединялись и наконец вырисовались человеческим лицом, лицом человека, который по непонятным и неизвестным причинам стал таким близким Варваре. Варвара продолжала покачивать ванночку короткими осторожными движениями. Уже выступили четко все световые пятна на лице, оно широко улыбалось Варваре: казалось, Лажечников что-то хочет сказать ей, но блестящая волна раствора заливала его, и он не успевал сказать то, что Варвара хотела услышать.
Варвара вздохнула глубоко и счастливо, вынула снимок из проявителя, но, вместо того чтобы сполоснуть его и положить в фиксаж, медленно разорвала мокрую бумагу на длинные узкие полоски, аккуратно сложила их и снова разорвала на маленькие квадратики. Она вытерла руки о тряпочку, лежавшую на доске, и, почти не прикасаясь, осторожно высвободила пленку из увеличителя. Так будет лучше. Маленькие ножницы отрезали конец пленки, один только кадр. Варвара завернула его в чистую бумажку и положила в свою записную книжку. Когда-нибудь она напечатает его на хорошей бумаге – Варвара улыбнулась – и, может быть, оправит в рамку и поставит у себя на столе, а пока она не хочет ни с кем делиться этим лицом, этой улыбкой, взглядом этих внимательных, добрых глаз.
Варвара ступила на лесенку, подняла над собой крышку и стояла, высунувшись из погреба по пояс, облитая солнцем, которое уже переместилось на небе и теперь щедрым снопом света входило в сени. В проеме дверей виден был зеленый двор, колодец, стена сарайчика. Люда стояла на меже с Аниськой, лица у обеих были просветленные печалью, они говорили о чем-то шепотом, обе красивые, каждая по-своему. Варвара увидела их и вдруг поняла, о чем они говорят, поняла их печаль, словно способна была читать человеческие мысли на расстоянии. И она подумала, что и у нее, и у Люды, и у Аниськи – у всех женщин на земле одна печаль и что в этой печали скрыта великая сила, которая дает возможность жить и порождать жизнь.
И хоть Варвара совсем недавно нашла то, что могла называть своим счастьем, в это мгновение, глядя на Люду и Аниську, она какой-то одной, может самой глубокой, частью своей души ощутила, что чужая печаль напоминает о возможности утраты, которая скрыта в каждой встрече и каждой надежде. «Нет! – крикнула в душе Варвара. – Я не хочу больше терять!» – но крик этот, в котором отозвалась вся ее давняя боль, замер, словно растворился, угас, залитый чужими слезами, и она уже почти примирилась со всем, что могло ее ждать.
3
Впервые за много месяцев генерал Костецкий лежал не на земляных нарах под тулупом, а на настоящей кровати, застланной простыней, под настоящим одеялом. Правда, кровать была железная, низкая, покрашенная грязно-зеленой краской, бязевая простыня пожелтела от многократной стирки, а свекольного цвета одеяло, лучшее из тех, какие были в медсанбате, напоминало конскую попону, – но все это не имело для него значения. Кровать для генерала поставили в узкой и длинной учительской комнате гусачевской школы, где помещался медсанбат. Костецкий лежал головой к окну, затененному кустом бузины. Военврач Ковальчук не пускал Ваню к генералу, в дивизию ординарец не возвращался – его место было здесь, с этим приходилось соглашаться. Окно было открыто, под кустом сидел Ваня. Утреннее солнце перемещалось в небе, тень от веток бузины передвигалась по синеватой стене учительской: раскрывая глаза. Костецкий видел се каждый раз на новом месте.
Алексей Петрович Савичев сидел на табуретке в ногах у Костецкого. Он держал на коленях свою генеральскую фуражку, не зная, куда ее положить. Для Катерины Ксаверьевны принесли гнутый венский стул, она поставила его рядом с кроватью Костецкого так, чтоб он мог видеть ее лицо. Давно они не сходились втроем – все не было случая, всегда что-то мешало, да и отношения были слишком сложные, чтоб часто встречаться.
– Отлежишься немного, Родя, – сказал Савичев, глядя на коричневое, как обожженная глина, лицо Костецкого, – отлежишься немного, и мы тебя отправим самолетом в Москву, там тебя быстро поставят на ноги.
Главный хирург и главный терапевт фронта осмотрели Костецкого и доложили Савичеву, что положение генерала безнадежное: конца надо ждать с часу на час.
– Санитарный самолет стоит наготове, – продолжал Савичев, глядя уже не на лицо Костецкого, а на околыш своей фуражки, на котором справа, у самой пуговицы, проступило какое-то рыжеватое пятнышко. – Тебя будет сопровождать врач, и Катя с тобою полетит… Через месяц вернешься в свою дивизию как ни в чем не бывало.
Катерина Ксаверьевна посмотрела на мужа удивленно и сурово: о санитарном самолете и о полете с Родионом в Москву она впервые слышит, – зачем Алеша все это говорит? Стоит Костецкому раскрыть глаза, как по лицу Савичева он поймет, что все это неправда. Алеша никогда не умел лгать. Вот и сейчас, хоть Костецкий его не видит, он уперся глазами в пятнышко на своей фуражке и не может оторвать от него глаз, словно разглядывает свою совесть. Почему с больными всегда говорят, как с детьми? Он же сильный человек, их Родион Павлович, ему не нужна эта трусливая ложь, да его и не обманешь. По тому, как он лежит с закрытыми глазами, сложив под одеялом руки на груди, видно, что он все знает и ко всему давно уже готов.
Странно, она представляла себе Родиона гораздо старше, а у него совсем молодое лицо, – или, может, это болезнь вернула его чертам ту упрямую напряженность, которую она знала когда-то? Ему всегда надо было бороться; собственно, эта постоянная борьба и вырезала черты упорства на его лице. То он боролся со своей неграмотностью, от которой страдал, – все ему не хватало знаний, надо было знать больше, читать, записывать слова, смотреть в словари, чтоб не страдало самолюбие, когда при тебе разговаривают будто на иностранном языке; то надо было укрощать свою ревность, чтоб не потерять вместе с любимой еще и друга – такой двойной утраты он не смог бы пережить; то он спешил на помощь другу, который сделал его одиноким на всю жизнь, – спешил с риском, границ которого нельзя было предвидеть. Вот отчего у Родиона такое упрямое, сухое лицо и такой неприятный, резкий голос, словно он все от кого-то отбивается, словно ему всегда надо быть наготове. Мало кто знает, что за этим окаменевшим, почти жестоким лицом, за этим неприятным, резким голосом скрывается мягкая, вконец израненная душа, – да знала ли это и сама она до последней минуты?