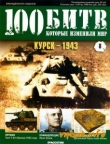Текст книги "Дикий мед"
Автор книги: Леонид Первомайский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 34 страниц)
Курлов был раздражен до предела, и, как всегда в таких случаях, на его худом продолговатом лице отражалась борьба, которую он вел с собой. Голос его звучал угрожающе-спокойно. Курлов втайне радовался, что ему попался под руку Уповайченков: можно будет сорвать на нем злость, тогда разговор с генералом пройдет спокойно, «на отработанном паре».
– Вы могли бы явиться в политотдел раньше, чем на переправу, – довольно спокойно начал Курлов, хоть и не обманывался насчет своего мнимого спокойствия. – Не пришлось бы тут угрожать перестрелкой.
Он снова оглядел Уповайченкова с головы до ног, странный вид капитана взорвал его, и, уже не сдерживаясь, Курлов с презрением прошипел, словно и вправду выпуская из себя пар:
– Что это у вас за экипировка? Вы же на чучело похожи!
Уповайченков не мог пропустить мимо ушей нового «чучела», он плеснул на Курлова беловатым студнем полных ненависти глаз и прокричал:
– Вы не смеете со мной так разговаривать! Я корреспондент!
Курлов спрятал удостоверение Уповайченкова в карман своего кителя.
– Кор-рес-пон-дент? – по слогам, словно в первый раз слыша и не понимая этого слова, прошипел Курлов и вдруг, будто поняв, что оно значит, соединил слоги и с нажимом выкрикнул: – Корреспондент!
Данильченко, прислушиваясь к словам полковника, уперся веслом в дно.
– Давай отчаливай!
Лодка выскользнула из камыша на открытый простор реки. Вода блеснула полосой синего стекла, по которому проплывали белые кучевые облака. Данильченко быстро вел лодку по синему стеклу, по белым облакам, разрезая их веслом.
– Корреспондент, значит! – снова начал выпускать из себя пар Курлов. – Это вы, значит, написали, что русский народ любит воевать?
Уповайченков ужаснулся, а Курлов продолжал, все больше возмущаясь и делая все большие усилия, чтобы сдерживаться:
– А вы сами любите воевать? Или вам правится расписываться за других? Я, например, не люблю. Раньше мне казалось, что люблю, а потом я понял, что любить здесь нечего.
Мутные глаза Уповайченкова остановились, он не мог пошевельнуться от удивления и ужаса. Что он говорит, этот отчаянный полковник? Как он смеет так говорить?
– А вы подумали, что значит любить воевать? Сказать за весь народ, что он любит, чтобы его убивали, разрушали его города, жгли села, вытаптывали поля? Народ любит, чтобы его женщины становились вдовами в молодости, дети оставались без отцов, матери теряли сыновей! Это любит народ? Народ любит воевать! Народ любит трудиться, а воюет из необходимости… И от монголов отбивался из необходимости, и от французов в восемьсот двенадцатом, и от интервентов в девятнадцатом.
Уповайченков не мог допустить, что полковник не знает, кому принадлежат слова о русском народе. Уповайченков повторял эти слова в своих статьях, печатавшихся в газете и за его подписью и без подписи, и, повторяя, верил в эти слова, не вдумываясь в их содержание. Он и теперь не переставал верить и не хотел вдумываться, он только ужасался и соображал мысленно, как должен реагировать на неслыханную откровенность полковника, да еще в присутствии рядового! Конечно, полковнику удобно притворяться, что он не знает автора этих слов, и приписывать их корреспондентам, – этой хитростью он ничего не добьется, не укроется от ответственности… Перед кем? Уповайченков знал уже, перед кем и как должен будет отвечать полковник. Пусть только он, Уповайченков, вернется в корреспондентский хутор…
– Походили бы вы в солдатской шкуре, – услышал снова Уповайченков голос отчаянного полковника, – а потом и писали бы, кто да что любит! Имейте в виду: я буду читать все, что вы напишете.
– Вы не имеете права!
– Ну? Вы так думаете?
Курлов буравил его таким сумасшедше-спокойным взглядом, что Уповайченков не выдержал и склонил голову.
– Вот то-то и оно! – удовлетворенно прошипел полковник.
Уповайченков видел у себя перед ногами на дне лодки лужу воды, в которой плескалось, то широко расплываясь, то вытягиваясь в длину, уже ненавистное ему лицо Курлова. Он с силой ступил ногой в лужу, прямо на лицо полковника.
– Осторожно, товарищ капитан, лодку перевернете! – крикнул Данильченко, и в эту минуту в воду спокойной реки со свистом и грохотом упал снаряд.
– Давай, давай, Данильченко, – не сводя глаз с Уповайченкова, сказал Курлов.
– Да я даю, – отозвался солдат.
Уповайченков сидел неподвижно. Ни одна черточка не изменилась в его лице. Он слишком был занят в эту минуту собой и своей стычкой с Курловым, чтоб обращать внимание на какие-то там снаряды, даже если они и рвутся рядом; кроме того, он знал, что на фронте должны стрелять, и видел корреспондентов, возвращавшихся с фронта невредимыми, поэтому и не мог допустить, что один из многих немецких выстрелов, орудийный, минометный или винтовочный, рассчитан именно на него. Само собой разумелось, что Уповайченков, в силу исключительного своего положения корреспондента центральной редакции, командированного для обеспечения своей газеты фронтовою информацией, должен был вернуться живым-здоровым в редакцию, выполнив свое задание без досадных осложнений в виде ранения или смерти. Такие осложнения его сознанием исключались, поэтому он и чувствовал себя совсем спокойно.
«А он, кажется, ничего, – удивленно подумал полковник Курлов, глядя на Уповайченкова, – хорошо держится».
Данильченко гнал лодку сильными взмахами весел. С каждым рывком лодки приближалась мертвая зона, которая создавалась для снарядов вершиной обрыва и горизонтом реки, и опасность уменьшалась. Лодка легла носом на песок. Курлов выскочил первым.
– Возьмите ваше удостоверение и можете заниматься своим делом, – примирительно сказал Курлов Уповайченкову, когда тот не спеша вышел из лодки следом за ним, – сказал и сразу же забыл об Уповайченкове, потому что увидел под обрывом Костецкого, который был для него важнее, чем приезжий корреспондент.
На капитана, прибывшего на плацдарм с начальником политотдела дивизии, никто не обращал внимания: это было обычное явление. Уповайченков слонялся по берегу, терпеливо ожидая минуты, когда Костецкий будет вручать ордена. Он пробовал завязывать разговоры с офицерами, но без особых успехов. Тогда Уповайченков, не снимая плаща, лег на песок под обрывом, накрыл лицо фуражкой и заснул под грохот снарядов и пулеметные очереди. На это тоже никто не обратил внимания. Проснулся он уже под вечер. Генерал Костецкий сидел в той же позе на перевернутой лодке, вокруг него стояли все те же офицеры. Уповайченков подошел решительными шагами к лодке и спросил у широкоплечего, тяжеловатого на вид полковника:
– Генерал еще не вручал орденов?
Лажечников посмотрел на него с жалостью и сочувствием и ничего не ответил.
Вершины деревьев за рекой еще освещало солнце, но берег уже утопал в густо-сиреневом сумеречном свете.
Варвара осторожно спускалась с обрыва, поддерживая Гулояна. Противотанковое ружье они оставили у артиллеристов. Гулоян шатался, как пьяный, голова его все время клонилась на грудь Варваре. Обессилев от потери крови, он шел словно во сне, еле передвигая ноги, и она должна была приспосабливать свои широкие шаги к его мелким, неуверенным шажкам.
Под обрывом Варвара остановилась. В лодку входили легкораненые, и слышался голос Данильченко, уже державшего весла наготове:
– Веселей, братки! Отвоевались? Ничего, зашьют, залатают – и снова к нам!
Варвара осторожно посадила Гулояна на песок под обрывом и пошла к лодке, чтобы позвать кого-нибудь на помощь.
– Позовите-ка сюда эту домашнюю хозяйку, – криво улыбнулся, ни к кому не обращаясь, Костецкий.
Ваня сразу понял его. Курлов и Лажечников не поняли глухих слов Костецкого и, только глянув вслед Ване, с неодинаковым чувством увидели, как он быстро подбежал к женщине– фотокорреспонденту, что-то сказал и уже идет с ней к Костецкому.
Для Курлова это означало новую проволочку с отправкой упрямого генерала в штаб дивизии. Он недовольно сморщил лоб и стал глядеть в другую сторону. Ответственность, конечно, лежит на нем, но не может же он силою заставить генерала больше не задерживаться на плацдарме.
Лажечников, увидев Варвару, понял, что, думая о ходе боя на плацдарме, отдавая нужные приказы, разговаривая по телефону и выслушивая подчиненных, он все время, не отдавая себе отчета в этом, думал о ней.
«Плохи твои дела, Лажечников!» – сказал он сам себе, не сводя глаз с Варвары, которая устало приближалась к Костецкому.
Вид у Варвары был растерзанный. Пилотку она потеряла, волосы рассыпались и прядками прилипли ко лбу. На гимнастерке и продранных на коленях штанах темнели пятна присохшей земли, машинного масла и сока раздавленной травы; Варвара давно уже махнула на себя рукой. Она молча остановилась перед Костецким.
«Зачем он позвал меня? – думала Варвара, обеспокоенная тем, что Костецкий может надолго ее задержать, а Гулоян будет тем временем ожидать на песке. – Я все равно пришла бы сюда через несколько минут, ведь тут мой аппарат…»
Она отыскала взглядом Лажечникова. Он смотрел на нее с такой нежностью, с таким сочувствием, что Варваре легким и радостным показался весь сегодняшний день, все его ужасы и трудности.
– А вы все еще тут? – неожиданно отчетливо проговорил Костецкий. – Почему вы еще тут? Сфотографировали?
– Сфотографировала, товарищ генерал, – ничуть не боясь Костецкого и удивляясь тому, что она его не боится, легко вздохнула Варвара. – Давно уже сфотографировала.
– Тогда чего же вы тут топчетесь? – недовольно сказал Костецкий. – Вы давно уже должны быть у Савичева.
– Так и вы ведь должны быть в штабе дивизии, – тихо и ласково ответила Варвара и, заметив смущение на лице Костецкого, еще тише и ласковей добавила: – Ведь правда?
– Правда, правда! – обрадовался этому неожиданному вмешательству в самую суть дела, которое так его беспокоило, полковник Курлов. – Нас генерал не слушает, мы люди военные, – может, он послушает вас?
– Так и я ведь полувоенная.
– Тогда пускай он прислушается к вашей невоенной половине!
Костецкий засмеялся, и все поняли, что эта шутка неожиданно и безболезненно сломила его сопротивление.
– Ничего не поделаешь, – сказал Костецкий, подымаясь. – Сдаюсь.
– Давно бы так, товарищ генерал, – на всякий случай подошел к нему поближе Лажечников. – Сейчас вернется Данильченко с левого берега.
Костецкий не расслышал не очень тактичного «давно бы так», и Лажечников этому обрадовался: одно слово могло все испортить. Костецкий тем временем думал о другом.
– Вы, кажется, привели раненого, – проговорил он, покачнувшись и недовольным движением отстраняя Ваню, который тут же подхватил его под локоть. – Где вы его взяли?
Костецкий не ставил вопрос прямо, хотя в глубине души надеялся услышать от Варвары такой ответ, который оправдал бы его затянувшееся пребывание на плацдарме.
– Там, – махнула рукой в направлении обрыва Варвара и сразу же поняла, что это ее неопределенное движение ничего не говорит генералу: где же еще могла она подобрать раненого? – В окопе бронебойщиков… Это Гулоян, он подбил танк, который я фотографировала.
Костецкий движением плеч сбросил на руки Ване шинель и напряженно-твердой походкой, прямо, как палки, переставляя ноги, не сказав никому ни слова, пошел к тому месту под обрывом, где лежал Гулоян. Все поспешили за ним: Ваня с шинелью в руках, Лажечников и Курлов, вполголоса перебрасываясь меж собою короткими фразами, и, наконец, Варвара, удивленная тем, что фамилия Гулояна так взволновала генерала.
Уповайченков, так ничего и не поняв из того, что весь день происходило на его глазах, шел вместе со всеми. Он все-таки дождался вручения орденов, на котором вызвался присутствовать, и был почти полностью удовлетворен. Он был бы вполне удовлетворен, если б не понял, что женщина, которая привела на берег раненого бронебойщика, это и есть та самая Варвара Княжич, которой не место тут, на фронте, среди защитников Родины.
Он хотел сразу же сказать об этом генералу, но не успел. Навстречу им с обрыва спускался капитан Жук. В темноте, успевшей уже сгуститься, Жук видел людей, но не узнавал их и, думая, что это бойцы его батальона, кричал на ходу:
– Перевезли Гулояна? Где Гулоян, славяне?
– Я тут, товарищ капитан, – отозвался слабым голосом Гулоян, поднимая голову на знакомый голос командира батальона. – Я ничего… не спешу…
Генерал Костецкий и капитан Жук одновременно подошли к раненому. Капитан узнал генерала и, вскинув руку к шлему, сразу же рванул ее вниз и окаменел, как на параде перед знаменем.
– Прошу прощения, товарищ генерал.
Не слушая его и глядя вниз, на раненого бронебойщика, Костецкий из последних сил проговорил очень медленно, но громко:
– Вы Гулоян?
– Сержант Гулоян, так точно, товарищ генерал, – послышалось снизу, где серое лицо бронебойщика сливалось с серым песком и неотчетливым пятном плыло и колебалось перед глазами у Костецкого.
– Арам Багдасарович?
– Так точно, – снова проговорил песок.
– За героизм и мужество, проявленные на фронте борьбы с немецкими захватчиками, вы награждаетесь орденом Славы первой степени. Поздравляю вас!
Костецкий выговаривал слова выпукло и выразительно, в голосе его звучала непривычная теплота и ласковость, и вместе с тем чувствовалась в нем гордость: все эти чувства были обращены к Гулояну, для него была теплота и ласка в голосе генерала, им он гордился, его жалел, – так это было в действительности, и так это понимали все присутствующие. Но сам Костецкий знал и понимал больше: это была последняя его теплота и последняя жалость к самому себе, гордился он и собою, потому что смог продержаться до последней минуты и выполнить свой долг.
– Служу Советскому Союзу… – поднялось над песком и приблизилось к глазам Костецкого лицо Гулояна; Ваня вовремя подхватил генерала, Костецкий выпрямился; лицо Гулояна слилось с песком.
Костецкий протянул руку ладонью вверх, Ваня положил на нее орден. Генерал хотел сам приколоть орден к гимнастерке бронебойщика, но почувствовал, что, наклонившись над раненым, встать уже не сможет.
Не имея мужества признаться в этом самому себе, не только своим подчиненным, Костецкий стоял неподвижно и молчал, в ладони у него тускло блестела большая звезда. Варвара сделала шаг вперед, взяла орден из руки генерала и склонилась над Гулояном. Костецкий не протестовал, вероятней всего потому, что орден взяла эта женщина, так неожиданно вошедшая в жизнь его дивизии, а не Лажечников и не Курлов, перед которыми ему было особенно стыдно.
Лажечников и Курлов, которые давно уже стояли по обе стороны Костецкого, тоже сделали вид, что так и нужно: ничего другого им не оставалось.
Уповайченков был до крайности возмущен тем, что происходило на его глазах. Теперь Уповайченков наконец понял, что генерал Костецкий с трудом держится на ногах, но он не мог понять, почему так нянчатся с Костецким его подчиненные. Будь он на их месте, Уповайченков насильно эвакуировал бы генерала на левый берег, а то и подальше, и положил бы конец этой комедии человечности, что становится еще более непристойной из-за вмешательства женщины, и духу которой тут не должно быть.
Конечно, теперь, в эти минуты, ничего уже нельзя сделать, Уповайченков понимал, что он не имеет права нарушать ход событий, как бы странно они, по его мнению, ни складывались. Позднее он вернется к Варваре Княжич и к факту ее появления и недопустимо наглого поведения на передовой. Это его обязанность, а он не привык уклоняться от выполнения своих обязанностей, какими бы тяжелыми они ни были.
– С вами был рядовой Шрайбман, он тоже награжден, – тем временем говорил Гулояну Костецкий, чтоб довести дело до конца. – Надеюсь, он не ранен?
Гулоян молчал. Все молчали, ожидая его ответа. Варвара не выдержала этого молчания и громко всхлипнула.
– Это что еще там? – проскрипел над ней голос Костецкого, и она, испуганно глотая комок слез, подкатившийся к горлу, выговорила:
– Рядовой Шрайбман убит, товарищ генерал.
Костецкий ответил не ей, а своим мыслям:
– Орден будет отослан на сохранение семье Шрайбмана.
Варвара приколола орден к гимнастерке Гулояна и теперь уже стояла рядом со всеми.
– Семья Шрайбмана на оккупированной территории, – сказала она, проглатывая новый комок слез, подступивший к горлу.
– …будет вручен семье награжденного после освобождения временно оккупированных территорий, – услышала Варвара усталый голос Костецкого и вслед за тем увидела, как он начал медленно поворачиваться, чтоб отойти, но вдруг выгнулся колесом назад, схватился за поясницу, сделал два непомерно больших шага к реке и упал лицом в песок.
Все это произошло так быстро, что никто не успел подхватить генерала – ни Ваня, который все время боялся, что это случится, и в последнее мгновение словно окаменел от неожиданности и испуга, ни Лажечников и Курлов, которые все время стояли по обе стороны от генерала, как почетный караул, ни капитан Жук, который первым бросился на помощь генералу, но был слишком далеко. Потом уже все сделалось само собой. Лодка Данильченко подошла к берегу. Генерала осторожно подняли и перенесли в лодку. Когда его опускали на застланный плащ-палаткой камыш, он проговорил:
– Гулояна не забудьте.
Гулояна положили рядом с ним. В лодку вошли Лажечников, Курлов и Варвара. Ваня оттолкнул лодку от берега и сел на корме.
– Ваня! – позвал Костецкий.
Ваня, осторожно балансируя в воздухе руками, перешел к генералу и сел на дно лодки, неудобно вытянув ноги вперед.
Костецкий заговорил, обращаясь только к Ване, словно боялся, что больше у него не будет времени с ним поговорить.
То, что его слушали все, кто был в лодке и перед кем он привык испытывать неловкость, как испытывает неловкость начальник перед своими подчиненными, пряча от них свой внутренний мир, то, что его слушали Лажечников и Курлов, Варвара и Данильченко, для него не имело теперь значения, как уже не имело для него значения ничто, кроме этого последнего разговора.
– Я тебя усыновить думал, Ваня, – говорил Костецкий, медленно шевеля губами и глядя снизу вверх на лицо ординарца, белевшее над ним в темноте. – Думал усыновить, да боялся, что родители твои будут обижаться… на тебя.
Ваня ловил каждое слово генерала.
– Мне тоже обидно было бы, если б сын от меня отказался. У тебя отец хороший?
– Хороший, – сказал Ваня, сдерживая слезы, – очень хороший…
– Если б и плохой был, все равно не отрекайся. Знаешь, у нас было время, когда дети от родителей отказывались… Это они, чтоб легче жить,
Костецкий замолчал. Ваня осторожно подложил ему руки под голову. Курлов разминал в пальцах папироску и не решался закурить, не столько потому, что нельзя было зажигать огня, сколько из-за слов Костецкого, глубоко взволновавших и его. Он сидел на скамье между Лажечниковым и Варварой и словно отгораживал их друг от друга. Данильченко осторожно вел лодку, чуть касаясь веслами воды.
– А что толку в легкой жизни? Главное в человеке – совесть. Не люби плохого отца, иди своей дорогой, но не отрекайся. Будет в беде плохой отец, все равно надо помочь. Он тебя произвел на свет, дал тебе радость быть человеком лучшим, чем он, – чем ты его отблагодаришь? Ты слушаешь меня, Ваня?
– Слушаю, – отозвался Ваня.
Генерал говорил простыми словами, которых Ваня от него никогда не слышал. Если б он услышал эти слова от родного отца, они бы не удивили и не поразили его так сильно, но в устах Костецкого эти слова звучали всей силой заложенного в них чувства и выстраданной убежденности. Молодой солдат, которого Костецкий спас от смерти и полюбил, как сына, знал, что ему нечего стыдиться родного отца и незачем отрекаться от него, многосемейного колхозника, но вместе с тем он чувствовал и знал, что любит сурового с виду, но безгранично доброго умирающего человека, голова которого, тяжелая как гиря, лежит у него в ладонях, любит больше, чем родного отца. И если б он спросил у себя, за что любит, и подумал бы над этим вопросом, и захотел бы на него ответить, он сказал бы, что любит Костецкого за то, что тот, не будучи родным отцом, показал ему такой пример жизни, которого и родной отец не смог бы показать.
– Вспоминай меня, Ваня, – сказал Костецкий и замолк.
Лодка тихо ткнулась в песок, и они все вместе осторожно и неумело начали выносить генерала на берег.
Уповайченков остался на плацдарме»
14
Впереди шел Курлов, освещая тропинку трофейным потайным фонариком. За ним санитары несли на носилках Костецкого. Ваня шел то рядом с носилками, отстраняя ветки, нависавшие над тропинкой, то забегал вперед, чтобы посмотреть дорогу. В лесу было холодно и сыро.
Иногда Ваня брался за носилки – не для того, чтоб помочь санитарам, в этом не было надобности, – а чтоб прикосновением своим почувствовать самому и дать почувствовать Костецкому, что связь меж ними не рвется.
«Я тут, – означало это прикосновение для Вани, – я не оставлю тебя».
«Он меня не оставит, – говорило это прикосновение Костецкому, который лежал на носилках, подложив кулаки под поясницу. – Он тут…»
Разбухшая после ливня тропинка чавкала и мягко прогибалась под ногами.
Варвара и Лажечников отстали.
Сразу же за деревьями, которые лишь угадывались по обе стороны тропинки, начиналась темнота и тишина, – в тишине не слышалось ничего, кроме вздохов сырой листвы да внезапного испуганного крика ночной птицы.
Варвара протягивала вперед руку, чтобы защититься от веток, невидимых в темноте, спотыкалась о корни, что пересекали тропинку, будто окаменевшие ужи. Лажечников шел за нею, она слышала его тяжелое дыхание, оно словно догоняло ее, и она старалась идти быстро, так быстро, как только позволяло уставшее за день сердце. Невольно приходило ей в голову, что это похоже на преследование и бегство, тем более безнадежное, что ее преследовало собственное сердце и она не могла убежать от него. «Пустите, я пойду впереди», – услыхала она за собой и сказала, не останавливаясь:
– Не надо.
Идти за ним было бы еще труднее: нелегкое дело – догонять то, от чего хочешь бежать. Варвара понимала, что ей некуда деться, что она не убежит от того, что ей суждено, что ее встреча с Лажечниковым была неизбежной, рано или поздно она должна была встретить его, но она ни на минуту не переставала бороться с собой, отрицать свое право на эту встречу, право на ту тревогу, что владела сейчас ее душой и должна была разрешиться новым счастьем или новой мукой – теперь ей было уже все равно.
Как плывут рядом две реки, два внешне спокойных, но полных внутреннего смятения потока, так текли их молчаливые мысли, то раздельно, словно не зная друг о друге, то сливаясь в одном водовороте, чтобы вскоре снова разойтись, разделиться на два русла, обогащенные друг другом, но по-прежнему непримиримо враждебные. В этой мучительной враждебности, в отстаивании собственной независимости, в стремлении сберечь горькую чистоту и суровость опаленной страданием души было тайное обетование нежности, которая не щадит себя и не знает своей силы.
Может быть, нужна ей, этой тайной нежности, что кроется под их молчанием, опасная преграда, высокая плотина, как водам медленной степной реки, чтобы показать свою силу, способную вызвать энергию зримой жизни из того покоя неподвижности, под которым будто и не кроется ничего. И чем грознее преграда, чем выше плотина, тем круче падение воды, преодолевающей ее, тем больше энергия нежности, сдерживающей себя, как исполин, что сам боится своей силы,
Лажечников и Варвара молчали.
«Все равно, теперь уже все равно, что будет со мной и чем обернется эта тревога, что живет во мне, все равно, буду я счастлива или несчастлива, – думала Варвара и улыбалась в темноте самой себе, своим мыслям, той буре, что не смолкая пела в ее сердце. – И как можно думать, что я буду несчастлива, если то, что творится во мне, это уже счастье, и нет и не может быть большего счастья… Словно я была мертва и лежала в земле и надо мною росла трава, а я ее не видела, – на глазах моих лежала черпая сыпучая земля, – но вдруг я ожила и увидела эту траву и разбросанные в ней маленькие синие цветы… Зачем же я хочу бежать от этих синих цветов, которые растут только в жизни?»
Варвара остановилась, так испугала ее мысль, что она сама, по собственной воле может отказаться от своего счастья.
– Вы устали?
Лажечников был рядом и напомнил о себе так осторожно и тихо, словно боялся разбудить ее. Он, казалось, понимал, что происходит с Варварой, и давал время вызреть той буре, что бушевала в ее сознании. А возможно, он прислушивался лишь к своей буре, приглядывался к ней, как пловец перед тем, как броситься в опасный поток.
Он словно со стороны смотрел на самого себя, и тот Лажечников, которого он видел, казался ему если не совсем смешным, то, во всяком случае, достойным жалости.
– Милый ты мой, – думал с грустной иронией Лажечников, – все это наделали гнилые пни, к которым мы приближаемся. Те самые гнилые пни, на которые немцы бросали бомбы: думали, что огонь. А тебе нельзя ошибиться. Почем ты знаешь, что в душе у тебя огонь, а не кусочек гнилого дерева? Пока темно, он светится, а взойдет солнце – погаснет, раскрошится в пальцах. И, кроме всего этого, куда тебе до военврача Ковальчука!
А. что такое Ковальчук? И почему ты думаешь, что ты лучше Ковальчука? Неужели тебе достаточно того, что Ковальчук не скрывает или не умеет скрыть своих чувств, своих отношений с Олей Ненашко, чтоб осудить его, чувствовать над ним превосходство, моральное преимущество? В чем твое преимущество, Лажечников, в чем превосходство?
Чувство, каким бы оно ни было – тайным или открытым, остается чувством… Это верно, но Ковальчук изменяет своей жене, оставшейся там, где теперь фашисты, и в этом виноваты те его чувства, которых он не может скрыть. А разве твое чувство, которое только что родилось и которого ты ни при каких обстоятельствах никому не покажешь, разве ты со своим чувством не изменяешь своей жене, которой уже нет? Неужели то, что она не знает и никогда не сможет узнать о твоей измене, освобождает тебя от долга любви и верности, который связывал вас?
Допустим, что освобождает, что ты свободен, Лажечников. Почему же ты не чувствуешь себя свободным, не чувствуешь в себе той свободы, которую чувствует Ковальчук, – если он чувствует ее? И в чем эта свобода? Неужели только в том, чтобы, встретив Олю Ненашко с ее ненасытной, первобытной жаждой жизни, с ее круглым, как у окуня, ротиком, который хватает живца, как только увидит, – чтобы, встретив Олю Ненашко, ты потерял свою свободу, лишился ее?
И вдруг Лажечников понял, что в его несвободе, так, как он ее понимает, больше свободы, чем в чувствах и поступках Ковальчука, – он свободен сдерживать, укрощать, ограничивать себя, свое сердце, свою душу, его несвобода дает ему силу быть человеком, а свобода Ковальчука оборачивается для военврача ярмом, которое он бессилен сбросить.
Они остановились и стояли рядом на узкой тропинке. Лажечников хотел спросить, тяжело ли было Варваре днем на плацдарме, но это могло стать началом разговора, конца которого нельзя было предвидеть, – и он не спросил. Варвара и хотела и боялась снова услышать голос Лажечникова. Кому-то надо было нарушить молчание, и, чтобы предупредить его, она сказала:
– Идемте, я не устала.
И снова тьма заколыхалась над тропинкой, и снова пересекали ее ветви и корни, снова протягивала Варвара руку вперед, и пригибалась, и спешила… Где-то очень далеко вздохнула пушка, прошелестел над лесом, тронув листву, ветер, блеснул фосфорический свет на поляне, струи его заколебались между черными стволами деревьев и поплыли вверх. Месяц уже взошел, его не было видно, но оттенок неба над поляной предупреждал: сейчас он их увидит.
Они не остановились на поляне.
«Как хорошо, что мы снова идем и что я не дала ему заговорить, – думала Варвара. – Бог знает, что могло бы быть, если б он сказал слово… А может, не надо было этого бояться? Может, надо было, чтоб он сказал? Но ведь я и так знаю, и он тоже знает… И все это теперь не имеет никакого значения, потому что эта ночь, и тропинка, и невидимый месяц за лесом, и даже вздох пушки где-то далеко-далеко – это счастье, которого могло бы и не быть.
Всего этого могло бы и не быть, если б я не встретила его, – вот в чем состояла теперь главная мысль Варвары. – Всем, что теперь происходит со мною и во мне, я обязана этой встрече. Если б ее не было, этой встречи, я сфотографировала бы подбитый танк, вернулась в корреспондентский хутор, проявила, отпечатала и отдала снимки генералу Савичеву и забыла бы об этой поездке, как о многих других поездках. Но я встретила его – и теперь уже ничего не смогу забыть. Все будет жить во мне: вчерашний ливень, и сидение в окопе бронебойщиков, и как я лежала в воронке и ногами выталкивала из нее мертвого немца, и Гулоян, и Шрайбман. Я никогда ничего не забуду. Это теперь мое богатство, и чувствовать это богатство дал мне он.
Почему именно он? Я совсем не знаю его, случайно встретила, могла бы встретить кого-нибудь другого. Значит, все, что со мной творится, идет от меня, а не от него? Значит, я еще способна и чувствовать, и помнить, и быть счастливой? Почему встречаешь человека, совсем чужого тебе, о существовании которого еще день тому назад ты ничего не знал, и он становится тебе близким и родным? Это – чудо. Со мной уже было это чудо когда-то давно… Потом жизнь моя без чуда была тяжкой и темной. А теперь чудо снова живет во мне и владеет мной, и я благодарна человеку, о котором еще вчера ничего не знала, благодарна за то, что он сотворил со мной это чудо. Чудо счастья. Чудо жизни».
За деревьями уже слышались голоса солдат. Лажечников и Варвара обходили пушки, грузовики, темные штабеля каких-то ящиков. Лажечников шел уже впереди, часовые узнавали его голос, ставший теперь начальственным, деловым голосом, темнота вдруг расступилась, открыв лунное небо, – и они вышли на поляну.
– Ужинать будем? – Лажечников остановился перед ступеньками, ведшими в блиндаж, и голос его снова прозвучал осторожно и тихо.
Она не успела ответить – подошел высокий офицер, на ходу окликая Лажечникова:
– Товарищ полковник? Начштадив на проводе… Что с генералом?
Луна заливала поляну, по которой от блиндажа к блиндажу ходили люди, тени двигались вслед за ними по высветленной луной, словно политой известью земле. Варвара увидела, как Лажечников резко шагнул в сторону от нее и пошел рядом с офицером, который спрашивал о Костецком. Она услыхала окончание фразы:
– …нового командира дивизии…
Еще несколько офицеров подошли к Лажечникову, но это было далеко от нее, и она уже не услышала, о чем они начали говорить.
Варвара постояла минутку у блиндажа, не зная, что ей делать и куда направиться теперь. О том, чтоб выбраться отсюда ночью, нечего и думать. Надо ждать до утра, – может, будет какая-нибудь машина… Она очень устала… Ну что ж, она и так опоздала с этими снимками. Савичев будет недоволен, но что она может поделать?